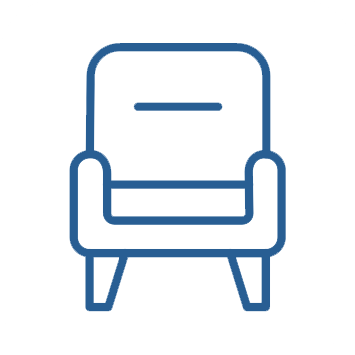- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
Государство
Πολιτεία
-

Платон Государство
Приобрести произведение напрямую у автора на Цифровой Витрине. Скачать бесплатно.
Диалог Платона, посвящённый проблеме идеального государства. Написан в 360 г. до н. э. С точки зрения Платона, государство является выражением идеи справедливости. В диалоге впервые отчётливо определяются философы как люди, способные постичь то, что вечно тождественно самому себе (идея).
Какие эмоции у вас вызвало это произведение?

0

0

0

0

0

0
Читать бесплатно «Государство» ознакомительный фрагмент книги
Государство
Платон
Государство
КНИГА ПЕРВАЯ
СОКРАТ, ГЛАВКОН, ПОЛЕМАРХ, ФРАСИМАХ, АДИМАНТ, КЕФАЛ
[Сократ]. Вчера я ходил в Пирей вместе с Главконом, сыном Аристона, помолиться богине, а кроме того, мне хотелось посмотреть, каким образом справят там ее праздник, — ведь делается это теперь впервые. Прекрасно было, по-моему, торжественное шествие местных жителей, однако не менее удачным оказалось и шествие фракийцев.[1] Мы помолились, насмотрелись и пошли обратно в город.
Увидев издали, что мы отправились домой, Полемарх, сын Кефала, велел своему слуге догнать нас и попросить, чтобы мы его подождали. Слуга, тронув меня сзади за плащ, сказал:
— Полемарх просит вас подождать его.
Я обернулся и спросил, где же он.
— А вон он идет сюда, вы уж, пожалуйста, подождите.
— Пожалуйста, мы подождем, — сказал Главкон.
Немного погодя подошел и Полемарх, а с ним Адимант, брат Главкона, и Никерат, сын Никия, и еще кое-кто, вероятно, с торжественного шествия. Полемарх сказал:
— Мне кажется, Сократ, вы спешите вернуться в город.
— Твое предположение не лишено истины, — сказал я.
— А разве ты не видишь, сколько нас здесь?
— Как же не видеть!
— Так вам придется либо одолеть всех нас, либо остаться здесь.
— А разве нет еще и такого выхода: убедить вас, что надо нас отпустить?
— Как же можно убедить тех, кто и слушать-то не станет?
— Никак, — сказал Главкон.
— Вот вы и считайте, что мы вас не станем слушать.
Адимант добавил:
— Неужели вы не знаете, что под вечер будет конный пробег с факелами[2] в честь богини?
— Конный? — спросил я. — Это нечто новое. Будут передавать из рук в руки факелы при конных ристаниях? Так я тебя понял?
— Да, так, — сказал Полемарх, — и вдобавок будут справляться ночные торжества, а их стоит посмотреть. После ужина мы пойдем смотреть празднество, и здесь можно будет встретить много молодых людей и побеседовать с ними. Пожалуйста, останьтесь, не раздумывайте.
Главкон отвечал:
— Видно, приходится остаться.
— Раз уж ты согласен, — сказал я, — то мы так и поступим.
Мы пошли к Полемарху[3] в его дом и застали там Лисия и Евтидема, его братьев, а также халкедонца Фрасимаха, пэанийца Хармантида и Клитофонта, сына Аристонима. Дома был и отец Полемарха Кефал — он мне показался очень постаревшим: прошло ведь немало времени с тех пор, как я его видел. Он сидел на подушке в кресле, с венком на голове[4], так как только что совершал жертвоприношение во внутреннем дворике дома. Мы уселись возле него — там кругом были разные кресла.
Чуть только Кефал меня увидел, он приветствовал меня такими словами:
— Ты, Сократ, не частый гость у нас в Пирее. Это напрасно. Будь я еще в силах с прежней легкостью выбираться в город, тебе совсем не понадобилось бы ходить сюда — мы бы сами посещали тебя там; но теперь ты должен почаще бывать здесь: уверяю тебя, что, насколько во мне угасли всякие удовольствия, связанные с телом, настолько же возросла потребность в беседах и удовольствии от них. Не уклоняйся же от общения с этими молодыми людьми и посещай нас, мы ведь с тобой друзья и близкие знакомые.
— Право же, Кефал, — сказал я, — мне приятно беседовать с людьми преклонных лет. Они уже опередили нас на том пути, который, быть может, придется пройти и нам, так что, мне кажется, нам надо у них расспросить, каков этот путь — тернист ли он и тягостен, или удобен и легок[5]. Особенно от тебя, раз уж ты в таких летах, когда стоишь, по словам поэтов, на пороге старости[6], мне хотелось бы узнать, в тягость ли тебе кажется жизнь или ты скажешь иначе?
— Тебе, Сократ, — отвечал Кефал, — я, клянусь 329Зевсом, скажу так, как мне кажется. Часто сходимся мы вместе, люди примерно тех же лет, что и я, оправдывая старинную поговорку[7]. И вот, когда мы соберемся, большинство из нас с сокрушением вспоминает вожделенные удовольствия юности — любовные утехи, попойки, пирушки и тому подобное — и брюзжат, словно теперь это для нас великое лишение: вот тогда была жизнь, а это разве жизнь! А некоторые старики жалуются на родственников, помыкающих ими, и тянут все ту же песню, что старость причиняет им множество бед. А по мне, Сократ, они напрасно ее винят: если бы она была причиной, то и я испытывал бы то же самое, раз уж я состарился, да и все прочие, кто мне ровесник. Между тем я не раз встречал стариков, у которых все это не так; например, поэту Софоклу был при мне задан такой вопрос:
"Как ты, Софокл, насчет любовных утех? Можешь ли ты еще иметь дело с женщиной?". - "Помолчал бы ты, право, — отвечал тот, — я с величайшей радостью ушел от этого, как уходят от яростного и лютого повелителя".
Ответ Софокла мне и тогда показался удачным, да и теперь нравится не меньше. Ведь в старости возникает полнейший покой и освобождение ото всех этих вещей; утихает и прекращается напряженность влечений, полностью возникает такое самочувствие, как у Софокла[8], то есть чувство избавления от многих неистовствующих владык. А им и домашним неприятностям причина одна — не старость, Сократ, а самый склад человека. Кто вел жизнь упорядоченную и был человеком добродушным, тому и старость лишь в меру трудна. А кто не таков, тому, Сократ, и старость, и молодость бывает в тягость.
В восхищении от этих его слов и желая вызвать его на дальнейший разговор, я сказал:
- Мне думается, Кефал, что люди, скажи ты им это, не согласятся с тобой, — они решат, что ты легко переносишь свою старость не потому, что ты человек такого склада, а потому, что ты обладатель большого состояния. Они считают, что у богатых есть чем скрасить старость.
— Ты прав, — сказал Кефал, — они не согласятся и попытаются возражать, однако, что бы они там ни думали, хорош ответ Фемистокла одному серифийцу, который поносил его, утверждая, что своей славой Фемистокл[9] обязан не самому себе, а своему городу:
"Правда, я не стал бы знаменит, будь я серифийцем, зато тебе не прославиться, будь ты хоть афинянином". Точно так же можно ответить и тем небогатым людям, которым тягостна старость: да, и человеку кроткого нрава не очень-то легко переносить старость в бедности, но уж человеку дурного нрава, как бы богат он ни был, всегда будет в старости как-то не по себе.
— А то, чем ты владеешь, Кефал, — спросил я, — ты большей частью получил по наследству или сам приобрел?
— Куда уж мне приобрести, Сократ! Как делец я занимаю среднее положение между моим дедом и моим отцом. Мой дед — его звали так же, как и меня, — получил в наследство примерно столько, сколько теперь у меня, но во много раз увеличил свое состояние, а мой отец Лисаний довел его до меньших размеров, чем теперь у меня. Я буду доволен, если оставлю вот им в наследство не меньше, а немножко больше того, что мне досталось.
— Я потому спросил, — сказал я, — что не замечаю в тебе особой привязанности к деньгам: это обычно бывает у тех, кто не сам нажил состояние. А кто сам нажил, те ценят его вдвойне. Как поэты любят свои творения, а отцы — своих детей, так и разбогатевшие люди заботливо относятся к деньгам — не только в меру потребности, как другие люди, а так, словно это их произведение. Общаться с такими людьми трудно: ничто не вызывает их одобрения, кроме богатства.
— Ты прав.
— Конечно, но скажи мне еще следующее: при значительном состоянии что бы ты считал самым большим и достижимым для тебя благом?
[Постановка вопроса о справедливости]
— Пожалуй,- сказал Кефал,- большинство не поверит моим словам. Знаешь, Сократ, когда кому-нибудь близка мысль о смерти, на человека находит страх и охватывает его раздумье о том, что раньше и на ум ему не приходило. Сказания, передаваемые об Аиде, — а именно, что там придется подвергнуться наказанию, если кто здесь поступал несправедливо, — он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают его душу: что если это правда? Да и сам он — от старческой ли немощи или оттого, что уже ближе стоит к тому миру, — как-то больше прозревает.
И вот он преисполняется мнительности и опасений, прикидывает и рассматривает, уж не обидел ли он кого чем. Кто находит в своей жизни много несправедливых поступков, тот подобно детям, внезапно разбуженным от сна, пугается и в дальнейшем ожидает лишь плохого. А кто не знает за собой никаких несправедливых поступков, тому всегда сопутствует отрадная надежда, добрая кормилица старости, как говорится и у Пиндара. [10]Превосходно он это сказал, Сократ, что кто проводит жизнь праведно и благочестиво, тому
Сладостная, сердце лелеющая, сопутствует надежда,
Кормилица старости;
Переменчивыми помыслами смертных
Она всего более правит.
Хорошо он это говорит, удивительно сильно. К этому я добавлю, что обладание состоянием очень ценно, но, конечно, не для всякого, а лишь для порядочного человека. Отойти отсюда в тот мир, не опасаясь, что ты, пусть невольно, обманул кого-нибудь, соврал кому-нибудь или же что ты в долгу перед богом по части каких-либо жертвоприношений или перед человеком по части денег, — во всем этом большое значение имеет обладание состоянием. Есть много и других надобностей, но, сравнивая одно с другим, я бы лично полагал, Сократ, что во всем этом для человека с умом богатство не последнее дело и очень ему пригодится.
— Прекрасно сказано, Кефал, но вот это самое — справедливость: считать ли нам ее попросту честностью и отдачей взятого в долг, или же одно и то же действие бывает подчас справедливым, а подчас и несправедливым? Я приведу такой пример: если кто получит от своего друга оружие, когда тот был еще в здравом уме, а затем, когда тот сойдет с ума и потребует свое оружие обратно, его отдаст, в этом случае всякий сказал бы, что отдавать не следует и несправедлив тот, кто отдал бы или пожелал бы честно сказать всю правду человеку, впавшему в такое состояние.
— Это верно.
— Стало быть, не это определяет справедливость: говорить правду и отдавать то, что взял.
— Нет, именно это, Сократ, — возразил Полемарх,-если хоть сколько-нибудь верить Симониду[11].
— Однако, — сказал Кефал, — я препоручаю вам беседу, а мне уже пора заняться священнодействиями.
— Значит, — сказал я, — Полемарх будет твоим наследником?[12]
— Разумеется, — отвечал Кефал, улыбнувшись, и тотчас ушел совершать обряды.[13]
[Справедливость как воздаяние должного каждому человеку]
— Так скажи же ты, наследник Кефала в нашей беседе, — обратился я к Полемарху, — какие слова Симонида о справедливости ты считаешь правильными?
— Да то, что справедливо отдавать каждому должное. Мне по крайней мере кажется, что это он прекрасно сказал.
— Конечно, нелегкое дело не верить Симониду — это такой мудрый и божественный человек! Смысл его слов тебе, Полемарх, вероятно, понятен, а я вот не могу его постичь. Ясно, что у Симонида говорится не о том, о чем мы только что вспомнили, а именно, будто все, что бы нам ни дали во временное пользование, надо отдавать по требованию владельца, даже когда тот и не в здравом уме, хотя, конечно, он-то и одолжил нам то, чем мы пользовались. Не так ли?
— Да.
— Но ведь ни в коем случае не надо давать, когда этого требует человек не в здравом уме?
— Правда.
— Значит, у Симонида, по-видимому, какой-то другой смысл в утверждении, что справедливо отдавать каждому должное.
— Конечно, другой, клянусь Зевсом. Он считает, что долг друзей делать что-нибудь хорошее своим друзьям и не причинять им никакого зла.
— Понимаю, — сказал я, — когда кто отдает вверенные ему деньги, он отдает не то, что должно, если и отдача и прием наносят вред, а между тем дело происходит между друзьями. Не об этом ли, по-твоему, говорит Симонид?
— Конечно, об этом.
— Ну а врагам, если случится, надо воздавать должное?
— Непременно, как они того заслуживают. Враг должен, я полагаю, воздать своему врагу как надлежит, то есть каким-нибудь злом.[14]
— Выходит, что Симонид дал лишь поэтическое, смутное определение того, что такое справедливость, вложив в него, как кажется, тот смысл, что справедливо было бы воздавать каждому надлежащее, — а это он назвал должным.
— А по-твоему как?
— Клянусь Зевсом, если бы кто спросил его: "Симонид, что чему надо уметь назначать — конечно, должное и надлежащее, — чтобы оправдалось имя искусства врачевания?" Как бы он, по-твоему, нам ответил?
— Ясно, что телу — лекарства, пищу, питье.
— А что чему надо придать — должное и надлежащее, чтобы выказать поварское искусство?
— Вкус — приправам.
— Прекрасно. А что кому надо воздать, чтобы такое искусство заслужило название справедливости?
— Если следовать тому, Сократ, что было сказано ранее, то это будет искусство приносить друзьям пользу, а врагам причинять вред.
— Значит, творить добро друзьям и зло врагам — это Симонид считает справедливостью?
— По-моему, да.
— А что касается болезней и здорового состояния,
Кто всего более способен творить добро своим друзьям, если они заболеют, и зло — своим врагам?
— Врач.
— А мореплавателям среди опасностей мореходства?
— Кормчий.
— Как же обстоит дело с тем, кто справедлив? Какими действиями и в какой области он всего способнее принести пользу друзьям и повредить врагам?
— На войне, помогая сражаться, мне кажется.
— Прекрасно. Но, дорогой мой Полемарх, тем, кто не болен, врач не нужен.
— Правда.
— А кто не на море, тому не нужен и кормчий.
— Да.
— Значит, кто не воюет, тем не нужен и справедливый человек?
— Это, по-моему, сомнительно.
— Так справедливость нужна и в мирное время?
— Нужна.
— А земледелие тоже? Или нет?
— Да, тоже.
— Чтобы обеспечить урожай?
— Да.
— И разумеется, нужно также сапожное дело?
— Да.
— Чтобы снабжать нас обувью, скажешь ты, как думаю.
— Конечно.
— Так что же? Для какой надобности и для приобретения чего, по-твоему, нужна в мирное время справедливость?
— Она нужна в делах, Сократ.
— Под делами ты понимаешь совместное участие в чем-нибудь или нет?
— Именно совместное участие.
— Будет ли хорошим и полезным участником в игре в шашки тот, кто справедлив, или же тот, кто умеет играть?
— Тот, кто умеет играть.
— А при кладке кирпича или камня справедливый человек как участник полезнее и лучше, чем строитель?
— Никоим образом.
— Например, для игры на кифаре кифарист предпочтительнее справедливого человека. А в чем же участие справедливого человека предпочтительнее участия кифариста?
— В денежных делах, как мне кажется.
— За исключением, может быть, расходования денег, Полемарх. Ведь когда понадобится сообща купить или продать коня, тогда, думается мне, полезнее будет наездник.
— Видимо.
— А при приобретении судна — кораблестроитель или кормчий.
— Естественно.
— Когда надо сообща распорядиться серебром или золотом, бывают ли случаи, чтобы справедливый человек был полезнее других?
— Бывают, Сократ. Это когда надо отдать их на хранение или сбережение.
— То есть, по твоим словам, когда они лежат без употребления?
— Конечно.
— Значит, когда деньги бесполезны, тогда-то и полезна справедливость?
— Похоже, что это так.
— И чтобы хранить садовый нож, полезна справедливость в общественном и в частном быту, а для пользования им требуется уменье виноградаря?
— Видимо, так.
— Пожалуй, ты скажешь, что когда нужно хранить щит и лиру и в то же время ими не пользоваться, справедливость полезна, а когда нужно пользоваться, тогда полезно уменье тяжело вооруженного пехотинца и музыканта.
— Непременно скажу.
— И во всем остальном так: справедливость при пользовании чем-нибудь не полезна, а при непользовании полезна?
— Видимо, так.
— Стало быть, друг мой, справедливость — это не слишком важное дело, раз она бывает полезной лишь при бесполезности. Давай рассмотрим вот что: кто мастер наносить удары в кулачном бою или в каком другом, тот, не правда ли, умеет и уберечься от них?
— Конечно.
— А кто способен уберечься в укрыться от болезни, тот еще гораздо более способен довести до болезненного состояния другого?
— Мне кажется, так.
— И воинский стан тот лучше оберегает, кто способен также проникнуть тайком в замыслы неприятеля и предвосхитить его действия?
— Конечно.
— Значит, тот горазд беречь, кто способен и плутовать.
— По-видимому.
— Значит, если справедливый человек способен сохранить деньги, то он способен и похитить их.
— По крайней мере к этому приводит наше рассуждение.
— Значит, справедливый человек оказывается каким-то вором. Это ты, должно быть, усвоил из Гомера: он высоко ставит Автолика, деда Одиссея по матери, и говорит, что Автолик превосходил всех людей вороватостью и заклинаньями. [15]Так что и по-твоему, и по Гомеру, и по Симониду справедливость — это нечто воровское, однако направленное на пользу друзьям и во вред врагам. Разве ты не так говорил?
— Нет, клянусь Зевсом. Впрочем, я уж и не знаю, что говорил. Однако вот на чем я все еще настаиваю: приносить пользу друзьям и вредить врагам — это и будет справедливость.
— А кто, по-твоему, друзья: те ли, кто кажутся хорошими людьми, или же только те, кто на самом деле таковы, хотя бы такими и не казались? То же и насчет врагов.
— Естественно быть другом тому, кого считаешь хорошим, и отворачиваться от плохих людей.
— Разве люди не ошибаются в этом? Многие кажутся им хорошими, хотя на деле не таковы, и наоборот.
— Да, они ошибаются.
— Значит, хорошие люди им враги, а негодные — друзья?
— Это бывает.
— Но тогда будет справедливым приносить пользу плохим людям, а хорошим вредить?
— Оказывается, что так.
— А между тем хорошие люди справедливы, они не способны на несправедливые поступки.
— Это правда.
— По твоим же словам, было бы справедливо причинять зло тем, кто не творит несправедливости.
— Ничего подобного, Сократ! Такой вывод, конечно, никуда не годится.
— Значит, справедливо было бы вредить несправедливым и приносить пользу справедливым людям.
— Этот вывод явно лучше.
— Значит, Полемарх, с теми из людей, кто ошибается, часто бывает, что они считают справедливым вредить своим друзьям — они их принимают за плохих людей — и приносить пользу своим врагам как хорошим людям. Таким образом, мы выскажем нечто прямо противоположное тому, что мы привели из Симонида.
— Да, это часто бывает. Но давай внесем поправку: ведь мы, пожалуй, неверно установили, кто нам друг, а кто враг.
— А как именно мы установили, Полемарх?
— Будто кто кажется хорошим, тот нам и друг.
— А теперь какую же мы внесем поправку?
— Тот нам друг, кто и кажется хорошим, и на самом деле хороший человек. А кто только кажется, а на деле не таков, это кажущийся, но не подлинный друг. То же самое нужно установить и насчет наших врагов.
— Согласно этому рассуждению, хороший человек будет нам другом, а плохой — врагом.
— Да.
— А как, по-твоему, прежнее определение справедливого, гласящее, что справедливо делать добро другу и зло врагу, нужно ли теперь дополнить тем, что справедливо делать добро другу, если он хороший человек, и зло — врагу, если он человек негодный?
— Конечно. Это, по-моему, прекрасное определение.
— Значит, справедливому человеку свойственно наносить вред кое-кому из людей?
— Да, конечно, надо вредить плохим людям и нашим врагам.
— А кони, если им нанести вред, становятся лучше или хуже?
— Хуже.
— В смысле достоинств собак или коней?
— Коней.
— И собаки, если им нанести вред, теряют достоинства собак, но не коней?
— Обязательно.
— А про людей, друг мой, не скажем ли мы, что и они, если им нанесен вред, теряют свои человеческие достоинства?
— Конечно.
— Но справедливость разве не достоинство человека?
— Это уж непременно.
— И те из людей, друг мой, кому нанесен вред, обязательно становятся несправедливыми?
— По-видимому.
— А разве могут музыканты посредством музыки сделать кого-либо немузыкальным?
— Это невозможно.
— А наездники посредством езды отучить ездить?
— Так не бывает.
— А справедливые люди посредством справедливости сделать кого-либо несправедливым? Или вообще: могут ли хорошие люди с помощью своих достоинств сделать других негодными?
— Но это невозможно!
— Ведь охлаждать, я думаю, свойство не теплоты, а того, что ей противоположно.
— Да.
— И увлажнять — свойство не сухости, а противоположного.
— Конечно.
— И вредить — свойство не хорошего человека, а наоборот.
— Очевидно.
— Между тем справедливый — это хороший человек.
— Конечно.
— Значит, Полемарх, не дело справедливого человека вредить — ни Другу, ни кому-либо иному; это дело того, кто ему противоположен, то есть человека несправедливого.
— По-моему, Сократ, ты совершенно прав.
— Значит, если кто станет утверждать, что воздавать каждому должное — справедливо, и будет понимать это так, что справедливый человек должен причинять врагам вред, а друзьям приносить пользу, то говорящий это вовсе не мудрец, потому что он сказал неправду, — ведь мы выяснили, что справедливо никому ни в чем не вредить.
— Я согласен с этим, — отвечал Полемарх.
— Стало быть, — сказал я, — мы с тобой сообща пойдем войной на тех, кто станет утверждать, что это было сказано Симонидом, или Биантом, или Питтаком, или кем-нибудь другим из мудрых[16] и славных людей.
— Я готов, — сказал Полемарх, — принять участие в такой битве.
— А знаешь, — сказал я, — чье это, по-моему, изречение, 336утверждающее, что справедливость состоит в том, чтобы приносить пользу друзьям и причинять вред врагам?
— Чье? — спросил Полемарх.
— Я думаю, оно принадлежит Периандру или Пердикке, а может быть, Ксерксу, или фиванцу Исмению. [17]или кому другому из богачей, воображающих себя могущественными людьми.
— Ты совершенно прав.
— Прекрасно. Но раз выяснилось, что справедливость, то есть [самое понятие] справедливого, состоит не в этом, то какое же другое определение можно было бы предложить?
Фрасимах во время нашей беседы неоднократно порывался вмешаться в разговор, но его удерживали сидевшие с ним рядом — так им хотелось выслушать нас до конца. Однако чуть только мы приостановились, когда я задал свой вопрос, Фрасимах уже не мог более стерпеть: весь напрягшись, как зверь, он ринулся на нас, словно готов был нас растерзать.
Мы с Полемархом шарахнулись в испуге, а он закричал, бросив нам:
— Что за чепуху вы несете, Сократ, уже с которых пор! Что вы строите из себя простачков, играя друг с другом в поддавки? Если ты в самом деле хочешь узнать, что такое справедливость, так не задавай вопросов и не кичись опровержениями — ты знаешь, что легче спрашивать, чем отвечать, — нет, ты сам отвечай и скажи, что ты считаешь справедливым. Да не вздумай мне говорить, что это — должное, или что это — полезное, или целесообразное, или прибыльное, или пригодное, — что бы ты ни говорил, ты мне говори ясно и точно, потому что я и слушать не стану, если ты будешь болтать такой вздор.
Ошеломленный словами Фрасимаха, я взглянул на него с испугом и мне кажется, что, не взгляни я на него прежде, чем он на меня, я бы прямо онемел; теперь же, когда наша беседа привела его в ярость, я взглянул первым, так что оказался в состоянии отвечать ему, и с трепетом сказал:
— Фрасимах, не сердись на нас. Если мы — я и вот он — и погрешили в рассмотрении этих доводов, то, смею тебя уверить, погрешили невольно. Неужели ты думаешь: если бы мы искали золото, мы стали бы друг другу поддаваться, так что это помешало бы нам его найти? Между тем мы разыскиваем справедливость, предмет драгоценнее всякого золота — ужели же мы так бессмысленно уступаем друг другу и не прилагаем всяческих стараний, чтобы его отыскать? Ты только подумай, мой друг! Нет, это, по-моему, просто оказалось выше наших сил, так что вам, кому это под силу, гораздо приличнее пожалеть нас, чем сердиться. Услышав это, Фрасимах усмехнулся весьма сардонически[18] и сказал:
— О Геракл! Вот она обычная ирония Сократа! [19]Я уж и здесь всем заранее говорил, что ты не пожелаешь отвечать, прикинешься простачком и станешь делать все что угодно, только бы увернуться от ответа, если кто тебя спросит.
— Ты мудр, Фрасимах, — сказал я, — и прекрасно знаешь, что если ты спросишь, из каких чисел состоит двенадцать, по, задавая свой вопрос, заранее предупредишь: "Только ты мне не вздумай говорить, братец, что двенадцать — это дважды шесть, или трижды четыре, или шестью два, или четырежды три, иначе я и слушать не стану, если ты будешь молоть такой вздор", то тебе будет заранее ясно, думаю я, что никто не ответит на такой твой вопрос. Но если тебе скажут: "Как же так, Фрасимах? В моих ответах не должно быть ничего из того, о чем ты предупредил? А если выходит именно так, чудак ты, я все-таки должен говорить вопреки истине? Или как ты считаешь?" Что ты на это скажешь?
— Хватит, — сказал Фрасимах, — ты опять за прежнее.
— А почему бы нет? — сказал я. — Прежнее или не прежнее, но так может подумать тот, кому ты задал свой вопрос. А считаешь ли ты, что человек станет отвечать вопреки своим взглядам, все равно, существует ли запрет или его нет?
— Значит, и ты так поступишь: в твоем ответе будет как раз что-нибудь из того, что я запретил?
— Я не удивлюсь, если у меня при рассмотрении так и получится.
— А что, если я укажу тебе на другой ответ насчет справедливости, совсем не такой, как все эти ответы, а куда лучше? Какое ты себе тогда назначишь наказание?
— Какое же другое, как не то, которому должен подвергнуться невежда! А должен он будет поучиться у человека сведущего. Вот этого наказания я и заслуживаю.
— Сладко ты поешь! Нет, ты внеси-ка денежки за обучение.[20]
— Само собой, когда они у меня появятся.
— Но они уже есть, — воскликнул Главкон, — за деньгами дело не станет, Фрасимах, ты только продолжай — все мы внесем за Сократа.
— Чтобы, как я полагаю, Сократ мог вполне отдаться своей привычке: не отвечать самому, а придираться к чужим доводам и их опровергать?
— Но как же отвечать, многоуважаемый Фрасимах, — сказал я, — если, во-первых, и ничего не знаешь и не притязаешь на знание, а затем если и имеешь кое-какие соображения по этому поводу, так на них наложен запрет, да еще со стороны человека незаурядного, так что вообще нельзя сказать ничего из того, что думаешь? Скорее тебе следует говорить: ведь ты утверждаешь, что обладаешь знанием и тебе есть что сказать. Так не раздумывай, будь так любезен, отвечай мне и не откажи наставить уму-разуму Главкона да и всех остальных.
Вслед за мной и Главкон и все остальные стали просить его не раздумывать. У Фрасимаха явно было горячее желание говорить, чтобы блеснуть: он считал, что имеет наготове великолепный ответ, но все же делал вид, будто настаивает на том, чтобы отвечал я. Наконец он уступил и затем прибавил:
— Вот она, мудрость Сократа: сам не желает никого наставлять, а ходит повсюду, всему учится у других и даже не отплачивает им за это благодарностью.
— Что я учусь у других, это ты правду сказал, Фрасимах, но что я, по-твоему, не плачу благодарностью, это — ложь. Я ведь плачу как могу. А могу я платить только похвалой — денег у меня нет. С какой охотой я это делаю, когда кто-нибудь, по моему мнению, хорошо говорит, ты сразу убедишься, чуть только примешься мне отвечать: я уверен, что ты будешь говорить хорошо.
[О справедливости как выгоде сильнейшего]
— Так слушай же. Справедливость, утверждаю я, это то, что пригодно и сильнейшему[21]. Ну что ж ты не похвалишь? Или нет у тебя желания?
— Сперва я должен понять, что ты говоришь. Пока еще я не знаю. Ты утверждаешь, что пригодное сильнейшему — это и есть справедливое. Если Полидамант[22] у нас всех сильнее в борьбе и в кулачном бою и для здоровья его тела пригодна говядина, то будет полезно и вместе с тем справедливо назначить такое же питание и нам, хотя мы и слабее его?
— Отвратительно это с твоей стороны, Сократ, — придавать моей речи такой гадкий смысл.
— Ничуть, благороднейший Фрасимах, но поясни свои слова.
— Разве ты не знаешь, что в одних государствах строп тиранический, в других — демократический, в третьих — аристократический?
— Как же не знать?
— И что в каждом государстве силу имеет тот, кто у власти?
— Конечно.
— Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: демократия — демократические законы, тирания — тиранические, так же и в остальных случаях. Установив законы, объявляют их справедливыми для подвластных — это и есть как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают как нарушителя законов и справедливости. Так вот я и говорю, почтеннейший Сократ: во всех государствах справедливостью считается одно и то же, а именно то, что пригодно существующей власти. А ведь она — сила, вот и выходит, если кто правильно рассуждает, что справедливость — везде одно и то же: то, что пригодно для сильнейшего.
— Теперь я понял, что ты говоришь. Попытаюсь также понять, верно это или нет. В своем ответе ты назвал пригодное справедливым, хотя мне-то ты запретил отвечать так. У тебя только прибавлено: "для сильнейшего".
— Ничтожная, вероятно, прибавка!
— Еще неясно, может быть, она и значительна. Но ясно, что надо рассмотреть, прав ли ты. Я тоже согласен, что справедливость есть нечто пригодное. Но ты добавляешь "для сильнейшего", а я этого не знаю, так что это нужно еще подвергнуть рассмотрению.
— Рассматривай же.
— Я так и сделаю. Скажи-ка мне, не считаешь ли ты справедливым повиноваться властям?
— Считаю.
— А власти в том или ином государстве непогрешимы или способны и ошибаться?
— Разумеется, способны и ошибаться.
— Следовательно, принимаясь за установление законов, они одни законы установят правильно, а другие неправильно? Так я по крайней мере думаю. Правильные установления властям на пользу, а неправильные — во вред. Или как по-твоему?
— Да, так.
— Что бы они ни установили, подвластные должны это выполнять, и это-то и будет справедливым?
— Как же иначе?
— Значит, справедливым будет, согласно твоему утверждению, выполнять не только пригодное сильнейшему, но и противоположное, то есть непригодное.
— Что это такое ты говоришь?
— То же самое, что и ты, как мне кажется. Давай, рассмотрим получше: разве мы не признали, что власти, обязывая подвластных выполнять свои предписания, иной раз ошибаются в выборе наилучшего для самих же властей, а между тем со стороны подвластных будет справедливым выполнять любые предписания властей? Разве мы это не признали?
— Да, я думаю, что признали.
— Так подумай и о том, что ты ведь признал справедливым выполнять также и то, что идет во вред властям и вообще тем, кто сильнее: когда власти неумышленно предписывают что-нибудь самим себе во вред, ты все-таки утверждаешь, что справедливым будет выполнять их предписания. В этом случае, премудрый Фрасимах, разве дело не обернется непременно таким образом, что справедливым будет выполнять как раз противоположное тому, что ты говоришь? Ведь здесь подчиненным предписывается выполнять то, что вредно сильнейшему.
— Да, клянусь Зевсом, Сократ, — воскликнул Полемарх, — это совершенно ясно.
— Особенно, если ты засвидетельствуешь это Сократу, — заметил ему Клитофонт.[23]
— К чему тут свидетели? Признал же сам Фрасимах, что власти иной раз дают предписания во вред самим себе, между тем для подвластных считается справедливым эти предписания выполнять.
— Выполнять приказы властей, Полемарх, — вот что считал Фрасимах справедливым.
— Да ведь он считал, Клитофонт, справедливое тем, что пригодно сильнейшему. Установив эти два положения, он также согласился, что власть имущие иной раз приказывают то, что им самим идет во вред, однако слабейшие и подвластные все-таки должны это выполнять. Из этого допущения вытекает, что пригодное для сильнейшего нисколько не более справедливо, чем непригодное.
— Но под пригодным сильнейшему Фрасимах понимал то, что сам сильнейший считает для себя пригодным, — возразил Клитофонт. — Это-то и должен выполнять слабейший — вот что он признал справедливым.
— Нет, Фрасимах не так говорил, — сказал Полемарх.
— Не все ли равно, Полемарх, — заметил я, — если теперь Фрасимах говорит так, то мы так и будем его понимать.
— Скажи-ка мне, Фрасимах, хотел ли ты сказать, что справедливо все, что кажется сильнейшему для него пригодным, независимо от того, пригодно ли оно на самом деле или нет? Так ли нам понимать то, что ты говоришь?
— Вовсе не так. Неужели ты думаешь, что я считаю сильнейшим того, кто ошибается и как раз тогда, когда он ошибается?
— Я по крайней мере думал, что таков смысл твоих слов, раз ты согласился, что власти небезгрешны, но, напротив, кое в чем и ошибаются.
— И крючкотвор же ты, Сократ, в твоих рассуждениях! Того, например, кто ошибочно лечит больных, назовешь ли ты врачом за эти его ошибки? Или мастером счета того, кто ошибается в счете именно тогда, когда он ошибается, и именно за эту его ошибку? Думаю, мы только в просторечье так выражаемся:
"ошибся врач", "ошибся мастер счета" или "учитель грамматики"; если же он действительно то, чем мы его называем, он, я думаю, никогда не совершает ошибок. По точному смыслу слова, раз уж ты так любишь точность, никто из мастеров своего дела в этом деле не ошибается. Ведь ошибаются от нехватки знания, то есть от недостатка мастерства. Так что, будь он художник, или мудрец, или правитель, никто не ошибается, когда владеет своим мастерством, хотя часто и говорят: "врач ошибся", "правитель ошибся". В этом смысле ты и понимай мой ответ. Вот он с полнейшей точностью: правитель, поскольку он действительно настоящий правитель, ошибок не совершает, он безошибочно устанавливает то, что для него всего лучше, и это должны выполнять те, кто ему подвластен. Так что, как я и говорил с самого начала, я называю справедливостью выполнение того, что пригодно сильнейшему.
— Вот как, Фрасимах, по-твоему, я крючкотвор?
— И даже очень.
— Ты считаешь, что в моих рассуждениях я со злым умыслом задавал свои вопросы?
— Я в этом уверен. Только ничего у тебя не выйдет: от меня тебе не скрыть своей злонамеренности, а раз тебе ее не скрыть, то и не удастся тебе пересилить меня в нашей беседе.
— Да я не стал бы и пытаться, дорогой мой. Но чтобы у нас не получилось чего-нибудь опять в этом роде, определи, в обычном ли понимании или в точном смысле употребляешь ты слова "правитель" и "сильнейший", когда говоришь, что будет справедливым, чтобы слабейший творил пригодное сильнейшему.
— Я имею в виду правителя в самом точном смысле этого слова. Искажай теперь злостно и клевещи, сколько можешь, — я тебе не уступлю. Впрочем, тебе с этим не справиться.
— По-твоему, я до того безумен, что решусь стричь льва[24] и клеветать на Фрасимаха?
— Однако ты только что пытался, хотя тебе это и не под силу.
— Довольно об этом. Скажи-ка мне лучше: вот тот, о котором ты недавно говорил, что он в точном смысле слова врач, — думает ли он только о деньгах, или он печется о больных?
— Печется о больных.
— А кормчий? Подлинный кормчий — это начальник над гребцами или и сам он гребец?
— Начальник над гребцами.
— Ведь нельзя, я думаю, принимать в расчет только то, что он тоже плывет на корабле — гребцом его не назовешь. Его называют кормчим не потому, что он на корабле, а за его уменье и потому, что он начальствует над гребцами.
— Это верно.
— Стало быть, каждый из них, то есть и врач и кормчий, обладает какими-нибудь полезными сведениями?
— Конечно.
— Не для того ли вообще и существует искусство, чтобы отыскивать и изобретать, что кому пригодно?
— Да, для этого.
— А для любого искусства пригодно ли что-нибудь иное, кроме своего собственного наивысшего совершенства?
— Что ты имеешь в виду?
— Вот что: если бы меня спросили, довлеет ли наше тело само себе или же оно нуждается еще в чем-нибудь, я бы ответил: "Непременно нуждается". Потому-то и найдены теперь способы врачевания, что тело у нас несовершенно, а раз оно таково, оно само себе не довлеет. Для придачи телу того, что ему пригодно, потребовалось искусство. Как, по-твоему, верно я говорю или нет?
— Верно.
— Так что же? Разве несовершенно само искусство врачевания? Бывает ли вообще нужно дополнять любое искусство еще каким-нибудь положительным качеством, как глаза — зрением, а уши — слухом? Нужно ли поэтому к любому искусству добавлять еще какое-нибудь другое искусство, которое решало бы, что пригодно для первого и чем его надо восполнить? Разве в самом искусстве скрыто какое-то несовершенство и любое искусство нуждается еще в другом искусстве, которое обсуждало бы, что полезно тому, первому? А для этого обсуждающего искусства необходимо в свою очередь еще другое подобного же рода искусство и так до бесконечности? Или же всякое искусство само по себе решает, что для него пригодно? Или же для обсуждения того, что исправит его недостатки, ему не требуется ни самого себя, ни другого искусства? Ведь у искусства не бывает никакого несовершенства или погрешности и ему не годится изыскивать пригодное за пределами себя самого. Раз оно правильно, в нем пет ущерба и искажений, пока оно сохраняет свою безупречность и целостность. Рассмотри это в точном, установленном тобой смысле слова — так это будет или по-другому?
— Видимо, так.
— Значит, врачевание рассматривает не то, что пригодно врачеванию, а то, что пригодно телу.
— Да.
— И верховая езда — то, что пригодно не для езды, а для коней. И любое другое искусство — не то, что ему самому пригодно (в этом ведь оно не нуждается), а то, что пригодно его предмету.
— Видимо, так.
— Но ведь всякое искусство, Фрасимах, это власть и сила в той области, где оно применяется.
Фрасимах согласился с этим, хотя и крайне неохотно.
— Следовательно, любое искусство имеет в виду пригодное не сильнейшему, а слабейшему, которым оно и руководит.
В конце концов Фрасимах согласился с этим, хотя и пытался сопротивляться, и, когда он согласился, я сказал:
— Значит, врач — поскольку он врач — вовсе не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно врачу, а только лишь то, что пригодно больному. Ведь мы согласились, что в точном смысле этого слова врач не стяжатель денег, а управитель телами. Или мы в этом не согласились?
Фрасимах ответил утвердительно.
— Следовательно, и кормчий в подлинном смысле слова — это управитель гребцов, но не гребец?
— Да, так было признано.
— Значит, такой кормчий, он же и управитель, будет иметь в виду и предписывать не то, что пригодно кормчему, а то, что полезно гребцу, то есть тому, кто его слушает.
Фрасимах с трудом подтвердил это.
— Следовательно, Фрасимах, и всякий, кто чем-либо управляет, никогда, поскольку он управитель, не имеет в виду и не предписывает того, что пригодно ему самому, но только то, что пригодно его подчиненному, для которого он и творит. Что бы он ни говорил и что бы ни делал, всегда он смотрит, что пригодно подчиненному и что тому подходит.
Когда мы пришли к этому в нашем споре и всем присутствующим стало ясно, что прежнее объяснение справедливости обратилось в свою противоположность, Фрасимах вместо того, чтобы отвечать, вдруг спросил:
— Скажи-ка мне, Сократ, у тебя есть нянька?
— Что с тобой? — сказал я. — Ты лучше бы отвечал, чем задавать такие вопросы.
— Да ведь твоя нянька забывает даже утирать тебе нос — ты не отличаешь у нее овец от пастуха.
— С чего ты это взял? — сказал я.
— Потому что ты думаешь, будто пастухи либо волопасы заботятся о благе овец или волов, когда откармливают их и холят, и что делают они это с какой-то иной целью, а не ради блага владельцев и своего собственного. Ты полагаешь, будто и в государствах правители — те, которые по-настоящему правят, — относятся к своим подданным как-то иначе, чем пастухи к овцам, и будто они днем и ночью только и думают о чем-то ином, а не о том, откуда бы извлечъ для себя пользу. "Справедливое", "справедливость", "несправедливое", "несправедливость" — ты так далек от всего этого, что даже не знаешь: справедливость и справедливое-в сущности это чужое благо, это нечто, устраивающее сильнейшего, правителя, а для подневольного исполнителя это чистый вред, тогда как несправедливость — наоборот: она правит, честно говоря, простоватыми, а потому и справедливыми людьми. Подданные осуществляют то, что пригодно правителю, так как в его руках сила. Вследствие их исполнительности он преуспевает, а сами от — ничуть.
Надо обратить внимание, Сократ, величайший ты простак, на то, что справедливый человек везде проигрывает сравнительно с несправедливым. Прежде всего во взаимных обязательствах между людьми; когда тот и другой ведут какое-нибудь общее дело, ты нигде не найдешь, чтобы при окончательном расчете справедливый человек получил больше, чем несправедливый, — наоборот, он всегда получает меньше. Затем во взаимоотношениях с государством, когда надо делать какие-нибудь взносы: при равном имущественном положении справедливый вносит больше, а несправедливый меньше, и, когда надо получать, справедливому не достается ничего, а несправедливый много выгадывает. Да и когда они занимают какую-нибудь государственную должность, то у справедливого, если даже его не постигнет какая-нибудь другая беда, приходят в упадок его домашние дела, так как он не может уделять им достаточно внимания, из общественных же дел он не извлекает никакой пользы имен но потому, что он человек справедливый. Вдобавок он вызывает недовольство своих родственников и знакомых тем, что не хочет покровительствовать им, если это противоречит справедливости. А у человека нeсправедливого все это обстоит как раз наоборот.
Я повторяю то, что недавно говорил: обладание властью дает большие преимущества. Это ты и должен учитывать, если хочешь судить, насколько всякому для себя лично полезнее быть несправедливым, чем справедливым. Всего проще тебе будет это понять, если ты возьмешь несправедливость в ее наиболее завершенном виде, когда преуспевает как раз тот, кто нарушил справедливость, и в высшей степени жалок тот, кто на себе испытал несправедливость и все же не решился пойти против справедливости. Такова тирания: она то исподтишка, то насильственно захватывает то, что ей не принадлежит, — храмовое и государственное имущество, личное и общественное — и не постепенно, а единым махом. Частичное нарушение справедливости, когда его обнаружат, наказывается и покрывается величайшим позором. Такие частичные нарушители называются, смотря по виду своих злодеяний, то святотатцами, то похитителями рабов, то взломщиками, то грабителями, то ворами. Если же кто, мало того что лишит граждан имущества, еще и самих их поработит, обратив в невольников, — его вместо этих позорных наименований называют преуспевающим и благоденствующим, и не только его соотечественники, но и чужеземцы, именно потому, что знают: такой человек сполна осуществил несправедливость. Ведь те, кто порицает несправедливость, не порицают совершение несправедливых поступков, они просто боятся за себя, как бы им самим не пострадать. Так-то вот, Сократ: несправедливость, достаточно обширная, сильнее справедливости, в ней больше силы, свободы и властности, а справедливость, как я с самого начала и говорил, — это то, что пригодно сильнейшему, несправедливость же целесообразна и пригодна сама по себе.
Сказав это, Фрасимах намеревался было уйти — своим сплошным многословием он, словно банщик, окатил нас и залил нам уши, — однако присутствующие не пустили его и заставили остаться, чтобы он привел доводы в подтверждение своих слов. Да я и сам очень нуждался в этом и потому сказал:
— Удивительный ты человек, Фрасимах. Набросившись па нас с такой речью, ты собираешься уйти, между тем ты и нас не наставил в достаточной мере, да и сам не разобрался, так ли обстоит дело либо по-другому. Или, по-твоему, это мелочь — попытаться определить такой предмет? Разве это не было бы руководством в жизни, следуя которому каждый из нас стал бы жить с наибольшей для себя целесообразностью?
— Я думаю, — сказал Фрасимах, — что это-то обстоит иначе.
— По-видимому, — сказал я, — тебе нет никакого дела до нас, тебе все равно, станем ли мы жить хуже или лучше в неведении того, что ты, по твоим словам. знаешь. Но, дорогой мой, дай себе труд открыть это и нам. Нас здесь собралось так много, что, если ты нас облагодетельствуешь, это будет неплохим для тебя вкладом. Что касается моего мнения, то я говорю тебе, что я все-таки не верю и не думаю, будто несправедливость выгоднее справедливости, даже когда несправедливости предоставлена полная свобода действия. Допустим, дорогой мой, что кто-нибудь несправедлив, допустим, что он может совершать несправедливые поступки либо тайно, либо в борьбе, — все же это меня не убеждает, будто несправедливость выгоднее справедливости. Возможно, что и кто-нибудь другой из нас, а не только я, вынес такое же впечатление. Так убеди же нас как следует, уважаемый Фрасимах, что наше решение неправильно, когда мы ставим справедливость значительно выше несправедливости.
— Как же тебя убедить? — сказал Фрасимах. — Раз тебя не убедило то, что я сейчас говорил, как же мне еще с тобой быть? Не впихнуть же мои взгляды в твою душу!
— Ради Зевса, только не это! Ты прежде всего держись тех же взглядов, которые ты уже высказал, а если они у тебя изменились, скажи об этом открыто и не обманывай нас. Ты видишь теперь, Фрасимах (давай-ка еще раз рассмотрим прежнее): дав сперва определение подлинного врача, ты не подумал, что ту же точность надо потом сохранить, говоря и о подлинном пастухе. Ты думаешь, что он пасет овец, поскольку он пастух, не имея в виду высшего для них блага, а так, словно какой-то нахлебник, собирающийся хорошенько угоститься за столом; или, что касается доходов, — так, словно он стяжатель, а не пастух. Между тем для этого искусства важно, конечно, чтобы оно отвечало не чему-нибудь иному, а своему прямому назначению, и притом наилучшим образом, — тогда овцы и будут в наилучшем состоянии; такое искусство будет достаточным для этой цели, пока в нем нет никаких недочетов. Потому-то, думал я, мы теперь непременно согласимся, что всякая власть, поскольку она власть, имеет в виду благо не кого иного, как тех, кто ей подвластен и ею опекаем — в общественном и в частном порядке. И неужели ты думаешь, будто те, кто правит государствами, — подлинные правители — правят по доброй воле?
— Клянусь Зевсом, не только думаю, но знаю наверняка.
— Правда, Фрасимах? Разве ты не замечаешь, что никто из других правителей не желает править добровольно, но все требуют вознаграждения, потому что от их правления будет польза не им самим, а их подчиненным? Скажи-ка мне вот что: не потому ли мы отличаем одно искусство от другого, что каждое из них имеет свое назначение? Только не высказывай, дорогой мой, чего-нибудь неожиданно странного — иначе мы никогда не кончим.
— Да, мы отличаем их именно поэтому.
— Следовательно, каждое приносит нам какую-то особую пользу, а не пользу вообще: например, врачевание — здоровье, кораблевождение — безопасность во время плавания и так далее.
— Конечно.
— А искусство оплачивать труд касается вознаграждения, ведь для этого оно и предназначено. Или врачевание и кораблевождение для тебя одно и то же? Согласно твоему предложению, ты хочешь все точно определить: так вот, если кто-нибудь, занимаясь кораблевождением, поздоровеет, так как ему пойдет на пользу морское плавание, будешь ли ты склонен из-за этого назвать кораблевождение врачеванием?
— Конечно, нет.
— И я думаю, ты не назовешь это оплатой труда, если кто, работая по найму, поздоровеет?
— Конечно, нет.
— Так что же? И врачевание ты не назовешь искусством работать по найму, когда врачующий так работает?
— Не назову.
— Стало быть, мы с тобой согласны в том, что каждое искусство полезно по-своему?
— Пусть будет так.
— Значит, какую бы пользу ни извлекали сообща те или иные мастера, ясно, что они сообща участвуют в том деле, которое приносит им пользу.
— По-видимому.
— Мы говорим, что мастерам, получающим плату, полезно то, что они получают выгоду от искусства оплаты труда.
Фрасимах с трудом согласился.
— Значит, у каждого из них эта самая польза, то есть получение платы, проистекает не от их собственного искусства. Если рассмотреть это точнее, то врачевание ведет к здоровью, а способ оплаты — к вознаграждению; строительное искусство создает дом, а искусство найма сопровождает это вознаграждением. Так и во всем остальном: каждое искусство делает свое дело и приносит пользу соответственно своему назначению. Если же к этому искусству не присоединится оплата, будет ли от него польза мастеру?
— Видимо, нет.
— Значит, ему нет никакой пользы, когда он работает даром?
— Я так думаю.
— Следовательно, Фрасимах, теперь это уже ясно: никакое искусство и никакое правление не обеспечивает пользы для мастера, но, как мы тогда и говорили, оно обеспечивает ее и предписывает своему подчиненному, имея в виду то, что пригодно слабейшему, а не сильнейшему. Поэтому-то я и говорил не так давно, дорогой Фрасимах, что никто не захочет добровольно быть правителем и заниматься исправлением чужих пороков, но всякий, напротив, требует вознаграждения, потому что кто намерен ладно применять свое искусство, тот никогда не действует и не повелевает ради собственного блага, но повелевает только ради высшего блага для своих подчиненных. Вот почему для приступающих к правлению должно существовать вознаграждение — деньги либо почет или же наказание для отказывающихся управлять.
— Как так, Сократ? — сказал Главкон. — Первые два вида вознаграждения я знаю, но ты и наказание отнес к своего рода вознаграждению: этого я уже не понимаю.
— Значит, ты не понимаешь вознаграждения самых лучших, благодаря которому и правят наиболее порядочные люди — в тех случаях, когда они соглашаются управлять. Разве ты не знаешь, что честолюбие и сребролюбие считается позорным, — да и на самом деле это так?
— Я знаю.
— Так вот, хорошие люди потому и не соглашаются управлять — ни за деньги, ни ради почета: они не хотят прозываться ни наемниками, открыто получая вознаграждение за управление, ни ворами, тайно пользуясь его выгодами; в свою очередь и почет их не привлекает — ведь они не честолюбивы. Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и применять наказания. Вот, пожалуй, причина, почему считается постыдным добровольно домогаться власти, не дожидаясь необходимости. А самое великое наказание — это быть под властью человека худшего, чем ты, когда сам ты не согласился управлять. Мне кажется, именно из опасения такого наказания порядочные люди и управляют, когда стоят у власти: они приступают тогда к управлению не потому, что идут на что-то хорошее и находят в этом удовлетворение, но по необходимости, не имея возможности поручить это дело кому-нибудь, кто лучше их или им подобен.
Если бы государство состояло из одних только хороших людей, все бы, пожалуй, оспаривали друг у друга возможность устраниться от правления, как теперь оспаривают власть. Отсюда стало бы ясно, что по существу подлинный правитель имеет в виду не то, что пригодно ему, а то, что пригодно подвластному, так что всякий понимающий это человек вместо того, чтобы хлопотать о пользе другого, предпочел бы, чтобы другие позаботились о его пользе. Я ни в коем случае не уступлю Фрасимаху, будто справедливость — это то, что пригодно сильнейшему. Но мы еще обсудим это потом.
[Справедливость и несправедливость]
Для меня сейчас гораздо важнее недавнее утверждение Фрасимаха, будто жизнь человека несправедливого лучше жизни человека справедливого. А ты, Главкон, что выбираешь? Какое из этих двух утверждений, по-твоему, более верно?
— По-моему, — сказал Главкон, — целесообразнее жизнь человека справедливого.
— А ты слышал, сколько разных благ приписал Фрасимах жизни человека несправедливого?
— Слышал, да не верю.
— Так хочешь, мы его переубедим, если нам как-нибудь удастся обнаружить, что он не прав?
— Как не хотеть! — сказал Главкон.
— Однако если мы станем возражать ему, слово за словом перечисляя блага справедливости, а затем снова будет говорить он и опять мы, то понадобится вести счет указанным благам и измерять их, а чтобы решить, сколько их привел каждый из нас в каждом своем ответе, нам понадобятся судьи. Если же мы будем вести исследование, как мы делали это только что, когда сходились во мнениях, тогда мы одновременно будем и судьями, и защитниками.
— Конечно.
— Какой же из этих двух способов тебе нравится?
— Второй.
— Ну-ка, Фрасимах, — сказал я, — отвечай нам с самого начала. Ты утверждаешь, что совершенная несправедливость полезнее совершенной справедливости?
— Конечно, я это утверждаю, а почему — я уже сказал.
— Ну а как ты скажешь вот насчет чего: называешь ли ты одно из этих свойств добродетелью, а другое — порочностью?
— А почему бы нет?
— Значит, добродетелью ты назовешь справедливость, а порочностью — несправедливость?
— Не иначе, дражайший! То-то я и говорю, что несправедливость целесообразна, а справедливость — нет!
— Но как же надо сказать?
— Да как раз наоборот.
— Неужели, что справедливость порочна?
— Нет, но она — весьма благородная тупость.
— Но называешь ли ты несправедливость злоумышленностью?
— Нет, это здравомыслие.
— Разве несправедливые кажутся тебе разумными и хорошими?
— По крайней мере те, кто способен довести несправедливость до совершенства и в состоянии подчинить себе целые государства и народы. А ты, вероятно, думал, что я говорю о тех, кто отрезает кошельки? Впрочем, и это целесообразно, пока не будет обнаружено. Но о них не стоит упоминать; иное дело то, о чем я сейчас говорил.
— Мне прекрасно известно, что ты этим хочешь сказать, но меня удивляет, что несправедливость ты относишь к добродетели и мудрости, а справедливость — к противоположному.
— Конечно, именно так.
— Это уж слишком резко, мой друг, и не всякий найдется, что тебе сказать. Если бы ты утверждал, что несправедливость целесообразна, но при этом подобно другим признал бы ее порочной и позорной [безобразной], мы нашлись бы, что сказать, согласно общепринятым взглядам. А теперь ясно, что ты станешь утверждать, будто несправедливость — прекрасна и сильна и так далее, то есть припишешь ей все то, что мы приписываем справедливости, раз уж ты дерзнул отнести несправедливость к добродетели и мудрости.
— Ты догадался в высшей степени верно.
— В таком случае, правда ведь, не надо отступаться от подробного рассмотрения всего этого в нашей беседе, пока ты, насколько я замечаю, говоришь действительно то, что думаешь. Мне кажется, Фрасимах, ты сейчас нисколько не шутишь, а высказываешь то, что представляется тебе истинным.
— Не все ли тебе равно, представляется это мне или нет? Ведь мое утверждение ты не опровергнешь.
— Оно, конечно, хоть и все равно, но попытайся вдобавок ответить еще на это: представляется ли тебе, что справедливый человек желал бы иметь какое-либо преимущество перед другим, тоже справедливым?
— Ничуть, иначе он не был бы таким вежливым и простоватым, как это теперь наблюдается.
— Ну а в делах справедливости?
— Даже и там нет.
— А притязал бы он на то, что ему следует обладать преимуществом сравнительно с человеком несправедливым и что это было бы справедливо? Или он не считал бы это справедливым?
— Считал бы и притязал бы, да только это ему не под силу.
— Но я не об этом спрашиваю, а о том, считает ли нужным и хочет ли справедливый иметь больше, чем c несправедливый?
— Да, именно так.
— А несправедливый человек? Неужели он будет притязать на обладание преимуществом сравнительно со справедливым человеком, и также в делах справедливости?
— А почему бы и нет? Ведь он притязает на то, чтобы иметь больше всех.
— Значит, несправедливый человек будет притязать на обладание преимуществом перед другим несправедливым человеком и его деятельностью и будет с ним бороться за то, чтобы захватить самому как можно больше?
— Да, это так.
— Значит, мы скажем следующим образом: справедливый человек хочет обладать преимуществом сравнительно не с подобным ему человеком, а с тем, кто на него не похож, между тем как несправедливый хочет им обладать сравнительно с обоими — и с тем, кто подобен ему, и с тем, кто на него не похож.
— Это ты сказал как нельзя лучше.
— А ведь несправедливый человек все же бывает разумным и значительным, а справедливый — ни тем ни другим.
— Это тоже хорошо сказано.
— Значит, несправедливый человек бывает похож на человека разумного и значительного, а справедливый, напротив, не похож?
— Как же человеку не быть похожим на себе подобных, раз он сам таков? А если он не таков, то и не похож.
— Прекрасно. Значит, каждый из них таков, как те, на кого он похож.
— А почему бы и нет?
— Пусть так. А скажи, Фрасимах, называешь ли ты одного человека знатоком музыки, а другого — нет?
— Конечно.
— Какой же из них разумен, а какой — нет?
— Знаток музыки, конечно, разумен, а незнаток — неразумен.
— И раз он разумен, значит, это человек выдающийся, а кто неразумен — ничтожен?
— Да.
— Ну а врач? Не так же ли точно?
— Так же.
— А как, по-твоему, уважаемый Фрасимах, знаток музыки, настраивая лиру, этим натягиванием и отпусканием струн притязает ли на что-нибудь большее, чем быть знатоком?
— По-моему, нет.
— Ну а на что-то большее в сравнении с незнатоком?
— Это уж непременно.
— А врач? Назначая ту или иную пищу и питье, притязает ли он этим на что-то большее, чем быть врачом и знать врачебное дело?
— Нет, нисколько.
— А притязает ли он на что-то большее, чем не-врач?
— Да.
— Примени же это к любой области знания и незнания. Считаешь ли ты, что знаток любого дела притязает на большее в своих действиях и высказываниях, чем другой знаток того же дела, или на то же самое (в той же области), что и тот, кто ему подобен?
— Пожалуй, я должен согласиться с последним.
— А невежда? Разве он не притязал бы на боль-I, шее одинаково в сравнении со знатоком и с другим невеждой?
— Возможно.
— А знаток ведь человек мудрый?
— Я полагаю.
— А мудрый человек обладает достоинствами?
— Полагаю.
— Значит, человек, обладающий достоинствами, и к тому же мудрый, не станет притязать на большее
сравнительно с ему подобным, а только с тем, кто на него не похож, то есть ему противоположен.
— По-видимому.
— Человек же низких свойств и невежда станет притязать на большее и сравнительно с ему подобным, и сравнительно с тем, кто ему противоположен.
— Очевидно.
— Стало быть, Фрасимах, несправедливый человек будет у нас притязать на большее сравнительно и с тем, кто на него не похож, и с тем, кто похож. Или ты не так говорил?
— Да, так.
— А справедливый человек не станет притязать на большее сравнительно с ему подобным, а только с тем, кто па него не похож.
— Да.
— Следовательно, справедливый человек схож с человеком мудрым и достойным, а несправедливый — с человеком плохим и невеждой.
— Пожалуй, что так.
— Но ведь мы уже признали, что кто на кого похож, тот и сам таков.
— Признали.
— Следовательно, у нас оказалось, что справедливый — это человек достойный и мудрый, а несправедливый — невежда и недостойный.
Хотя Фрасимах и согласился со всем этим, по далеко не с той легкостью, как я это вам сейчас передаю, а еле-еле, через силу. Попотел он при этом изрядно, тем более что дело происходило летом. Тут и узрел я впервые, что даже Фрасимах может покраснеть.
После того как мы оба признали, что справедливость — это добродетель и мудрость, а несправедливость — порочность и невежество, я сказал:
— Пусть так. Будем считать это у нас уже установленным. Но мы еще утверждали, что несправедливость могущественна. Или ты не помнишь, Фрасимах?
— Помню. Но я недоволен тем, что ты сейчас утверждаешь, и должен по этому поводу сказать кое-что. Впрочем, если я стану говорить, я уверен, ты назовешь это разглагольствованием. Так что либо предоставь мне говорить, что я хочу, либо, если тебе угодно спрашивать, спрашивай, а я тебе буду вторить, словно старухам, рассказывающим сказки, и то одобрительно, то отрицательно кивать головой.
— Только ни в коем случае не вопреки собственному мнению.
— Постараюсь, чтобы ты остался доволен мной, раз уж ты не даешь мне говорить. Чего ты от меня еще хочешь?
— Ничего, клянусь Зевсом. Если ты будешь так поступать — дело твое, я же тебе задам вопрос.
— Задавай.
— Я спрашиваю о том же, что и недавно, чтобы наше рассуждение шло по порядку: а именно, как относится справедливость к несправедливости? Ведь раньше было сказано, что несправедливость и могущественнее, и сильнее справедливости. Теперь же, раз справедливость — это мудрость и добродетель, легко, думаю я, обнаружится, что она и сильнее несправедливости, раз та не что иное, как невежество. Это уж всякий поймет.
Но я не хочу, Фрасимах, рассматривать это так плоско, а скорее вот в каком роде: признаёшь ли ты, что государство может быть несправедливым и может пытаться несправедливым образом поработить другие государства и держать их в порабощении, причем многие государства бывают порабощены им?
— А почему бы нет? Это в особенности может быть осуществлено самым превосходным из государств, наиболее совершенным в своей несправедливости.
— Я понимаю, что таково было твое утверждение. Но я вот как его рассматриваю: государство, становясь сильнее другого государства, приобретает свою мощь независимо от справедливости или же обязательно в сочетании с нею?
— Если, как ты недавно говорил, справедливость — это мудрость, тогда — в сочетании со справедливостью. Если же дело обстоит, как говорил я, то — с несправедливостью.
— Меня очень радует, Фрасимах, что ты не говоришь просто "да" или "нет", но отвечаешь мне, да еще так превосходно.
— Это я тебе в угоду.
— И хорошо делаешь. Угоди же мне еще вот чем:
скажи, как, по-твоему, государство, или войско, или разбойники, или воры, или еще какой-либо народ, несправедливо приступающий сообща к какому-нибудь делу, может ли что-нибудь сделать, если эти люди будут несправедливо относиться друг к другу?
— Конечно, нет.
— А если не будут относиться несправедливо, тогда скорей?
— Еще бы!
— Ведь несправедливость, Фрасимах, вызывает раздоры, ненависть, междоусобицы, а справедливость — единодушие и дружбу[25]. Не так ли?
— Пусть будет так, чтобы не спорить с тобой.
— Это хорошо с твоей стороны, почтеннейший. Скажи-ка мне вот что: если несправедливости, где бы она ни была, свойственно внедрять ненависть повсюду, то, возникши в людях, все равно, свободные ли они или рабы, разве она не заставит их возненавидеть друг друга, не приведет к распрям, так что им станет невозможно действовать сообща?
— Конечно.
— Да хотя бы их было только двое, но раз уж она в них возникла, разве они не разойдутся во взглядах, не возненавидят, как враги, друг друга, да притом и людей справедливых?
— Да, они будут врагами.
— Если даже, Фрасимах — удивительный ты человек! — несправедливость возникнет только у одного, разве потеряет она тогда свойственную ей силу? Или же, наоборот, она будет иметь ее нисколько не меньше?
— Пускай себе имеет ничуть не меньше.
— А силу она имеет, как видно, какую-то такую, что, где бы несправедливость ни возникла — в государстве ли, в племени, в войске или в чем-либо ином, — она прежде всего делает невозможным действия этих групп, поскольку эти действия сопряжены с ней самой, — ведь она ведет к раздорам, к разногласиям, внутренней и внешней вражде, в том числе и к справедливому противнику. Разве не так?
— Конечно, так.
— Даже возникая в одном человеке, она производит все то, что ей свойственно совершать. Прежде всего она делает его бездейственным, так как он в раздоре и разладе с самим собой, он враг и самому себе, и людям справедливым. Не так ли?
— Да.
— Но справедливы-то, друг мой, и боги?
— Пусть так.
— А богам, Фрасимах, несправедливый враждебен, а справедливый им — друг.
— Угощайся этим рассуждением сам, да смелее. Я тебе не стану перечить, чтобы не нажить врагов среди присутствующих.
— Ну так дополни это мое угощение еще и остальными ответами, подобно тому как ты это делал сейчас. Обнаружилось, что справедливые люди мудрее, лучше и способнее к действию, несправедливые же не способны действовать вместе. Хотя мы и говорим, что когда-то кое-что было совершено благодаря энергичным совместным действиям тех, кто несправедлив, однако в этом случае мы выражаемся не совсем верно. Ведь они не пощадили бы друг друга, будь они вполне несправедливы, стало быть ясно, что было в них что-то и справедливое, мешавшее им обижать как друг Друга, так и тех, против кого они шли. Благодаря этому они и совершили то, что совершили. На несправедливое их подстрекала присущая им несправедливость, но были они лишь наполовину порочными, потому что люди совсем плохие и совершенно несправедливые совершенно не способны и действовать. Вот как я это понимаю, а не так, как ты сперва утверждал.
Нам остается еще исследовать то, что мы вслед за тем решили подвергнуть рассмотрению, то есть лучше ли живется людям справедливым, чем несправедливым, и счастливее ли они. Хотя, по-моему, это уже и теперь видно из сказанного, все же надо рассмотреть это основательнее — ведь речь идет не о чем попало, а о том, каким образом надо жить.
— Так рассмотри же это.
— Я это и делаю. Ну, вот скажи мне, есть, по-твоему, у коня какое-нибудь назначение?
— По-моему, да.
— Не то ли ты считал бы назначением коня или чего угодно другого, что может быть выполнено только с его помощью или лучше всего с ней?
— Не понимаю.
— Да вот как: можешь ли ты видеть чем-нибудь иным, кроме глаз?
— Нет, конечно.
— Ну а слышать чем-нибудь иным, кроме ушей?
— Ни в коем случае.
— Ну а ветви виноградной лозы можешь ты обрезать садовым и простым ножом и многими другими орудиями?
— Конечно.
— Но ничем не обрежешь их так хорошо, как особым серпом, который для того-то и сделан.
— Это правда.
— Так не считать ли нам это назначением серпа?
— Будем считать.
— Теперь, я думаю, ты лучше поймешь мой недавний вопрос: не будет ли назначением каждой вещи то, что кто-нибудь выполняет только с ее помощью или лучше всего пользуясь ею, чем любой иной вещью?
— Понимаю. По-моему, это и будет назначением каждой вещи.
— Хорошо. А находишь ли ты, что раз у каждой вещи есть свое назначение, то у нее должны быть и свои достоинства? Вернемся к нашим примерам: признаем ли мы, что глаза имеют свое назначение?
— Да, имеют.
— Значит, у глаз есть и свое достоинство?
— Есть и это.
— Ну, а уши имеют свое назначение?
— Да.
— Значит, и свое достоинство?
— Да, и достоинство.
— А в отношении всех остальных вещей разве дело обстоит не так же?
— Так.
— Погоди-ка. Могут ли глаза хорошо выполнять свое назначение, если у них нет свойственных им достоинств, а вместо этого — одни недостатки?
— Как можно! Вместо зрения ты, верно, говоришь о сплошной слепоте.
— Именно зрение и составляет достоинство глаз. Но я пока не об этом спрашиваю, а о том, не вследствие ли присущих им достоинств глаза хорошо выполняют свое назначение, а при недостатках — плохо.
— Это ты верно говоришь.
— И уши, лишенные свойственных им достоинств, плохо выполняют свое назначение?
— Конечно.
— Подведем ли мы и все остальное под это правило?
— По-моему, да.
— Тогда рассмотри после этого вот что: есть ли у души какое-либо назначение, которое нельзя выполнить решительно ничем другим из существующего, — например заботиться, управлять, советоваться и тому подобное? Есть ли что-нибудь другое, кроме души, к чему мы с полным правом могли бы все это отнести и сказать, что это его дело?
— Другого такого нет ничего.
— Опять-таки — жизнь: признаем ли мы, что это дело души?
— Безусловно.
— Стало быть, мы признаем, что у души есть какое-то присущее ей достоинство?
— Признаем.
— А лишившись этого присущего ей достоинства, может ли душа хорошо выполнять свое назначение или это невозможно?
— Невозможно.
— Стало быть, правление и попечение низкой души неизбежно будет плохим, а у возвышенной души все это выходит хорошо.
— Это необходимо.
— Но ведь мы согласились, что достоинство души — это справедливость, а недостаток — несправедливость.
— Да согласились.
— Значит, справедливая душа и справедливый человек будут жить хорошо, а несправедливый — плохо.
— Видно так, согласно твоему рассуждению.
— Но кто живет достойно, тот человек благоденствующий и счастливый, а кто живет недостойно — как раз наоборот.
— Да, не иначе.
— Следовательно, справедливый счастлив, а несправедливый — это жалкий человек.
— Пусть так.
— Но что за прок быть жалким? Иное дело — быть счастливым.
— Как же иначе?
— Следовательно, — чудак ты, Фрасимах! — несправедливость никогда не может быть целесообразнее справедливости.
— Ну, этим и угощайся, Сократ, на Бендидиях!
— Это ты меня угощаешь, Фрасимах, раз ты у меня стал таким кротким и перестал сердиться. Впрочем, я еще не вдоволь угостился — в этом моя вина, а не твоя. Как лакомки[26], сколько бы чего ни подали к столу, набрасываются на каждое блюдо, дабы отведать и его, хотя они еще недостаточно насладились предыдущим, так, по-моему, и я: не найдя ответа на то, что мы рассматривали сначала, а именно на вопрос, что такое справедливость, я бросил это и кинулся исследовать, будет ли она недостатком и невежеством, или же она — мудрость и добродетель; а затем, когда я столкнулся с утверждением, будто несправедливость целесообразнее справедливости, я не удержался, чтобы не перейти от того вопроса к этому. Так-то и вышло, что сейчас я ничего не вынес из этой беседы. Раз я не знаю, что такое справедливость, я вряд ли узнаю, есть ли у нее достоинства пли нет, и несчастлив ли обладающий ею или, напротив, счастлив.
КНИГА ВТОРАЯ.
Я думал, что после таких моих слов мне будет уже излишне продолжать беседу, но оказалось, что это было не более как вступление к ней. Главкон, который никогда ни перед чем не отступает, и сейчас не стерпел отказа Фрасимаха от рассуждения и сказал:
[Справедливость и несправедливость (продолжение)]
— Сократ, желательно ли тебе, чтобы только казалось, будто ты нас переубедил, или чтобы мы подлинно убедились в том, что быть человеком справедливым в любом случае лучше, чем несправедливым?
— Подлинно убедить я бы, конечно, предпочел, если б это от меня зависело.
— Между тем ты не делаешь того, что тебе желательно. Скажи-ка мне, представляется ли тебе благом то, что для нас приемлемо не ради его последствий, но ценно само по себе? Вроде как, например, радость или какие-нибудь безобидные удовольствия — они в дальнейшем ни к чему, но они веселят человека.
— Мне лично оно представляется чем-то именно в таком роде.
— Далее. А то, что мы чтим и само по себе, и ради его последствий? Например, разумение, зрение, здоровье и все ценное для нас по обеим этим причинам считаешь ли ты благом?
— Да.
— А не замечаешь ли ты еще и какого-то третьего вида блага, к которому относятся упражнения тела, пользование больных, лечение и прочие прибыльные занятия? Мы признали бы, что они тягостны, хотя нам и полезны[27]. Вряд ли мы стали бы ими заниматься ради них самих, но они оплачиваются и дают разные другие преимущества.
— Существует и такой третий вид благ. Но что из того?
— К какому же виду благ ты относишь справедливость?
— Я-то полагаю, что к самому прекрасному, который и сам по себе, и по своим последствиям должен быть ценен человеку, если тот стремится к счастью.
— А большинство держится иного взгляда и относит ее к виду тягостному, которому можно предаваться лишь за вознаграждение, ради уважения и славы, сама же она по себе будто бы настолько трудна, что лучше ее избегать.
— Я знаю такое мнение; недаром Фрасимах давно уже порицает этот вид блага и превозносит несправедливость. Но я, видно, непонятлив.
— Погоди, выслушай и меня — вдруг ты со мной согласишься. Фрасимах, по-моему, слишком скоро поддался, словно змея, твоему заговору, а я все еще не удовлетворен твоим доказательством как той, так и другой стороны вопроса. Я желаю услышать, что же такое справедливость и несправедливость и какое они имеют значение, когда сами по себе содержатся в душе человека; а что касается вознаграждения и последствий, это мы оставим в стороне.
Вот что я сделаю, если ты не возражаешь: я снова вернусь к рассуждению Фрасимаха. Скажу, во-первых, со том, как представляют себе такие люди справедливость и ее происхождение; во-вторых, упомяну, что все, кто ее придерживается, делают это против воли, словно это необходимость, а не благо; в-третьих, укажу, что так поступать уместно, потому что, как уверяют, жизнь человека несправедливого много лучше жизни справедливого. Мне-то лично, Сократ, все это представляется совсем не так, но я нахожусь в недоумении — мне все уши прожужжали и Фрасимах, и сотни других людей. А вот того, что мне хочется, — доказательства в защиту справедливости, то есть, что она лучше несправедливости, — я как-то ни от кого не слыхал. Мне хочется услыхать похвалу ей — самой по себе. Думаю, что в особенности от тебя я могу узнать об этом — вот почему я нарочно стану хвалить несправедливую жизнь, чтобы тем самым подсказать тебе, каким образом мне хотелось бы услышать от тебя порицание несправедливости и похвалу справедливости. Смотри, согласен ли ты с моим предложением?
— Вполне. Разве есть для разумного человека что-нибудь более приятное, чем возможность почаще беседовать о таком предмете?
— Прекрасно. Выслушай же то, о чем я упомянул сперва, а именно в чем состоит справедливость и откуда она берется.
Говорят, что творить несправедливость обычно бывает хорошо, а терпеть ее — плохо. Однако, когда терпишь несправедливость, в этом гораздо больше плохого, чем бывает хорошего, когда ее творишь. Поэтому, когда люди отведали и того и другого, то есть и поступали несправедливо, и страдали от несправедливости, тогда они, раз уж нет сил избежать одной и придерживаться другой, нашли целесообразным договориться друг с другом, чтобы и не творить несправедливости, и не страдать от нее. Отсюда взяло свое начало законодательство и взаимный договор. [28]Установления закона и получили имя законных и справедливых — вот каково происхождение и сущность справедливости; она занимает среднее место: ведь творить несправедливость, оставаясь притом безнаказанным, это всего лучше, а терпеть несправедливость, когда ты не в силах отплатить, — всего хуже. Справедливость же лежит посреди между этими крайностями, и этим приходится довольствоваться, но не потому, что она благо, а потому, что люди ценят ее из-за своей собственной неспособности творить несправедливость. Никому из тех, кто в силах творить несправедливость, то есть кто доподлинно муж, не придет в голову заключать договоры о недопустимости творить или испытывать несправедливость — разве что он сойдет с ума. Такова, Сократ, — или в таком роде — природа справедливости, и вот из-за чего она появилась, согласно этому рассуждению.
А что соблюдающие справедливость соблюдают ее из-за бессилия творить несправедливость, а не по доброй воле, это мы всего легче заметим, если мысленно сделаем вот что: дадим полную волю любому человеку, как справедливому, так и несправедливому, творить все что ему угодно, и затем понаблюдаем, куда его поведут его влечения. Мы поймаем справедливого человека с поличным: он готов пойти точно на то же самое, что и несправедливый, — причина тут в своекорыстии, к которому, как к благу, стремится любая природа, и только с помощью закона, насильственно ее заставляют соблюдать надлежащую меру.
У людей была бы полнейшая возможность, как я говорю, творить все что угодно, если бы у них была та способность, которой, как говорят, обладал некогда Гиг, сын Лида[29]. Он был пастухом и батрачил у тогдашнего правителя Лидии; как-то раз, при проливном дожде и землетрясении, земля кое-где расселась и образовалась трещина в тех местах, где Гиг пас свое стадо. Заметив это, он из любопытства спустился в расселину и увидел там, как рассказывают, разные диковины, между прочим медного коня, полого и снабженного дверцами. Заглянув внутрь, он увидел мертвеца, с виду больше человеческого роста. На мертвеце ничего не было, только на руке — золотой перстень. Гиг снял его и взял себе, а затем вылез наружу. Когда пришла пора пастухам собраться на сходку, как они обычно делали каждый месяц, чтобы отчитаться перед царем о состоянии стада, Гиг тоже отправился туда, а на руке у него был перстень. Так вот, когда он сидел среди пастухов, случилось ему повернуть перстень камнем к ладони, и чуть только это произошло, Гиг стал невидимкой, и сидевшие рядом с ним говорили о нем уже как об отсутствующем. Он подивился, нащупал снова перстень и повернул его камнем наружу, а чуть повернул, снова стал видимым. Заметив это, он начал пробовать, действительно ли перстень обладает таким свойством, и всякий раз получалось, что стоило только повернуть перстень камнем к ладони, Гиг делался невидимым, когда же он поворачивал его камнем наружу—видимым.
Поняв это, он сразу повел дело так, чтобы попасть в число вестников, окружавших царя. А получив к царю доступ, Гиг совратил его жену, вместе с ней напал на него, убил и захватил власть.
Если бы было два таких перстня — один на руке у человека справедливого, а другой у несправедливого, тогда, надо полагать, ни один из них не оказался бы настолько твердым, чтобы остаться в пределах справедливости и решительно воздержаться от присвоения чужого имущества и не притрагиваться к нему, хотя каждый имел бы возможность без всякой опаски брать что угодно на рыночной площади, проникать в дома и сближаться с кем вздумается, убивать, освобождать из заключения кого захочет — вообще действовать среди людей так, словно он равен богу. Поступая таким образом, обладатели перстней нисколько не отличались бы друг от друга: оба они пришли бы к одному и тому же. Вот это и следует признать сильнейшим доказательством того, что никто не бывает справедливым по своей воле, но лишь по принуждению, раз каждый человек не считает справедливость самое но себе благом и, где только в состоянии поступать несправедливо, он так и поступает. Ведь всякий человек про себя считает несправедливость гораздо более целесообразной, чем справедливость, и считает он это правильно, скажет тот, кто защищает такой взгляд. Если человек, овладевший такою властью, не пожелает когда-либо поступить несправедливо и не притронется к чужому имуществу, он всем, кто это заметит, покажется в высшей степени жалким и неразумным, хотя люди и станут притворно хвалить его друг перед другом — из опасения, как бы самим не пострадать. Вот как обстоит дело.
Что же касается самой оценки образа жизни тех, о ком мы говорим, то об этом мы будем в состоянии правильно судить только тогда, когда сопоставим самого справедливого человека и самого несправедливого, в противном же случае — нет. В чем же состоит это сопоставление? А вот в чем: у несправедливого человека нами не будет изъято ни одной черты несправедливости, а у справедливого — ни одной черты справедливости, и тот и другой будет у нас доведен в своих привычках до совершенства. Так вот, прежде всего пусть человек несправедливый действует наподобие искусных мастеров: умелый кормчий или врач знает, что в его деле невозможно, а что возможно — заодно он принимается, за другое даже не берется; вдобавок он способен и исправить какой-нибудь свой случайный промах. У человека несправедливого — коль скоро он намерен именно таковым быть — верным приемом в его несправедливых делах должна быть скрытность. Если его поймают, значит, он слаб. Ведь крайняя степень несправедливости—это казаться справедливым, не будучи им на самом деле. Совершенно несправедливому человеку следует изображать совершеннейшую справедливость, не лишая ее ни одной черточки; надо допустить, что тот, кто творит величайшую несправедливость, уготовит себе величайшую славу в области справедливости: если он в чем и промахнется, он сумеет поправиться; он владеет даром слова, чтобы переубедить, если раскроется что-нибудь из его несправедливых дел; он способен также применить насилие, где это требуется, потому что он обладает и мужеством, и силой, да, кроме того, приобрел себе друзей и богатство.
Представив себе таким несправедливого человека, мы в этом нашем рассуждении противопоставим ему справедливого, то есть человека простого и благородного, желающего, как сказано у Эсхила, не казаться, а быть хорошим[30]. Показное здесь надо откинуть. Ибо если он будет справедливым напоказ, ему будут воздаваться почести и преподноситься подарки; ведь всем будет казаться, что он именно таков, а ради ли справедливости он таков или ради подарков и почестей — будет неясно. Его следует обнажить ото всего, кроме справедливости, и сделать его полной противоположностью тому, первому человеку. Не совершая никаких несправедливостей, пусть прослывет он чрезвычайно несправедливым, чтобы тем самым подвергнуться испытанию на справедливость и доказать, что к нему не пристанет дурная молва и то, что за нею следует. Пусть он неизменно идет своим путем вплоть до смерти, считаясь несправедливым при жизни, хотя на самом деле он справедлив. И вот когда оба они дойдут до крайнего предела, один — справедливости, другой — несправедливости, можно будет судить, кто из них счастливее.
— Ох, дорогой Главкон, — сказал я, — крепко же ты отшлифовал для нашего суждения, словно статую, каждого из этих двоих людей!
— Постарался, как только мог, — отвечал Главкон, — а раз они таковы, то, думаю я, будет уже нетрудно разобрать путем рассуждения, какая жизнь ожидает каждого из них. Надо об этом сказать; если же выйдет несколько резко, то считай, Сократ, что это говорю не я, а те, кто вместо справедливости восхваляет несправедливость. Они скажут: так расположенный справедливый человек подвергнется бичеванию, пытке на дыбе, на него наложат оковы, выжгут ему глаза, а в конце концов, после всяческих мучений, его посадят на кол и он узнает, что желательно не быть, а лишь казаться справедливым. Причем выражение Эсхила гораздо правильнее будет применить к человеку несправедливому. Ведь действительно скажут, что человек несправедливый занимается делом не чуждым истины, живет не ради молвы, желает не только казаться несправедливым, но на самом деле быть им:
Свой ум взрыхлил он бороздой глубокою,Произрастают где решенья мудрые. [31]
Прежде всего в его руках окажется государственная власть — поскольку он будет казаться справедливым, затем он возьмет себе жену из какой угодно семьи, станет выдавать замуж кого ему вздумается, будет вступать в связи и общаться с кем ему угодно, да еще вдобавок из всего этого извлекать выгоду, потому что он ничуть не брезгает несправедливостью. Случится ли ему вступить в частный или в общественный спор, он возьмет верх и одолеет своих врагов, а одолев их, разбогатеет, облагодетельствует своих друзей, разгромит врагов, станет приносить богам обильные и роскошные жертвы и дары, то есть будет чтить богов, да и кого захочет из людей, гораздо лучше, чем человек справедливый, так что, по всей вероятности, скорее ему, а не человеку справедливому пристало быть угодным богам. Вот чем, Сократ, подкрепляется утверждение, что и со стороны богов, и со стороны людей человеку несправедливому уготована жизнь лучшая, чем справедливому.
Когда Главкон кончил, я собрался было с мыслями, чтобы как-то ему возразить, но его брат Адимант обратился ко мне:
— Ты, Сократ, конечно, не считаешь, что сказанное решает спорный вопрос?
— Конечно.
— Упущено самое главное из того, что надо было сказать.
— Значит, согласно поговорке: "брат выручай брата"[32], если Главкон что упустил, твое дело помочь ему. А для меня и того, что он сказал, уже достаточно, чтобы оказаться побитым и лишиться возможности помочь справедливости.
— Ты говоришь пустое, — возразил Адимант, — а выслушай еще вот что: нам надо разобрать и те доводы, которые противоположны сказанному Главконом — они одобряют справедливость и порицают несправедливость, — тогда станет яснее, по-моему, намерение Главкона. И отцы, когда говорят и внушают своим сыновьям, что надо быть справедливыми, и все, кто о ком-либо имеет попечение, одобряют не самое справедливость, а зависящую от нее добрую славу, чтобы тому, кто считается справедливым, достались и государственные должности, и выгоды в браке, то есть все то, о чем сейчас упоминал Главкон, говоря о человеке, пользующемся доброй славой, хотя и несправедливом. Более того, эти люди ссылаются и на другие преимущества доброй славы: добавив также почет со стороны богов, они могут указать на обильные блага, которые, как они считают, боги даруют людям благочестивым. Об этом говорит такой возвышенный поэт, как Гесиод, да и Гомер тоже. По Гесиоду, боги сотворили для праведных дубы,
Желуди чтобы давать с верхушки и мед из средины;
Овцы отягчены густорунные шерстью богатой. [33]
И много других благ сотворили они в дополнение к этому.
Почти то же самое и у Гомера:
Ты уподобиться можешь царю беспорочному; страха
Божия полный [и многих людей повелитель могучий],
Правду творит он; в его областях изобильно родится
Рожь, и ячмень, и пшено, тяготеют плодами деревья,
Множится скот на полях и кипят многорыбием воды... [34]
А Мусей и его сын[35] уделяют праведникам от богов блага увлекательнее этих: согласно этому учению, когда те сойдут в Аид, их укладывают на ложе, устраивают пирушку для этих благочестивых людей и делают так, что они проводят все остальное время уже в опьянении, с венками на голове; Мусей считает, что самая прекрасная награда за добродетель — это вечное опьянение.[36]
А согласно другим учениям, награды, даруемые богами, распространяются еще дальше: после человека благочестивого и верного клятвам останутся дети его детей и все его потомство. Вот за что — и за другие вещи в этом же роде — восхваляют они справедливость. А людей нечестивых и неправедных они погружают в какую-то трясину в Аиде и заставляют еносить решетом воду. [37]Таким людям еще при их жизни приписывают дурную славу: то наказание, о котором упоминал Главкон, говоря о людях справедливых, но прослывших несправедливыми, и постигает, как уверяют, людей несправедливых. Больше о них сказать ничего нельзя. Вот какова похвала и порицание тем и другим.
Кроме того, относительно справедливости и несправедливости рассмотри, Сократ, еще и другой вид высказываний, встречающихся и в обыденной речи, и у поэтов. Все в один голос твердят, что рассудительность и справедливость — нечто прекрасное, однако в то же время тягостное и трудное, отличаться же разнузданностью и несправедливостью приятно и легко и только из-за общего мнения и закона считается постыдным. Большей частью говорят, что несправедливые поступки целесообразное справедливых: люди легко склоняются к тому, чтобы и в общественной жизни, и в частном быту считать счастливыми и уважать негодяев, если те богаты и вообще влиятельны. и ни во что не ставить и презирать каких-нибудь немощных бедняков, пусть даже и признавая, что они лучше богачей.
Из всего этого наиболее удивительны те взгляды, которые высказывают относительно богов и добродетели — будто бы и боги уделяют несчастье и плохую жизнь многим хорошим людям, а противоположным— противоположную участь. [38]Нищенствующие прорицатели околачиваются у дверей богачей, уверяя, будто обладают полученной от богов способностью жертвоприношениями и заклинаниями загладить тяготеющий на ком-либо или на его предках проступок, причем это будет сделано приятным образом, посреди празднеств. Если же кто пожелает нанести вред своему врагу, то при незначительных издержках он справедливому человеку может навредить в такой же степени, как и несправедливому: они уверяют, что с помощью каких-то заклятии и узелков они склоняют богов им помочь. [39]А в подтверждение всего этого приводят свидетельства поэтов, говорящих о доступности зла:
Выбор зла в изобилии предоставляется людям
Очень легко: ровен путь и обитель его совсем близко,
А преддверием доблести пот установлен богами, [40]
да и путь к ней какой-то долгий и крутой. В подтверждение же того, что люди способны склонить богов, ссылаются на Гомера, так как и он сказал, что боги, и то умолимы,
Хоть добродетелью, честью и силой намного нас выше,
Но и бессмертных богов благовоньями, кроткой молитвой,
Вин возлияньем и жиром сжигаемой жертвы смягчает
Смертный просящий, когда он пред ними виновен и грешен.[41]
У жрецов под рукой куча книг Мусея и Орфея, потомков, как говорят, Селены и Муз, [42]и по этим книгам они совершают свои обряды, уверяя не только отдельных лиц, но даже целые народы, будто и для тех, кто еще в живых, и для тех, кто уже скончался, есть избавление и очищение от зла: оно состоит в жертвоприношениях и в приятных забавах, которые они называют посвящением в таинства; это будто бы избавляет нас от загробных мучений, а кто не совершал жертвоприношений, тех ожидают ужасы.[43]
И сколько же такой всякой всячины, дорогой Сократ, утверждается относительно добродетели и порочности, и о том, как они расцениваются у людей и у богов! Что же под этим впечатлением делать, скажем мы, душам юношей? Несмотря на свои хорошие природные задатки, они словно слетаются на приманку таких рассказов и способны по ним делать вывод, каким надо быть человеку и какого ему направления придерживаться, чтобы как можно лучше пройти свой жизненный путь. По всей вероятности, юноша задаст самому себе вопрос наподобие Пиндара:
Правдой ли взойти мне на вышнюю крепость
Или обманом и кривдой[44]
и под их защитой провести жизнь? Судя по этим рассказам, если я справедлив, а меня таким но считают, пользы от этого для меня, как уверяют, не будет никакой, одни только тяготы и явный ущерб. А для человека несправедливого, но снискавшего себе славу справедливости, жизнь, как утверждают, чудесна. Следовательно, раз видимость, как объясняют мне люди мудрые, пересиливает даже истину[45] и служит главным условием благополучия, мне именно на это и следует обратить все свое внимание: в качестве преддверия, для видимости мне надо начертать вокруг себя живописное изображение добродетели и под этим прикрытием протащить лисицу премудрого Архилоха, ловкую и изворотливую.[46] Но, скажет кто-нибудь, нелегко все время скрывать свою порочность. Да ведь и все великое без труда не дается, ответим мы ему. Тем не менее, если мы стремимся к благополучию, приходится идти по тому пути, которым ведут пас следы этих рассуждений. Чтобы утаиться, мы составим союзы и сообщества; существуют и наставники в искусстве убеждать, от них можно заимствовать судейскую премудрость и умение действовать в народных собраниях: таким образом, мы будем прибегать то к убеждению, то к насилию, так, чтобы всегда брать верх и не подвергаться наказанию.
Но от богов-то невозможно ни утаиться, ни применить к ним насилие. Тогда, если боги не существуют или если они нисколько не заботятся о человеческих делах, то и нам нечего заботиться о том, чтобы от них утаиться. Если же боги существуют и заботятся о нас, так ведь мы знаем о богах или слышали о них не иначе как из сказаний и от поэтов, изложивших их родословную. Те же самые источники утверждают, что можно богов переубедить, привлекая их на свою сторону жертвами, кроткими молитвами и приношениями. Тут приходится либо верить и в то и в другое, либо не верить вовсе. Если уж верить, то следует сначала поступить несправедливо, а затем принести жертвы богам от своих несправедливых стяжаний. Ведь, придерживаясь справедливости, мы, правда, не будем наказаны богами, но зато лишимся выгоды, которую несправедливость могла бы нам принести. Придерживаться же несправедливости нам выгодно, а что касается наших преступлений и ошибок, так мы настойчивой мольбой переубедим богов и избавимся от наказания. Но ведь в Аиде либо нас самих, либо детей наших детей ждет кара за наши здешние несправедливые поступки. Однако, друг мой, скажет расчетливый человек, здесь-то и имеют великую силу посвящения в таинства и боги-избавители, и именно этого придерживаются как крупнейшие государства, так и дети богов, ставшие поэтами и божьими пророками[47]: они указывают, что дело обстоит именно таким образом.
На каком же еще основании выбрали бы мы себе справедливость вместо крайней несправедливости? Если мы овладеем несправедливостью в сочетании с притворной благопристойностью, наши действия будут согласны с разумом пред лицом как богов, так и людей, — и при нашей жизни и после кончины: вот взгляд, выражаемый большинством высокопоставленных лиц. После всего сказанного есть ли какая-нибудь возможность, Сократ, чтобы человек, одаренный душевной и телесной силой, обладающий богатством и родовитый, пожелал уважать справедливость, а не рассмеялся бы, слыша, как ее превозносят? Да и тот, кто может опровергнуть всё, что мы теперь сказали, и кто вполне убежден, что самое лучшее — это справедливость, даже он будет очень склонен извинить людей несправедливых и отнестись к ним без гнева, сознавая, что человек бывает возмущен несправедливостью разве лишь, если он божествен по природе, и воздерживается от нее только тогда, когда обладает знанием, а вообще-то никто не придерживается справедливости по доброй воле: всякий осуждает несправедливость из-за своей робости, старости или какой-либо иной немощи, то есть потому, что он просто не в состоянии ее совершить. Ясно, что это так. Ведь из таких людей первый, кто только войдет в силу, первым же и поступает несправедливо, насколько он способен.
Причина всему этому не что иное, как то, из чего и исходило все это наше рассуждение. И вот как он, так и я, мы оба скажем тебе, Сократ, следующее: "Поразительный ты человек! Сколько бы всех вас ни было, признающих себя почитателями справедливости, никто, начиная от первых героев — ведь высказывания многих из них сохранились — и вплоть до наших современников, никогда не порицал несправедливость и не восхвалял справедливость иначе как за вытекающие из них славу, почести и дары. А самое справедливость или несправедливость, своей собственной силой содержащуюся в душе того, кто ею обладает, хотя бы это таилось и от богов, и от людей, еще никто никогда не подвергал достаточному разбору ни в стихах, ни в прозе, и никто не говорил, что несправедливость — это величайшее зло, какое только может в себе содержать душа, а справедливость — величайшее благо. Если бы вы все с самого начала так говорили и убедили бы нас в этом с юных лет, нам не пришлось бы остерегать друг друга от несправедливых поступков, каждый был бы своим собственным стражем из опасения, как бы не стать сподвижником величайшего зла, творя несправедливость".
Вот что, а быть может и более того, сказал бы Фрасимах — или кто другой — о справедливости и несправедливости, как мне кажется, грубо извращая их значение. Но я — мне нечего от тебя таить — горячо желаю услышать от тебя опровержение, оттого-то я и говорю, напрягаясь изо всех сил. Так вот ты в своем ответе и покажи нам не только, что справедливость лучше несправедливости, но и какое действие производит в человеке присутствие той или другой самой по себе — зло или благо. Мнений же о справедливости и несправедливости не касайся, как это и советовал Главкон. Ведь если ты сохранишь в обоих случаях истинные мнения, а также присовокупишь к ним ложные, то мы скажем, что ты хвалишь не справедливость, но ее видимость, а порицание твое относится не к несправедливости, а к мнению о ней: получится, что ты советуешь несправедливому человеку таиться и соглашаешься с Фрасимахом, что справедливость — это благо другого, что она пригодна сильнейшему, для которого пригодна и целесообразна собственная несправедливость, слабейшему же справедливость не нужна. Раз ты признал, что справедливость относится к величайшим благам, которыми стоит обладать и ради проистекающих отсюда последствий, и еще более ради них самих, — таковы зрение, слух, разум, здоровье и разные другие блага, подлинные по самой своей природе, а не по мнению людей, — то вот эту сторону справедливости ты и отметь похвалой: скажи, что она сама по себе помогает человеку, если он ее придерживается, несправедливость же, напротив, вредит. А хвалить то, что справедливость вознаграждается деньгами и славой, ты предоставь другим. Когда именно за это восхваляют справедливость и осуждают несправедливость, превознося славу и награды или же их порицая, то от остальных людей я это еще могу вынести, но от тебя нет — разве что ты этого потребуешь, — потому что ты всю свою жизнь не исследовал ничего другого, кроме этого. Так вот, в своем ответе ты покажи нам не только, что справедливость лучше несправедливости, но и какое действие производит в человеке присутствие той или другой самой но себе — все равно, утаилось ли это от богов и людей, или нет, — и почему одна из них — благо, а другая — зло.
Эти слова Адиманта меня тогда особенно порадовали, хотя я и всегда-то восхищался природными задатками его и Главкона.
— Вы и впрямь сыновья своего славного родителя, — сказал я, — и неплохо начало элегии, с которой обратился к вам поклонник Главкона, когда вы отличились в сражении под Мегарой:
Славного Аристона божественный род — его дети. [48]
Это, друзья, по-моему, хорошо. Испытываемое вами состояние вполне божественно, раз вы не держитесь взгляда, будто несправедливость лучше справедливости, и уже способны именно так говорить об этом. Мне кажется, что вы и в самом деле не держитесь такого взгляда. Заключаю так по всему вашему поведению, потому что одним вашим словам я бы не поверил. Но чем больше я вам верю, тем больше недоумеваю, как мне быть, не знаю, чем вам помочь, ц признаю свое бессилие. Знаком этого служит мне следующее: мои доводы против Фрасимаха, которые, как я полагал, уже показали, что справедливость лучше несправедливости, не были вами восприняты. С другой стороны, я не могу не защищать свои взгляды. Ведь я боюсь, что будет нечестиво, присутствуя при поношении справедливости, уклоняться от помощи ей, пока ты еще дышишь и в силах подать голос. Самое лучшее — вступиться за нее в меру сил. Ведь Главкон и остальные просили меня помочь любым способом и не бросать рассуждения, но, напротив, тщательно исследовать, что такое справедливость и несправедливость и как обстоит с истинной их полезностью. Я уже высказывал свое мнение, что предпринимаемое нами исследование — дело немаловажное, оно под силу, как мне кажется, лишь человеку с острым зрением. Мы недостаточно искусны, по-моему, чтобы произвести подобное разыскание — это вроде того как заставлять человека с не слишком острым зрением читать издали мелко написанные буквы. И вдруг кто-то сообразит, что те же самые буквы бывают и крупнее, где-нибудь в надписи большего размера! Я думаю, прямо находкой была бы возможность прочесть сперва крупное, а затем разобрать и мелкое, если только это одно и то же.
— Конечно, — сказал Адимант, — но какое же сходство усматриваешь ты здесь, Сократ, с разысканиями, касающимися справедливости?
— Я тебе скажу. Справедливость, считаем мы, бывает свойственна отдельному человеку, по бывает, что и целому государству.
— Конечно.
— А ведь государство больше отдельного человека?
— Больше.
[Использование государственного опыта для познания частной справедливости]
— Так в том, что больше, вероятно, и справедливость принимает большие размеры и ее легче там изучать. Поэтому, если хотите, мы сперва исследуем, что такое справедливость в государствах, а затем точно так же рассмотрим ее и в отдельном человеке, то есть подметим в идее меньшего подобие большего.
— По-моему, это хорошее предложение.
— Если мы мысленно представим себе возникающее государство, мы, не правда ли, увидим там зачатки справедливости и несправедливости?
— Пожалуй, что так.
— Есть надежда, что в этих условиях легче будет заметить то, что мы ищем.
— Конечно.
— Так надо, по-моему, попытаться этого достичь. Думаю, что дела у нас тут будет более чем достаточно. Решайте сами.
[Разделение труда в идеальном государстве соответственно потребностям и природным задаткам]
— Уже решено, — сказал Адимант.
— Приступай же.
— Государство, — сказал я, — возникает, как я полагаю, когда каждый из нас не может удовлетворить сам себя, но нуждается еще во многом. Или ты приписываешь начало общества чему-либо иному?
— Нет, ничему иному.
с— Таким образом, каждый человек привлекает то одного, то другого для удовлетворения той или иной потребности. Испытывая нужду во многом, многие люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название государства, не правда ли?
— Конечно.
— Таким образом, они кое-что уделяют друг другу и кое-что получают, и каждый считает, что так ему будет лучше.
— Конечно.
— Так давай же, — сказал я, — займемся мысленно построением государства с самого начала. Как видно, его создают наши потребности.[49]
— Несомненно.
— А первая и самая большая потребность — это добыча пищи для существования и жизни.
— Безусловно.
— Вторая потребность — жилье, третья — одежда и так далее.
— Это верно.
— Смотри же,—сказал я,—каким образом государство может обеспечить себя всем этим: не так ли, что кто-нибудь будет земледельцем, другой — строителем, третий — ткачом? И не добавить ли нам к этому сапожника и еще кого-нибудь из тех, кто обслуживает телесные наши нужды?
— Да, надо добавить.
— Самое меньшее, государству необходимо состоять из четырех или пяти человек.
— По-видимому.
— Так что же? Должен ли каждый из них выполнять свою работу с расчетом на всех вообще? Например, земледелец, хотя он один, должен ли выращивать хлеб на четверых, тратить вчетверо больше времени и трудов и уделять другим от того, что он произвел, или же, не заботясь о них, он должен производить лишь четвертую долю этого хлеба только для самого себя и тратить на это всего лишь четвертую часть своего времени, а остальные три его части употребить на постройку дома, изготовление одежды, обуви и не хлопотать о других, а производить все своими силами и лишь для себя?
— Пожалуй, Сократ, — сказал Адимант, — первое будет легче, чем это.
— Здесь нет ничего странного, клянусь Зевсом. Я еще раньше обратил внимание на твои слова, что сначала люди рождаются не слишком похожими друг на друга, их природа бывает различна, да и способности к тому или иному делу также. Разве не таково твое мнение?
— Да, таково.
— Так что же? Кто лучше работает — тот, кто владеет многими искусствами или же только одним?
— Тот, кто владеет одним.
— Ясно, по-моему, и то, что стоит упустить время для какой-нибудь работы, и ничего не выйдет.
— Конечно, ясно.
— И по-моему, никакая работа не захочет ждать, когда у работника появится досуг; наоборот, он непременно должен следить за работой, а не заниматься ею так, между прочим.
— Непременно.
с— Поэтому можно сделать все в большем количестве, лучше и легче, если выполнять одну какую-нибудь работу соответственно своим природным задаткам, и притом вовремя, не отвлекаясь на другие работы.[50]
— Несомненно.
— Так вот, Адимант, для обеспечения того, о чем мы говорили, потребуется больше, чем четыре члена государства. Ведь земледелец, вероятно, если нужна хорошая соха, не сам будет изготовлять ее для себя, или мотыгу и прочие земледельческие орудия. В свою очередь и домостроитель — ему тоже требуется многое. Подобным же образом и ткач, и сапожник.
— Это правда.
— Плотники, кузнецы и разные такие мастера, если их включить в наше маленькое государство, сделают его многолюдным.
— И даже очень.
— Но оно все же не будет слишком большим, даже если мы к ним добавим волопасов, овчаров и прочих пастухов, чтобы у земледельцев были волы для пахоты, у домостроителей вместе с земледельцами — подъяремные животные для перевозки грузов, а у ткачей и сапожников — кожа и шерсть.
— Но и немалым будет государство, где все это есть.
— Но разместить такое государство в местности, где не понадобится ввоза, почти что невозможно.
— Невозможно.
— Значит, вдобавок понадобятся еще и люди для доставки того, что требуется, из другой страны.
— Понадобятся.
— Но такой посредник уедет порожняком, если он приехал порожняком, то есть не привез сюда ничего из того, что требовалось, оттуда. Не правда ли?
— По-моему, да.
— Здесь нужно будет производить не только то, что достаточно для самих себя, но и все то, что требуется там, сколько бы этого ни требовалось.
— Да, это необходимо.
— Нашей общине понадобится побольше земледельцев и разных ремесленников.
— Да, побольше.
— И посредников для всякого рода ввоза и вывоза. А ведь это — купцы. Разве нет?
— Да.
— Значит, нам потребуются и купцы.
— Конечно.
— А если это будет морская торговля, то вдобавок потребуется еще и немало людей, знающих морское дело.
— Да, немало.
— Так что же? Внутри самого государства как будут они передавать друг другу все то, что каждый производит? Ведь ради того мы и основали государство, чтобы люди вступили в общение.
— Очевидно, они будут продавать и покупать.
— Из этого у нас возникнет и рынок, и монета — знак обмена.
— Конечно.
— Если земледелец или кто другой из ремесленников, доставив на рынок то, что он производит, придет не в одно и то же время с теми, кому нужно произвести с ним обмен, неужели же он, сидя на рынке, будет терять время, нужное ему для работы?
— Вовсе нет, найдутся ведь люди, которые, видя это, предложат ему свои услуги. В благоустроенных городах это, пожалуй, самые слабые телом и непригодные ни к какой другой работе. Они там, на рынке, только того и дожидаются, чтобы за деньги приобрести что-нибудь у тех, кому нужно сбыть свое, и опять-таки обменять это на деньги с теми, кому нужно что-то купить.
— Из-за этой потребности появляются у нас в городе мелкие торговцы. Разве не назовем мы так посредников по купле и продаже, которые засели на рынке? А тех, кто странствует но городам, мы назовем купцами.
— Конечно.
— Бывают, я думаю, еще и какие-то иные посредники: духовный их склад таков, что с ними не очень-то стоит общаться, но они обладают телесной силой, достаточной для тяжелых работ. Они продают внаем свою силу и называют жалованьем цену за этот найм: потому-то, я думаю, их и зовут наемниками. Не так ли?
— Конечно, так.
— Для полноты государства, видимо, нужны и наемники.
— По-моему, да.
— Так разве не разрослось у нас, Адимант, государство уже настолько, что можно его считать совершенным?
— Пожалуй.
— Где же в нем место справедливости и несправедливости? В чем из того, что мы разбирали, они проявляются?
— Я лично этого не вижу, Сократ. Разве что в какой-то взаимной связи этих самых занятий.
— Возможно, что ты прав. Надо это исследовать и не отступаться. Прежде всего рассмотрим образ жизни людей, так подготовленных. Они будут производить хлеб, вино, одежду, обувь, будут строить дома, летом большей частью работать обнаженными и без обуви, а зимой достаточно одетыми и обутыми. Питаться они будут, изготовляя себе крупу из ячменя и пшеничную муку; крупу будут варить, тесто месить и выпекать из него великолепные булки и хлеб, раскладывая их в ряд на тростнике или на чистых листьях. Возлежа на подстилках, усеянных листьями тиса и миртами, они будут пировать, и сами и их дети, попивая вино, будут украшать себя венками и воспевать богов, радостно общаясь друг с другом; при этом, остерегаясь бедности и войны, они будут иметь детей не свыше того, что позволяет им их состояние.
Тут Главкон прервал меня:
— Ты заставляешь этих людей угощаться, видимо, без всяких кушаний!
— Твоя правда, — сказал я, — совсем забыл, что у них будут и кушанья. Ясно, что у них будет и соль, и маслины, и сыр, и лук-порей, и овощи, и они будут варить какую-нибудь деревенскую похлебку. Мы добавим им и лакомства: смоквы, горошек, бобы; плоды мирты и буковые орехи они будут жарить на огне и н меру запивать вином. Так проведут они жизнь в мире и здоровье и, достигнув, по всей вероятности, глубокой старости, скончаются, завещав своим потомкам такой же образ жизни.
— Если бы, Сократ, — возразил Главкон, — устраиваемое тобой государство состояло из свиней, какого, как не этого, задал бы ты им корму?
— Но что же иное требуется, Главкон?
— То, что обычно принято: возлежать на ложах, обедать за столом, есть те кушанья и лакомства, которые имеют нынешние люди — вот что, по-моему, нужно, чтобы не страдать от лишений.
— Хорошо, — сказал я, — понимаю. Мы, вероятно, рассматриваем не только возникающее государство, но и государство, живущее в изобилии. Может быть, это и неплохо. Ведь, рассматривая и такое государство, мы, вполне возможно, заметим, каким образом в государствах возникает справедливость и несправедливость. То государство, которое мы разобрали, представляется мне подлинным, то есть здоровым. Если вы хотите, ничто не мешает нам присмотреться и к государству, которое лихорадит. В самом деле, иных, по-видимому, не удовлетворит все это и такой простой образ жизни — им подавай и ложа, и столы, и разную утварь, и кушанья, мази и благовония, а также гетер, вкусные пироги, да чтобы всего этого было побольше. Выходит, что необходимым надо считать уже не то, о чем мы говорили вначале, — дома, обувь, одежду, нет, подавай нам картины и украшения, золото и слоновую кость: все это нам нужно. Не правда ли?
— Да.
— Так не придется ли увеличить это государство? То, здоровое, государство уже недостаточно, его надо заполнить кучей такого народа, присутствие которого в государстве не вызвано никакой необходимостью: таковы, например, всевозможные охотники, [51]а также подражатели — их много по части рисунков и красок, много и в мусическом искусстве: поэты и их исполнители, рапсоды, актеры, хоревты, подрядчики, мастера различной утвари, изделий всякого рода и женских уборов. Понадобится побольше и посредников: разве, по-твоему, не нужны будут там наставники детей, кормилицы, воспитатели, служанки, цирюльники, а также кулинары и повара? Понадобятся нам и свинопасы. Этого не было у нас в том, первоначальном государстве, потому что ничего такого не требовалось. А в этом государстве понадобится и это, да и множество всякого скота, раз идет в пищу мясо. Не так ли?
— Конечно.
— Потребность во врачах будет у нас при таком образе жизни гораздо больше, чем прежде.
— Много больше.
— Да и страна, тогда достаточная, чтобы прокормить население, теперь станет мала. Или как мы скажем?
— Именно так.
— Значит, нам придется отрезать часть от соседней страны, если мы намерены иметь достаточно пастбищ и пашен, а нашим соседям в свою очередь захочется отхватить часть от нашей страны, если они тоже пустятся в бесконечное стяжательство, перейдя границы необходимого.
— Это совершенно неизбежно, Сократ.
— В результате мы будем воевать, Главкон, или как с этим будет?
— Да, придется воевать.
— Пока мы еще ничего не станем говорить о том, влечет ли за собой война зло или благо, скажем только, что мы открыли происхождение войны — главный источник частных и общественных бед, когда она ведется.
— Конечно.
— Вдобавок, друг мой, придется увеличить наше государство не на какой-то пустяк, а на целое войско: оно выступит на защиту всего достояния, на защиту того, о чем мы теперь говорили, и будет отражать нападение.
— Как так? Разве мы сами к этому не способны?
— Не способны, если ты и все мы правильно решили этот вопрос, когда строили наше воображаемое государство. Решили же мы, если ты помнишь, что невозможно одному человеку с успехом владеть многими искусствами.
— Ты прав.
— Что же? Разве, по-твоему, военные действия не требуют искусства?
— И даже очень.
— Разве надо больше беспокоиться о сапожном, чем о военном, искусстве?
— Ни в коем случае.
— Чтобы у нас успешное шло сапожное дело, мы запретили сапожнику даже пытаться стать земледельцем, или ткачом, или домостроителем; так же точно и всякому другому мы поручили только одно дело, к которому он годится по своим природным задаткам: этим он и будет заниматься всю жизнь, не отвлекаясь ни на что другое, и достигнет успеха, если не упустит время. А разве не важно хорошее выполнение всего, что относится к военному делу? Или оно настолько легко, что земледелец, сапожник, любой другой ремесленник может быть вместе с тем и воином? Прилично играть в шашки или в кости никто не научится, если не занимался этим с детства, а играл так, между прочим. Неужели же стоит только взять щит или другое оружие и запастись военным снаряжением — и сразу станешь способен сражаться, будь то в битве тяжело вооруженных или в какой-либо иной? Никакое орудие только оттого, что оно очутилось в чьих-либо руках, никого не сделает сразу мастером или атлетом и будет бесполезно, если человек не умеет с ним обращаться и недостаточно упражнялся.
— Иначе этим орудиям и цены бы не было!
[Роль сословия стражей в идеальном государстве]
— Значит, чем более важно дело стражей, тем более оно несовместимо с другими занятиями, — ведь оно требует мастерства и величайшего старания.
— Думаю, что это так.
— Для этого занятия требуется иметь соответствующие природные задатки.
— Конечно.
— Пожалуй, если только мы в состоянии, нашим делом было бы отобрать тех, кто по своим природным свойствам годен для охраны государства.
— Конечно, это наше дело.
— Клянусь Зевсом, нелегкий предмет мы себе облюбовали! Все же, насколько хватит сил, не надо поддаваться робости.
— Разумеется, не надо.
— Как, по-твоему, в деле охраны есть ли разница между природными свойствами породистого щенка и юноши хорошего происхождения?
— О каких свойствах ты говоришь?
— И тот и другой должны остро воспринимать, живо преследовать то, что заметят, и, если настигнут, с силой сражаться.
— Все это действительно нужно.
— И чтобы хорошо сражаться, надо быть мужественным.
— Как же иначе?
— А захочет ли быть мужественным тот, в ком нет яростного духа — будь то конь, собака или другое какое животное? Разве ты не заметил, как неодолим и непобедим яростный дух: когда он есть, любая душа ничего не страшится и ни перед чем не отступает?
— Заметил.
— Итак, ясно, какими должны быть телесные свойства такого стража.
— Да.
— Тоже и душевные свойства, то есть яростный дух.
— И это ясно.
— Однако, Главкон, если стражи таковы по своей природе, не будут ли они свирепыми и друг с другом, и с остальными согражданами?
— Клянусь Зевсом, на это нелегко ответить.
— А между тем они должны быть кроткими к своим людям и грозными для неприятеля. В противном случае им не придется ждать, чтобы их истребил кто-нибудь другой: они сами это сделают и погубят себя.
— Правда.
— Как же нам быть? Где мы найдем нрав и кроткий, и вместе с тем отважный? Ведь кроткий нрав противоположен ярости духа.
— Это очевидно.
— Если же у кого-нибудь нет ни того ни другого, он не может стать хорошим стражем. Похоже, что это требование невыполнимо, и, таким образом, выходит, что хорошим стражем стать невозможно.
— Пожалуй, что так, — сказал Главкон.
Я находился в затруднении и мысленно перебирал сказанное ранее.
— Мы, друг мой, — заметил я, — справедливо недоумеваем, потому что мы отклонились от того образа, который сами предложили.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы не сообразили, что бывают характеры, о которых мы и не подумали, а между тем в них имеются эти противоположные свойства.
— В каких же характерах?
— Это замечается и в других животных, но всего лучше в том из них, которое мы сравнили с нашим стражем. Ты ведь знаешь насчет породистых собак, что их свойство — быть как нельзя более кроткими с теми, к кому они привыкли и кого знают, но с незнакомыми — как раз наоборот.
— Знаю, конечно.
— Стало быть, это возможно, и поиски таких свойств в страже не противоречат природе.
— По-видимому, нет.
— Не кажется ли тебе, что будущий страж нуждается еще вот в чем: мало того, что он яростен — он должен по своей природе еще и стремиться к мудрости.
— Как это? Мне непонятно.
— И эту черту ты тоже заметишь в собаках, что очень удивительно в животном.
— Что именно?
— Увидав незнакомого, собака злится, хотя он се ничем еще не обидел, а увидав знакомого — ласкается, хотя он никогда не сделал ей ничего хорошего. Тебя это не поражало?
— Я до сих пор не слишком обращал на это внимание, но ясно, что собака ведет себя именно так.
— Это свойство ее природы представляется замечательным и даже подлинно философским.
— Как так?
— Да так, что о дружественности или враждебности человека, которого она видит, собака заключает по тому, знает ли она его или нет. Разве в этом нет стремления познавать, когда определение близкого или, напротив, чужого делается на основе понимания либо, наоборот, непонимания?
— Этого нельзя отрицать.
— А ведь стремление познавать и стремление к мудрости — это одно и то же.
— Да, одно и то же.
— Значит, мы смело можем допустить то же самое и у человека: если он будет кротким со своими близкими и знакомыми, значит, он но своей природе должен иметь стремление к мудрости и познанию.
— Допустим это.
— Итак. безупречный страж государства будет у нас по своей природе обладать и стремлением к мудрости, и стремлением познавать, а также будет проворным и сильным.
— Совершенно верно.
— Таким пусть и будет. Но как нам выращивать и воспитывать стражей? Рассмотрение этого будет ли у нас способствовать тому, ради чего мы всё и рассматриваем, то есть заметим ли мы, каким образом возникают в обществе справедливость и несправедливость? Как бы нам не упустить цели нашей беседы и не сделать ее слишком пространной.
На это брат Главкона сказал:
— Я по крайней мере ожидаю, что это рассмотрение будет очень кстати для нашей задачи.
— Клянусь Зевсом, милый Адимант, — сказал я, — значит, не стоит бросать это рассмотрение, даже если оно окажется длинным.
— Да, не стоит.
— Так давай, не торопясь, как делают это повествователи, займемся — пусть на словах — воспитанием этих людей.
— Это необходимо сделать.
[Двоякое воспитание стражей мусическое и гимнастическое]
— Каким же будет воспитание? Впрочем, трудно найти лучше того, которое найдено с самых давнишних времен. Для тела — это гимнастическое воспитание, а для души -мусическое[52]
— Да, это так.
— И воспитание мусическое будет у нас предшествовать гимнастическому.
— Почему бы и нет?
— Говоря о мусическом воспитании, ты включаешь в пего словесность, не правда ли?
— Я — да.
[Два вида словесности: истинный и ложный. Роль мифов в воспитании стражей]
— В словесности же есть два вида: один — истинный, а другой — ложный?
— Да.
— И воспитывать надо в обоих видах, но сперва — в ложном?
— Вовсе не понимаю, о чем это ты говоришь.
— Ты не понимаешь, что малым детям мы сперва рассказываем мифы? Это, вообще говоря, ложь, но есть них и истина. Имея дело с детьми, мы к мифам прибегаем. раньше, чем к гимнастическим упражнениям.
— Да, это так.
— Потому-то я и говорил, что сперва надо приниматься за мусическое искусство, а затем за гимнастическое.
— Правильно.
— Разве ты не знаешь, что во всяком деле самое главное — это начало, в особенности если это касается чего-то юного и нежного. Тогда всего более образуются и укореняются те черты, которые кто-либо желает там запечатлеть.
— Совершенно верно.
— Разве можем мы так легко допустить, чтобы дети слушали и воспринимали душой какие попало мифы, выдуманные кем попало и большей частью противоречащие тем мнениям, которые, как мы считаем, должны быть у них, когда они повзрослеют?
— Мы этого ни в коем случае не допустим.
— Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим его, если же нет — отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь признанные мифы, чтобы с их помощью формировать души детей скорее, чем их тела — руками. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить.
— Какие именно?
— По более значительным мифам мы сможем судить и о мелких: ведь и крупные, и мелкие должны иметь одинаковые черты и одинаковую силу воздействия. Или ты не согласен?
— Согласен, но я не понимаю, о каких более значительных мифах ты говоришь?
— О тех, которые рассказывали Гесиод, Гомер и остальные поэты. Составив для людей лживые сказания, они стали им их рассказывать, да и до сих пор рассказывают.[53]
—Какие же? И что ты им ставишь в упрек?
— То, за что прежде всего и главным образом следует упрекнуть, в особенности если чей-либо вымысел неудачен.
— Как это?
— Когда кто-нибудь, говоря о богах и героях, отрицательно изобразит их свойства, это вроде того, как если бы художник нарисовал нисколько не похожими тех, чье подобие он хотел изобразить.
— Такого рода упрек правилен, но что мы под этим понимаем?
— Прежде всего величайшую ложь и о самом великом неудачно выдумал тот, кто сказал, будто Уран совершил поступок, упоминаемый Гесиодом, и будто Кронос ему отомстил. О делах же Кроноса и о мучениях, перенесенных им от сына, даже если бы это было верно, я не считал бы нужным с такой легкостью рассказывать тем, кто еще неразумен и молод, — гораздо лучше обходить это молчанием, а если уж и нужно почему-либо рассказать, так пусть лишь весьма немногие втайне выслушают это, принеся в жертву не поросенка, но великое и труднодоступное приношение, чтобы лишь совсем мало кому довелось услышать рассказ[54]
— В самом деле, рассказы об этом затруднительны.
— Да их и не следует рассказывать, Адимант, в нашем государстве. Нельзя рассказывать юному слушателю, что, поступая крайне несправедливо, он не совершает ничего особенного, даже если он любым образом карает своего совершившего проступок отца, и что он просто делает то же самое, что и первые, величайшие боги.
— Клянусь Зевсом, мне и самому кажется, что не годится говорить об этом.
— И вообще о том, как боги воюют с богами, строят козни, сражаются—да это и неверно; ведь те, кому предстоит стоять у нас на страже государства, должны считать величайшим позором, если так легко возникает взаимная вражда. Вовсе не следует излагать и расписывать битвы гигантов и разные другие многочисленные раздоры богов и героев с их родственниками и низкими —напротив, если мы намерены внушить убеждение, что никогда никто из граждан не питал вражды к другому и что это было бы нечестиво, то об этом-то и должны сразу же и побольше рассказывать детям и старики, и старухи, да и потом, когда дети подрастут; и поэтов надо заставить не отклоняться от этого в своем творчестве. А о том, что на Геру наложил оковы ее сын, Гефест, который был сброшен с Олимпа своим отцом, хотевшим заступиться за избиваемую жену, или о битвах богов, сочиненных Гомером,—такие рассказы недопустимы в пашем государстве, все равно сочинены ли они с намеком или без него. [55]Ребенок не в состоянии судить, где содержится иносказание, а где нет, и мнения, воспринятые им в таком раннем возрасте, обычно становятся неизгладимыми и неизменными. Вот почему, пожалуй, всего более надо добиваться, чтобы первые мифы, услышанные детьми, самым заботливым образом были направлены к добродетели.
— Это имеет свое основание. Но если кто и об этом спросит нас, что это за мифы и о чем они, какие мифы могли бы мы назвать?
— Адимант, — сказал я, — мы с тобой сейчас не поэты, а основатели государства. Не дело основателей самим творить мифы—им достаточно знать, какими должны быть основные черты поэтического творчества, и не допускать их искажения.
— Верно. Но вот это — основные черты, каковы они в учении о богах?
— Да хотя бы так: каков бог, таким его всегда и надо изображать, выведен ли он в эпической поэзии, в мелической или в трагедии.
— Да, так и надо поступать.
— Разве бог не благ по существу и разве не это нужно о нем утверждать?
— Как же иначе?
— Но ведь никакое благо не вредоносно, не так ли?
— По-моему, так.
— А то, что не вредоносно, разве вредит?
— Никоим образом.
— А то, что не вредит, творит разве какое-нибудь зло?
— Тоже нет,
— А то, что не творит никакого зла, не может быть и причиной какого-либо зла?
— Но как же могло бы это быть?
— Так что же? Благо — полезно?
— Да,
— Значит, оно — причина правильного образа действий?
— Да.
— Значит, благо—причина не всяких действий, а только правильных? В зле оно неповинно.
— Безусловно.
— Значит, и бог, раз он благ, не может быть причиной всего вопреки утверждению большинства. Он причина лишь немногого для людей, а во многом он неповинен: ведь у нас гораздо меньше хорошего, чем плохого. Причиной блага нельзя считать никого другого, но для зла надо искать какие-то иные причины, только не бога.
— Ты, по-моему, совершенно прав.
— Значит, нельзя принять эти заблуждения Гомера или другого поэта относительно богов: Гомер безрассудно заблуждается, говоря, что два больших сосуда
в Зевсовом доме великом,
Полны даров счастливых — один, а другой — несчастливых,
и кому Зевс дает смешанно из обоих, тот
В жизни своей переменно то горе находит, то радость,
а кому несмешанно, только из второго сосуда, то
Бешеный голод его по земле божественной гонит.[56]
Также неверно, будто Зевс у нас подателем
Благ, но также и зла оказался[57]
Мы не одобрим, если кто скажет, что Афина и Зевс побудили
Пандара нарушить клятвы и договоры[58].
То же самое и относительно битвы богов и их распри, вызванной Фемидой и Зевсом[59]. Опять-таки нельзя позволить юношам слушать то, что говорит Эсхил:
Причину смертным бог родит, Когда чей-либо дом желает истребить.[60]
Если в каком-либо произведении встретятся такие ямбические стихи и будут описаны страдания Ниобы или Пелопидов, [61]или события Троянской войны, или что-нибудь в этом роде, то надо либо не признавать все этo делом божьим, либо, если это дело божье, вскрыть здесь примерно тот смысл, который мы сейчас отыскиваем, и утверждать, что бог вершит лишь справедливое и благое, а кара, постигающая этих людей, им же на пользу. Но нельзя позволить утверждать поэту, будто они бедствуют, подвергаясь наказанию, и благое, а кара, постигающая этих людей, им же на пользу. Но нельзя позволить утверждать поэту, будто они бедствуют, подвергаясь наказанию, а тот, от кого ; это зависит,—бог. Однако, если бы поэты сказали, что люди эти нуждались в каре и что бедствуют только порочные, которые, подвергаясь наказанию, извлекают для себя пользу от бога, это можно допустить. Но когда говорят, что бог, будучи благим, становится для кого-нибудь источником зла, с этим всячески надо бороться: никто — ни юноша, ни взрослый, если он стремится к законности в своем государстве, — не должен ни говорить об этом, ни слушать ни в стихотворном, ни в прозаическом изложении, потому что такое утверждение нечестиво, не полезно нам и содержит в самом себе неувязку.
— Я голосую вместе с тобой за этот закон — он мне нравится.
— Это был бы один из законов и одно из предначертаний относительно богов: сообразно с ним и в речах, и в поэтических произведениях следует утверждать, что бог — причина не всего, а только блага.
— Это вполне удовлетворяет.
— А как насчет второго закона? Разве, по-твоему, бог — волшебник и словно нарочно является то в одних, то в других видах: то он сам меняется, принимая вместо своего облика различные другие формы, то лишь нас вводит в заблуждение, заставляя нас мнить о себе временами одно, временами другое? Или бог есть нечто простое и он всего менее выходит за пределы своей формы?
— Я не могу так сразу на это ответить.
— А на это: если что-нибудь выходит за пределы своей формы, необходимо ли, чтобы оно изменялось либо само собой, либо под воздействием чего-либо другого?
— Необходимо.
— Но то, что находится в наилучшем состоянии, менее всего изменяется под воздействием другого. Разве, например, не меньше всего поддается изменениям отличающееся здоровьем и силой тело под воздействием пищи, питья, трудов? Или же любое растение — под воздействием солнечного тепла, ветра и т. д.?
— Конечно, меньше всего.
— И душу — по крайней мере наиболее мужественную и разумную — всего меньше расстроит и изменит какое-либо внешнее воздействие.
— Да.
— Даже и всякие составные вещи — утварь, постройки, одежда, если они хорошо сделаны и содержатся в порядке, на том же самом основании меньше всего изменяются под влиянием времени и других воздействий.
— Это так.
— Все, что хорошо от природы или благодаря искусству, а также благодаря тому и другому, меньше всего подвержено изменению под воздействием иного.
— По-видимому.
— Но ведь бог и то, что с ним сопряжено, это во всех отношениях наилучшее.
— Конечно.
— По этой причине бог всего менее должен принимать различные формы.
— Именно: всего менее.
— Разве что он сам себя превращает и изменяет?
— Очевидно, если только он изменяется.
— Превращает ли он себя в нечто лучшее и более прекрасное или в нечто худшее и безобразное?
— Неизбежно, что в худшее, если только он изменяется. Ведь мы не скажем, что бог испытывает недостаток в красоте и добродетели.
— Ты совершенно прав. Но раз это так, считаешь ли ты, Адимант, что кто-либо, будь это бог или человек, добровольно сделает себя худшим в каком-нибудь отношении?
— Это невозможно.
— Значит, невозможно и то, чтобы бог пожелал изменить самого себя; но, очевидно, каждый из богов, будучи в высшей степени прекрасным и превосходным — насколько лишь это возможно, — пребывает попросту всегда в своей собственной форме.
— По-моему, это совершенно необходимо.
— Так пусть никто из поэтов, друг мой, не рассказывает нам, будто
Боги нередко, облекшися в образ людей чужестранных,
Входят в чужие жилища... [62]
И пусть никто не возводит напраслины на Протея и Фетиду[63], и в трагедиях и разных других сочинениях пусть не выводят Геру, превратившуюся в жрицу, собирающую подаяние для
Инаха жизнедающих детей — сыновей Аргоссца речного[64],
и пусть вообще не выдумывают подобной лжи. В свою очередь и матери не должны, поверив им, пугать детей россказнями, будто какие-то боги бродят по ночам под видом разных чужестранцев — это хула на богов, да и дети делаются от этого боязливыми.
— Да, этого нельзя допускать.
— Значит, сами боги не изменяются. Но может быть, они колдовством вводят нас в обман, внушая нам представления о различных своих обличьях?
— Может быть.
— Что же? Пожелает ли бог лгать, выставляя перед нами — на словах ли или на деле — всего лишь призрак?
— Не знаю.
— Ты не знаешь, что подлинную ложь — если можно так выразиться — ненавидят все боги и люди?!
— Как, как ты говоришь?
— Так, что относительно самого для себя важного и о самых важных предметах никто не пожелает никого добровольно вводить в обман или обмануться сам — тут всякий всего более остерегается лжи.
— Я все еще не понимаю.
— Ты думаешь, я высказываю что-то особенное? Я говорю только, что вводить свою душу в обман относительно действительности, оставлять ее в заблуждении и самому быть невежественным и проникнутым ложью — это ни для кого не приемлемо: здесь всем крайне ненавистна ложь.
— И весьма даже.
— Так вот то, о чем я только что сказал, можно с полным правом назвать подлинной ложью: это укоренившееся в душе невежество, свойственное человеку, введенному в заблуждение. А словесная ложь — это уже воспроизведение душевного состояния, последующее его отображение, и это-то уж не будет беспримесной ложью в чистом виде. Разве не так?
— Конечно, так.
— Действительная ложь ненавистна не только богам, но и людям.
— По-моему, да.
— Так что же? Словесная ложь бывает ли иной раз для чего-нибудь и полезна, так что не стоит ее ненавидеть? Например, по отношению к неприятелю и так называемым друзьям? Если в исступлении или безумии они пытаются совершить что-нибудь плохое, не будет ли ложь полезным средством, чтобы удержать их? Да и в тех преданиях, о которых мы только что говорили, не делаем ли мы ложь полезной, когда как можно более уподобляем ее истине, раз уж мы не знаем, как это все было на самом деле в древности? [65]
— Конечно, все это так.
— Но в каком же из этих отношений могла бы ложь быть полезной богу? Может быть, не имея сведений о древних временах, он обманывает с помощью уподобления?
— Это было бы просто смешно.
— Значит, в боге не живет лживый поэт.
— По-моему, так.
— А стал бы бог обманывать из страха перед врагами?
— Это никак не может быть.
— А из-за неразумия или помешательства своих близких?
— Никакой неразумный или помешанный не мил богу.
— Значит, нет ничего, ради чего бы он стал обманывать.
— Ничего.
— Значит, любому божественному началу ложь чужда.
— Совершенно чужда.
— Значит, бог — это, конечно, нечто простое и правдивое и на деле, и в слове; он и сам не изменяется и других не вводит в заблуждение ни на словах, ни посылая знамения — ни наяву, ни во сне.
— Мне и самому это становится ясным из твоих слов.
— Значит, ты соглашаешься, что обязательным и для рассуждений, и для творчества, если они касаются богов, будет у нас этот второй образец: боги не колдуны, чтобы изменять свой вид и вводить нас в обман словом ли или делом.
— Согласен.
— Значит, многое одобряя у Гомера, мы, однако, не одобрим того сновидения, которое Зевс послал Агамемнону; [66]не одобрим мы и того места Эсхила, где Фетида говорит, что Аполлон пел на ее свадьбе, суля ей счастье в детях:
Болезни их минуют, долог будет век —
Твоя судьба, сказал он, дорога богам.
Такою песнью он меня приветствовал.
Надеялася я, что ложь чужда устам
Божественным и Феба прорицаниям.
Так пел он сам, на пире сам присутствовал,
Сам так предрек и сам же он убийцей стал
Мне сына моего. [67]
сКогда кто станет говорить подобные вещи о богах, он вызовет у нас негодование, мы не дадим ему хора, и не позволим учителям пользоваться такими сочинениями при воспитании юношества, так как стражи должны у нас быть благочестивыми и божественными, насколько это под силу человеку.
—Я вполне согласен с этими предначертаниями и готов пользоваться ими как законами.
КНИГА ТРЕТЬЯ.
[Роль поэзии в воспитании стражей]
— Итак, что касается богов, — сказал я, — то дело будет у нас обстоять примерно таким образом: ко всему этому должны сразу же, с малых лет прислушиваться — или, наоборот, не прислушиваться — те, кто намерен почитать богов и своих родителей и не будет умалять значения дружбы между людьми.
— И я думаю, — сказал Адимант, — что это у нас правильный взгляд.
— Так что же? Если они должны быть мужественными, разве не следует ознакомить их со всем этим — с тем, что позволит им нисколько не бояться смерти? Разве, по-твоему, может стать мужественным тот, кому свойствен подобный страх?
— Клянусь Зевсом, по-моему, нет.
— Что же? Кто считает Аид существующим, и притом ужасным, разве будет тот чужд страха смерти и разве предпочтет он поражению и рабству смерть в бою?
— Никогда.
— Нам надо, как видно, позаботиться и о таких мифах и требовать от тех, кто берется их излагать, чтобы они не порицали все то, что в Аиде, а скорее хвалили: ведь в своих порицаниях они не правы, да и не полезно это для будущих воинов.[68]
— Да, этим надо заняться.
— Вычеркнем же начиная с первого же стиха все в таком роде:
Лучше б хотел я живой, как поденщик работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый;[69]
а также:
И жилищ бы его не открыл и бессмертным и смертным,
Мрачных, ужасных, которых трепещут и самые боги;[70]
или:
Боги! так подлинно есть и в Аидовом доме подземном
Дух человека и образ, но он совершенно бесплотный;[71]
а также:
Он лишь с умом, все другие безумными тенями веют;[72]
или:
Тихо душа, излетевши из тела, нисходит к Аиду,
Плачась на жребий печальный, бросая и крепость и юность;[73] а также:
...душа [Менетида], как облако дыма, сквозь землю
С воем ушла... [74];
или:
как мыши летучие, в недрах глубокой пещеры
Цепью к стенам прикрепленные, — если одна, оторвавшись,
Свалится наземь с утеса, визжа, в беспорядке порхая;
Так, завизжав, полетели... [75]
Мы извиняемся перед Гомером и остальными поэтами — пусть они не сердятся, если мы вычеркнем эти и подобные им стихи, и не потому, что они непоэтичны и неприятны большинству слушателей, нет, наоборот: чем более они поэтичны, тем менее следует их слушать и детям и взрослым, раз человеку надо быть свободным и больше смерти страшиться рабства.
— Совершенно верно.
— Кроме того, следует отбросить и все связанные с этим страшные, пугающие обозначения — "Кокит", "Стикс", "покойники", "усопшие" и так далее, отчего с у всех слушателей волосы встают дыбом[76]. Возможно, что все это пригодно для какой-нибудь другой цели, но мы опасаемся за наших стражей, как бы они не сделались у нас от таких потрясений чересчур возбудимыми и чувствительными.
— И правильно опасаемся.
— Значит, это надо отвергнуть.
— Да.
— И надо давать иной, противоположный образец для поэтического воспроизведения?
— Очевидно.
— Значит, мы исключим [из поэзии] сетования и, жалобные вопли прославленных героев?
— Это необходимо, если следовать ранее сказанному.
— Посмотри, — сказал я, — правильно ли мы делаем, исключая подобные вещи, или нет. Мы утверждаем, что достойный человек не считает чем-то ужасным смерть другого, тоже достойного человека, хотя бы это и был его друг.
— Да, мы так утверждаем.
— Значит, он не станет сетовать, словно того постигло нечто ужасное.
— Конечно, не станет.
— Но мы говорим также, что такой человек больше кого бы то ни было довлеет сам себе, ведя достойную жизнь, и в отличие от всех остальных мало нуждается в ком-то другом.
— Это верно.
— Значит, для него совсем не страшно лишиться сына или брата, или имущества, или чего-либо другого, подобного этому.
— Совсем не страшно.
— Значит, он вовсе не будет сетовать и с величайшей кротостью перенесет постигшее его несчастье.
— С величайшей.
— Значит, мы правильно исключили бы для знаменитых героев плачи, предоставив их женщинам, и то несерьезным, да разве еще и никчемным мужчинам. Таким образом, возмутительным считали бы прибегать к этому те, кого мы, как было сказано, воспитываем для охраны страны.
— Правильно.
— И снова мы попросим Гомера и остальных поэтов не заставлять Ахилла, коль скоро он сын богини, "то на хребет... то на бок" ложиться, "то ниц обратяся", или чтобы он, "напоследок бросивши ложе, берегом моря бродил... тоскующий" и "быстро в обе ... руки схвативши нечистого пепла, голову... им осыпал". [77]Да и по другому поводу пусть он не плачет и не сетует, как это часто выдумывает Гомер; и пусть бы Приам, раз он стал близок богам,
по грязи катаясь, не умолял,
называя по имени каждого мужа.[78]
А еще более мы попросим Гомера не заставлять богов скорбеть, произнося:
"Горе мне бедной, горе несчастной, героя родившей".[79]
Если и вообще нельзя так изображать богов, то какую же надо иметь дерзость, чтобы вывести величайшего из богов настолько непохожим на себя, что он говорит:
"Горе! любезного мужа, гонимого около града,
Видят очи мои, и болезнь проходит мне сердце";[80]
Или:
"Горе! Я зрю, Сарпедону, дражайшему мне между смертных,
Днесь суждено под рукою Патрокловой пасть побежденным!"[81]
Если наши юноши, дорогой Адимант, всерьез примут такие россказни и не осмеют их как нечто недостойное, то вряд ли кто-нибудь, будучи лишь человеком, сочтет ниже своего достоинства и поставит себе в упрек, если ему придет в голову сказать или совершить что-нибудь подобное, — напротив, он без всякого стыда и по малейшему поводу станет распевать заплачки и причитать.
— Сущая правда.
— Этого не должно быть, как только что выяснилось в нашем рассуждении, на которое и надо полагаться, пока нам не приведут иных, лучших доводов.
— Согласен.
— Но наши юноши не должны также быть и чрезмерно смешливыми: почти всегда приступ сильною смеха сменяется потом совсем иным настроением.
— Да, мне так кажется.
— Значит, нельзя допускать, чтобы изображали, как смех одолевает достойных людей и уж всего менее богов.
— Да, это уж всего менее.
— Следовательно, мы не допустим и таких выражений Гомера о богах:
Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба,
Видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится.[82]
Этого, по твоим словам, нельзя допускать.
— Да, если тебя интересует мое мнение, этого действительно нельзя допускать.
— Ведь надо высоко ставить истину. Если мы правильно недавно сказали, что богам ложь по существу бесполезна, людям же она полезна в виде лечебного средства, ясно, что такое средство надо предоставить врачам, а несведущие люди не должны к нему прикасаться.
— Да, это ясно.
— Уж кому-кому, а правителям государства надлежит применять ложь как против неприятеля, так и ради своих граждан — для пользы своего государства, но всем остальным к ней нельзя прибегать. [83]Если частное лицо станет лгать подобным правителям, мы будем считать это таким же — и даже худшим — проступком, чем ложь больного врачу, или когда занимающийся гимнастическими упражнениями не говорит правды учителю о состоянии своего тела, или когда гребец сообщает кормчему о корабле и гребцах не то, что на самом деле происходит с ним и с другими гребцами.
— Совершенно верно.
— Значит, если правитель уличит во лжи какого-нибудь гражданина из числа тех,
кто нужен на дело:
Или гадателей, или врачей, иль искусников зодчих...[84]
он подвергнет его наказанию за то, что тот вводит гибельный обычай, переворачивающий государство, как корабль.
— Особенно когда слова завершаются делами.
— Дальше. Рассудительность разве не нужна будет нашим юношам?
— Как не быть нужной?
— А сказывается рассудительность главным образом в том, чтобы не только повиноваться владыкам, но и самим быть владыками удовольствий, которые нам едоставляют еда, питье и любовные утехи.
— По-моему, так.
— Я думаю, мы признаем удачным то, что у Гомера говорит Диомед:
Молча стой, [Капанид], моему повинуясь совету,[85]
а также и стихи, близкие но содержанию:
силой дыша, приближались ахейцы,
Молча шагали, вождей опасаясь своих...[86]
Одобрим мы и все, что на это походит.
— Прекрасно.
— Ну, а вот это:
Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя![87]
и следующие затем стихи — разве они хороши? Да и вообще хорошо ли, если кто-нибудь из простых людей позволит себе в речах или в стихах такое мальчишество по отношению к правителям?
— Нет, совсем нехорошо.
— Я думаю, рассудительности юношей не будет способствовать, если они станут об этом слушать. Впрочем, такие вещи могут доставить удовольствие, в этом нет ничего удивительного. Или как тебе кажется?
— Именно так.
— Ну, что ж? Выводить в своих стихах мудрейшего человека, который говорит, что ему кажется прекрасным, когда
сидят за столами, и хлебом и мясом
Пышно покрытыми ...из кратер животворный напиток
Льет виночерпий и в кубках его опененных разносит...[88]
Годится ли, по-твоему, для развития воздержности слушать об этом юноше? Или вот это:
Но умереть нам голодною смертью всего ненавистней,[89]
или изображать Зевса так, будто когда все остальные боги и люди спали и только один он бодрствовал, он из-за страстного любовного вожделения просто позабыл обо всем, что замыслил, и при виде Геры настолько был поражен страстью, что не пожелал даже взойти в опочивальню, но решился тут же, на земле, соединиться с ней, признаваясь, что страсть охватила его с такой силой, как никогда не бывало даже при первой их встрече "от милых родителей втайне". [90]По такой же точно причине Арес и Афродита были скованы вместе Гефестом.[91]
— Клянусь Зевсом, все это не кажется мне подобающим.
— Зато примеры стойкости во всем, показываемые и упоминаемые прославленными людьми, следует и видеть, и слышать, хотя бы вот это:
В грудь он ударил себя и сказал [раздраженному] сердцу:
Сердце, смирись: ты гнуснейшее вытерпеть силу имело.[92]
— Совершенно верно.
— Нельзя также позволить нашим воспитанникам быть взяточниками и корыстолюбцами.
— Ни в коем случае.
— Нельзя, чтобы они слушали, как воспевается, что
Всех ублажают дары — и богов и царей величайших.[93]
Нельзя похвалить и Феникса, воспитателя Ахилла, который будто бы был прав, советуя Ахиллу принять дары и помочь ахейцам, если же не будет даров, не отступаться от своего гнева. [94]Не согласимся мы также со всем тем, что недостойно Ахилла, — например, когда говорят, будто бы он был настолько корыстолюбив, что принял от Агамемнона дары, [95]или, опять-таки за выкуп, отдал тело мертвеца, а иначе бы не захотел это сделать.[96]
— Подобные поступки не заслуживают похвалы.
— Поскольку это Гомер, я не решаюсь сказать, что даже нечестиво изображать так Ахилла и верить, когда это утверждается и другими поэтами. Но опять-таки вот что Ахилл говорит Аполлону:
Так, обманул ты меня, о зловреднейший между богами!
............Я отомстил бы тебе, когда б то возможно мне было![97]
Даже потоку — а ведь это бог — Ахилл не повиновался[98] и готов был сразиться с ним. И опять-таки о своих кудрях, посвященных другому потоку, Сперхею, Ахилл сказал:
Храбрый Патрокл унесет Ахиллесовы кудри с собою,[99]
а Патрокл был тогда уже мертв. Нельзя поверить, чтобы Ахилл сделал это. Опять-таки рассказы, будто Ахилл волочил Гектора вокруг могилы Патрокла, [100]будто он заклал пленников [101]для погребального костра — все это, скажем мы, ложь. Мы не допустим, чтобы наши юноши верили, будто Ахилл, сын богини и Пелея — весьма рассудительного человека и к тому же внука Зевса, [102]— Ахилл, воспитанный премудрым Хироном,[103] настолько был преисполнен смятения, что питал в себе две противоположные друг другу болезни, — низость одновременно с корыстолюбием, а с другой стороны, пренебрежение к богам и к людям.
— Ты прав.
— Мы ни в коем случае не поверим и не допустим , рассказов, будто Тесей, сын Посейдона, и Пирифой, сын Зевса, пускались в предприимчивые и коварные грабежи, [104]да и вообще будто кто-либо из сыновей бога или героев дерзал на ужасные, нечестивые дела, которые теперь им ложно приписывают. Мало того: мы заставим поэтов утверждать, что либо эти поступки были совершены другими лицами, либо, если и ими, то что они не дети богов; рассказывать же вопреки и тому и другому нельзя. Пусть и не пытаются у нас внушить юношам убеждение, будто боги порождают зло и будто герои ничуть не лучше людей. Как мы говорили и раньше, [105]это нечестиво и неверно — ведь мы уже доказали, что боги не могут порождать зло.
— Несомненно.
— И даже слушать об этом вредно: всякий станет тогда извинять в себе зло, убежденный, что подобные дела совершают и совершали
те, кто родственны богам,
И те, кто к Зевсу близок; средь Идейских гор
Там жертвенник отца их, Зевса, высится.
Не истощилася в них гениев, их предков, кровь.[106]
А потому нам пора перестать рассказывать эти мифы, чтобы они не породили в наших юношах склонности к пороку.
— Совершенно верно.
— Какой же еще вид сочинительства остался у нас для определения того, о чем следует говорить и о чем не следует? Что надо говорить о богах, а также о гениях, героях и о тех, кто в Аиде, уже сказано.
— Вполне.
— Не о людях ли осталось нам сказать?
— Очевидно.
— Однако, друг мой, пока что нам невозможно это остановить.
— Почему?
— Да в этом случае, мне кажется, нам придется сказать, что и поэты, и те, кто пишет в прозе, большей частью превратно судят о людях; они считают, будто несправедливые люди чаще всего бывают счастливы, а справедливые — несчастны; будто поступать несправедливо — целесообразно, лишь бы это оставалось втайне, и что справедливость — это благо для другого человека, а для ее носителя она — наказание. [107]Подобные высказывания мы запретим и предпишем и в песнях, и в сказаниях излагать как раз обратное. Или, по-твоему, не так?
— Нет, так, я в этом уверен.
— Если ты согласен с тем, что я прав, я буду считать, что ты согласен и с нашими прежними рассуждениями.
— Твое предположение верно.
— Что высказывания относительно людей и не должны быть такими, мы установим тогда, когда выясним, что такое справедливость и какая естественная польза происходит от нее для того, кто ее придерживается, все равно, считают ли люди его справедливым или нет.
— Сущая правда.
[Способы выражения, или стили поэтического искусства]
— Покончим на этом с сочинительством. Теперь, как я думаю, надо присмотреться к способам выражения — тогда у нас получится полное рассмотрение и того, о чем, и того, как следует говорить.
Тут Адимант сказал:
— Не понимаю я твоих слов.
— Однако ты должен, — сказал я. — Пожалуй, вот как поймешь ты скорее: все, о чем бы ни говорили сказители и поэты, бывает, не правда ли, повествованием о прошлом, о настоящем либо о будущем?
— Как же иначе?
— И не правда ли. это делают или путем простого повествования, или посредством подражания, либо того и другого вместе? [108]
— Мне надо это еще яснее понять.
— Видно, я потешный и бестолковый учитель. Так вот, подобно тем кто не умеет излагать, я возьму не всё в целом, а какой-нибудь частный случай и на нем попытаюсь объяснить, чего я хочу. Скажи-ка мне, ты знаешь начало "Илиады", где поэт говорит о том, как Хрис просил Агамемнона отпустить его дочь, как тот разгневался и как Хрис, не добившись своего, молил бога отомстить ахейцам? [109]
— Да, я знаю.
— Так ты знаешь, что, кончая стихами:
умолял убедительно всех он ахеян
Паче ж Атридов могучих, строителей рати ахейской,[110]
говорит лишь сам поэт и не старается направить нашу мысль в иную сторону, изображая, будто здесь говорит кто-то другой, а не он сам. А после этого он говорит так, будто он и есть сам Хрис, и старается по возможности заставить нас вообразить, что это говорит не Гомер, а старик-жрец. [111]И все остальное повествование он ведет, пожалуй, таким же образом, будь то событие в Илионе, на Итаке или в других описанных в "Одиссее" местах.[112]
— Конечно.
— Стало быть, и когда он приводит чужие речи, и когда в промежутках между ними выступает от своего лица, это все равно будет повествование?
— Как же иначе?
— Но когда он приводит какую-либо речь от чужого лица, разве мы не говорим, что он делает свою речь как можно более похожей на речь того, о чьем выступлении он нас предупредил?
— Да, мы говорим так.
— А уподобиться другому человеку — голосом или обличьем — разве не означает подражать тому, кому ты уподобляешься?
— Ну и что же?
— В подобном случае, видимо, и Гомер, и остальные поэты повествуют с помощью подражания.
— Конечно.
— Если бы поэт нигде не скрывал себя, все его творчество и повествование оказалось бы чуждым подражанию. А чтобы ты не сказал, что снова не понимаешь, я объясню, как это может получиться. Если бы, сказавши, что пришел Хрис, принес выкуп за дочь и умолял ахейцев, а особенно царей, Гомер продолжал бы затем свой рассказ все еще как Гомер, а не говорил бы так, словно он стал Хрисом, ты понимаешь, что это было бы не подражание, а простое повествование. И было бы оно в таком роде (я передам не в стихах, ведь я далек от поэзии): "Пришел жрец и стал молиться, чтобы боги дали им, взяв Трою, остаться самим невредимыми и чтобы ахейцы, устыдившись бога, вернули ему дочь за выкуп; когда он это сказал, все прочие почтили его и дали согласие, но Агамемнон разгневался и приказал ему немедленно уйти и никогда больше не приходить, а не то не защитит жреца ни жезл, ни божий венец. А о его дочери сказал, что, прежде чем отпустит ее, она состарится вместе с ним в Аргосе. Он велел жрецу уйти и не раздражать его, если тот хочет вернуться домой невредимым. Услышав это, старик испугался и молча удалился, а выйдя из лагеря, стал усердно молиться Аполлону, призывая его всеми его именами и требовательно напоминая ему о своих некогда сделанных ему в угоду дарах — и для построения храмов, и для священных жертвоприношений. В оплату за это он просил, чтобы Аполлон отомстил за эти слезы ахейцам своими стрелами". Вот каким, друг мой, бывает простое повествование, без подражания.[113]
— Понимаю.
— Теперь тебе понятно, что может быть и противоположное этому: стоит только изъять то, что говорит поэт от себя в промежутках между речами, и оставить лишь обмен речами.
— И это понимаю — так бывает в трагедиях.
— Ты очень верно схватил мою мысль, и я думаю, что теперь я уже разъяснил тебе то, что раньше не мог, а именно: один род поэзии и мифотворчества весь целиком складывается из подражания — это, как ты говоришь, трагедия и комедия; другой род состоит из высказываний самого поэта — это ты найдешь преимущественно в дифирамбах; а в эпической поэзии и во многих других видах — оба этих приема, если ты меня понял.
— Соображаю, о чем ты тогда хотел говорить.
— И припомни, о чем мы беседовали перед тем: что говорится в поэзии — уже было указано, но надо рассмотреть еще и как об этом говорится.
— Я помню.
— Об этом-то я как раз и сказал, что нам надо условиться, позволять ли нам подражание в поэтических повествованиях или лишь в некоторых позволять, а в других — нет, и в каких именно, или же совсем исключить подражание.
— Догадываюсь, что ты про себя думаешь о том, допускать ли нам трагедию и комедию в наше государство или нет.
— Может быть, — сказал я, — но, может быть, я не ограничусь этим, я пока не знаю: куда слово понесет нас, как дуновение, туда и надо идти.
— Прекрасно сказано!
— Ты вот что реши, Адимант: должны ли стражи быть у нас подражателями или нет? Впрочем, и это вытекает из предшествовавшего обсуждения — ведь каждый может хорошо заниматься лишь одним делом, а не многими: если он попытается взяться за многое, ему ничего не удастся и ни в чем он не отличится.
— Да, так и будет.
— Не таков ли довод и относительно подражания? Не может один и тот же человек с успехом подражать одновременно многим вещам, будто это всё — одно и то же.
— Да, не может.
— Вряд ли кто сумеет так совместить занятия чем-нибудь достойным упоминания со всевозможным подражанием, чтобы действительно стать подражателем. Ведь даже в случае, когда, казалось бы, два вида подражания близки друг другу, и то одним и тем же лицам это не удается — например, тем, кто пишет и комедии, и трагедии. [114]Разве ты не назвал только что то и другое подражанием?
— Да, конечно, и ты прав, что одни и те же лица не способны одновременно к тому и другому.
— И рапсоды не могут быть одновременно актерами.
— Верно.
— И одни и те же актеры не годятся для комических и трагических поэтов, хотя и то и это — подражание. Разве нет?
— Да, это подражания.
— Вдобавок, Адимант, в человеческой природе, мне кажется, есть столько мелких черточек, что во многом не удастся воспроизвести или выполнить все то, подобием чего служит подражание.
— Это в высшей степени верно.
— Значит, если мы сохраним в силе наше первое рассуждение, наши стражи должны отбросить все остальные занятия и заниматься лишь охраной свободы государства[115] — самым тщательным образом и не отвлекаясь ничем посторонним. Им не надо будет делать ничего другого или чему-либо другому подражать. Если уж подражать, так только тому, что надлежит, то есть сразу же, с малых лет подражать людям мужественным, рассудительным, свободным и так далее. А того, что несвойственно свободному человеку и что вообще постыдно, они и делать не должны (и будут даже не в состоянии этому подражать), чтобы из-за подражания не появилось у них склонности быть и в самом деле такими. Или ты не замечал, что подражание, если им продолжительно заниматься начиная с детских лет, входит в привычку и в природу человека — меняется и наружность, и голос, и духовный склад.
— Да, очень даже замечал.
— Так вот мы не допустим, чтобы те, о ком, повторяю, мы заботимся и кто должен стать добродетельным, подражали бы женщине, хотя сами они мужчины, — все равно, молода ли женщина или уже пожилая, бранится ли она с мужем или спорит с богами, заносчиво воображая себя счастливой, либо, напротив, бедствует и изливает свое горе в жалобных песнях — да всего и не предусмотришь.
— Конечно.
— Не годится и подражание рабыням и рабам — ведь они выполняют лишь то, что рабам положено.
— Да, и это не годится.
— Или подражание дурным людям: ведь они, как водится, трусливы и действуют вопреки тому, о чем мы только что говорили, — злословят, осмеивают друг друга, сквернословят и в пьяном виде, и трезвые, да и вообще, каких только промахов не бывает у них в отношениях между собой и с другими людьми как на словах, так и на деле! Также недопустимо, считаю я, чтобы наши стражи привыкали уподобляться — и словом и делом — людям безумным. Надо уметь распознавать помешанных и испорченных, будь то мужчины или женщины, и ни совершать что-либо подобное, ни подражать им не следует.
— Сущая правда.
— Дальше. Следует ли подражать кузнецам, различным ремесленникам, гребцам на триерах и их начальникам, вообще тем, кто занят чем-нибудь в этом роде?
— Как можно! Ведь нашим стражам не позволено даже ничему этому уделять внимание.
— Дальше. Станут ли они подражать ржанию коней, мычанию быков, журчанию потоков, гулу морей, грому и прочему в том же роде?
— Но ведь им запрещено впадать в помешательство и уподобляться безумцам.
— Если я правильно понимаю твои слова, существует такой вид изложения и повествования, которым мог бы пользоваться действительно безупречный человек, когда ему нужно что-нибудь сообщить; существует, однако, и другой вид, нисколько с этим но схожий, к которому мог бы прибегнуть в своем повествовании человек противоположных природных задатков и воспитания.
— Какие это виды?
— Мне кажется, что умеренному человеку, когда он дойдет в своем повествовании до какого-либо высказывания или действия человека добродетельного, захочется подать это так, словно он сам и есть тот человек; такое подражание не вызывает стыда. Лучше всего, когда подражают надежным и разумным действиям, но гораздо хуже и слабее бывает подражание человеку с расшатанным здоровьем или нестойкому из-за влюбчивости, пьянства, либо каких-нибудь иных невзгод. Когда же повествователь столкнется с кем-нибудь, кто его недостоин, ему не захочется всерьез уподобляться худшему, чем он сам, разве лишь ненадолго, если этот худший совершает все-таки нечто дельное. Повествователь не упражнялся в подражании таким людям, и ему будет стыдно и вместе с тем противно отречься от себя и принять облик людей худших, чем он, которых он по своему духовному складу не .может уважать — разве что лишь в шутку.
— Это естественно.
— Значит, он в своем повествовании воспользуется теми замечаниями, которые мы только что сделали по поводу стихов Гомера: изложение будет у него вестись и тем и другим способом, то есть и посредством подражания, и посредством повествования, но доля подражания будет незначительна, если взять его произведение в целом. Или я не прав?
— Конечно, у этого рассказчика непременно будут такие приемы.
— Значит, у того, кто хуже и на него не похож. тем больше будет всевозможных подражания: этот-то ничем уже не побрезгает, всему постарается подражать всерьез, в присутствии многочисленных слушателей, то есть, как мы говорили, и грому, и шуму ветра и града, и скрипу осей и колес, и звуку труб, флейт и свирелей — любых инструментов — и вдобавок даже лаю собак, блеянию овец и голосам птиц. Все его изложение сведется к подражанию звукам и внешнему облику, а если и будет в нем повествование, то уж совсем мало.
— И это неизбежно.
— Так вот это и есть те два вида изложения, о которых я говорил.
— В самом деле, именно так и бывает.
— Один из этих видов допускает лишь незначительные отклонения, и, если придать этому изложению подобающую гармонию и ритм, у всех правильно его применяющих получится чуть ли не один и тот же слог с единообразной стройностью — ведь отклонения здесь невелики; так же приблизительно обстоит дело и с ритмом.
— Конечно, это так.
— А как обстоит дело с другим видом? Разве он не требует прямо противоположного, то есть совсем различных и ритмов и строя, чтобы подходящим образом воздействовать на слушателей? Ведь здесь возможны разные формы изменений.
— Да, это его отличительная особенность.
— А ведь все поэты или вообще люди, выступающие с чем-нибудь перед слушателями, имеют дело либо с тем, либо с другим из этих способов изложения, либо, наконец, с каким-нибудь их сочетанием.
— Это неизбежно.
— Так что ж нам делать? Допустить ли в нашем государстве все эти виды, или же один который-нибудь из несмешанных, либо, напротив, смешанный вид?
— Если бы мое мнение взяло верх, это был бы несмешанный вид, в котором поэт подражал бы человеку порядочному.
— Однако, Адимант, приятен и смешанный вид. Детям и их воспитателям несравненно приятнее вид, противоположный тому, который ты выбираешь; так и подавляющей части толпы.
— Да, им он много приятнее.
— Но возможно, ты скажешь, что он не согласуется с нашим государственным устройством, потому что у нас человек не может быть ни двойственным, ни множественным, раз каждый делает что-то одно.
— Да, скажу, что не согласуется.
— Поэтому только в нашем государстве мы обнаружим, что сапожник — это сапожник, а не кормчий вдобавок к своему сапожному делу; что земледелец — это земледелец, а не судья вдобавок к своему земледельческому труду и военный человек — это военный, а не делец вдобавок к своим военным занятиям; и так далее.
— Это верно.
— Если же человек, обладающий умением перевоплощаться и подражать чему угодно, сам прибудет в наше государство, желая показать нам свои творения, мы преклонимся перед ним как перед чем-то священным, удивительным и приятным, но скажем, что такого человека у нас в государстве не существует и что недозволено здесь таким становиться, [116]да и отошлем его в другое государство, умастив ему главу благовониями и увенчав шерстяной повязкой, а сами удовольствуемся, по соображениям пользы, более суровым, хотя бы и менее приятным поэтом и творцом сказаний, который подражал бы у нас способу выражения человека порядочного и то, о чем он говорит, излагал бы согласно образцам, установленным нами вначале, когда мы разубирали воспитание воинов.
— Мы, конечно, поступили бы так, если бы это от нас зависело.
— Теперь, друг мой, у нас, пожалуй, уже полностью завершено обсуждение той части мусического искусства, которая касается сочинительства и сказаний: выяснено, о чем надо говорить и как надо говорить.
— Мне тоже так кажется.
— Значит, — сказал я, — остается рассмотреть свойства песнопений и мелической поэзии.
— Очевидно.
— Какими они должны быть и что нам надо о них сказать — это уж всякий выведет из сказанного ранее, если только мы будем последовательны.
Главкон улыбнулся.
— Я лично, Сократ, — сказал он, — пожалуй, не из этих всяких, потому что недостаточно схватываю сейчас, что именно должны мы утверждать. Впрочем, я догадываюсь.
— Во всяком случае,— сказал я,— ты прежде всего смело можешь утверждать, что в мелосе есть три части: слова, гармония и ритм.
— Да, это-то я могу утверждать.
— Поскольку там есть слова, мелос здесь нисколько не отличается от слов без пения, то есть он тоже должен согласоваться с теми образчиками изложения, о которых мы только что говорили.
— Это верно.
— И слова должны сопровождаться гармонией и ритмом.
— Как же иначе?
— Но мы признали, что в поэзии не должно быть причитаний и жалоб.
— Да, не должно.
— А какие же лады свойственны причитаниям? Скажи мне — ты ведь сведущ в музыке.
— Смешанный лидийский, строгий лидийский и некоторые другие в таком же роде.
— Значит, их надо изъять, — сказал я, — они не годятся даже для женщин, раз те должны быть пристойными, не то что уж для мужчин.
— Конечно.
— Стражам совершенно не подходит опьянение, изнеженность и праздность.
— Разумеется.
— А какие же лады разнеживают и свойственны застольным песням?
— Ионийский и лидийский — их называют расслабляющими.
— Так допустимо ли, мой друг, чтобы ими пользовались люди воинственные?
— Никоим образом. Но у тебя остается еще, пожалуй, дорийский лад и фригийский.
— Не разбираюсь я в музыкальных ладах, но ты оставь мне тот, который подобающим образом подражал бы голосу и напевам человека мужественного, находящегося в гуще военных действий и вынужденного преодолевать всевозможные трудности; когда он терпит неудачи, ранен или идет на смерть, или его постигло какое-либо иное несчастье, он стойко, как в строю, переносит свою участь.
Оставь еще и другой музыкальный лад для того, кто в мирное время занят не вынужденной, а добровольной деятельностью, когда он либо в чем-нибудь убеждает — бога ли своими молитвами, человека ли своими наставлениями и увещаниями, пли о чем-то просит, или, наоборот, сам внимательно слушает просьбы, наставления и доводы другого человека и потому поступает разумно, не зазнается, но во всем действует рассудительно, с чувством меры и учитывая последствия.
Вот эти оба лада — "вынужденный" и "добровольный" ты и оставь мне: они превосходно подражают голосам людей несчастных, счастливых, рассудительных, мужественных.[117]
— Но ты просишь оставить не что иное, как те лады, о которых я и говорил сейчас.
— Таким образом, в пении и мелической поэзии не потребуется ни многоголосия, ни смешения всех ладов.
— Мне кажется, что нет.
— Значит, мы не будем готовить мастеров, делающих тритоны, пектиды [118]и всякие другие инструменты множеством струн и ладов.
— По-видимому, нет.
— Ну, а мастеров по изготовлению флейт и флейтистов допустишь ты в наше государство? Разве это не самый многоголосый инструмент, так что даже смешение всех ладов — это лишь подражание игре на флейте?
— Ясно, что это так.
— У тебя остаются лира и кифара — они распространены в городе, в сельских же местностях, у пастухов, были бы в ходу какие-нибудь свирели.
— Так показывает наше рассуждение.
— Мы не совершаем, — сказал я, — ничего необычного, когда Аполлона и его инструменты ставим выше Марсия и его инструментов.[119]
— Клянусь Зевсом, — отвечал он, — это, по-моему, так.
— И клянусь собакой, — воскликнул я, — мы и сами не заметили, каким чистым снова сделали государство, которое мы недавно называли изнеженным.
— Да ведь мы действуем рассудительно, — сказал он.
— Давай же очистим и все остальное. Вслед за гармониями возник бы у нас вопрос о ритмах — о том, что не следует гнаться за их разнообразием и за всевозможными размерами, но, напротив, надо установить, какие ритмы соответствуют скромной и мужественной жизни. А установив это, надо обязательно сделать так, чтобы ритм и напев следовали за соответствующими словами, а не слова — за ритмом и напевом. Твоим делом будет указать, что это за ритмы, как ты сделал раньше относительно музыкальных ладов.
— Но клянусь Зевсом, я не умею объяснить. Я еще, приглядевшись, сказал бы, что имеется три вида стоп, из которых складываются стихотворные размеры, вроде как все лады образуются из четырех звучаний, но какой жизни какие из них подражают — этого я не могу сказать.[120]
— Об этом, — сказал я, — мы посоветуемся с Дамоном, [121]а именно какие размеры подходят для выражения низости, наглости, безумия и других дурных свойств, а какие ритмы надо оставить для выраженияпротивоположных состоянии. Я смутно припоминаю, что слышал, как Дамон называл и какой-то составной плясовой военный размер, одновременно дактилический и героический, [122]но не знаю, как он его строил и как достигал равномерности повышений и понижений в стихе, складывающемся из краткостей и долгот. Помнится, Дамон называл и ямб, и какую-то другую стопу — кажется, трохей, где сочетаются долготы и краткости. [123]В некоторых случаях его порицание или спохвала касались темпов не менее чем самих ритмов или того и другого вместе — впрочем, мне этого не передать. Все это, как я и говорю, предоставим Дамону — ведь это требует долгого обсуждения. Или твое мнение иное?
— Нет, клянусь Зевсом.
— Но вот что по крайней мере ты можешь отметить: соответствие между благообразием и ритмичностью, с одной стороны, и уродством и неритмичностью — с другой.
— Да, конечно.
— Подобным же образом ритмичность отвечает хорошему слогу речи, а неритмичность — его противоположности. То же самое и с хорошей или плохой гармонией, раз уж ритм и лад, как недавно говорилось, должны следовать за речью, а не речь за ними.
— Действительно, они должны сообразоваться со слогом.
— А способ выражения и сама речь разве не соответствуют душевному складу человека?
— Конечно.
— А все прочее — особенности речи?
— Да.
— Значит, ладная речь, благозвучие, благообразие и ладный ритм — это следствие простодушия: не того недомыслия, которое мы смягченно называем так — простодушием, но подлинно безупречного нравственно-духовного склада.
— Вполне согласен.
— Разве юноши не должны всячески стремиться к этому, если намерены выполнять свои обязанности?
— Должны.
— А ведь так или иначе этим полна и живопись, и всякое подобное мастерство — тканье и вышивание, и строительство, и производство разной утвари, и вдобавок даже природа тел и растений — здесь во всем может быть благообразие и уродство. Уродство, неритмичность, дисгармония — близкие родственники злоречия и злонравия, а их противоположность, наоборот, близкое подражание рассудительности и нравственности.[124]
— Безусловно.,
— Так вот, неужели только за поэтами надо смотреть и обязывать их либо воплощать в своих творениях нравственные образы, либо уж совсем отказаться у нас от творчества? Разве не надо смотреть и за остальными мастерами и препятствовать им воплощать в образах живых существ, в постройках или в любой своей работе что-то безнравственное, разнузданное, низкое и безобразное? Кто не в состоянии выполнить это требование, того нам нельзя допускать к мастерству, иначе наши стражи, воспитываясь на изображениях порока, словно на дурном пастбище, много такого соберут и поглотят — день за днем, по мелочам, но в многочисленных образцах, и из этого незаметно для них самих составится в их душе некое единое великое зло. Нет, надо выискивать таких мастеров, которые по своей одаренности способны проследить природу красоты и благообразия, чтобы нашим юношам подобно жителям г здоровой местности все шло на пользу, с какой бы Стороны ни представилось их зрению или слуху что-либо из прекрасных произведений: это словно дуновение из благотворных краев, несущее с собой здоровье и сразу же, с малых лет незаметно делающее юношей близкими прекрасному слову и ведущее к дружбе и согласию с ним.
— Насколько же лучше было бы так воспитывать!
— Так вот, Главкон, — сказал я, — в этом главнейшее воспитательное значение мусического искусства: оно всего более проникает в глубь души и всего сильнее ее затрагивает; ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека, если кто правильно воспитан, если же нет, то наоборот. [125]Кто в этой области воспитан как должно, тот очень остро воспримет разные упущения, неотделанность или природные недостатки. Его раздражение или, наоборот, удовольствие будут правильными; он будет хвалить то, что прекрасно, и, приняв его в свою душу, будет питаться им и сам станет безупречным; а безобразное [постыдное] он правильно осудит и возненавидит с юных лет, раньше даже, чем сумеет воспринять разумную речь; когда же придет пора такой речи, он полюбит ее, сознавая, что она ему свойственна по воспитанию.
— По-моему, — сказал Главкон, — в этом-то и значение мусического искусства для воспитания.
— В таком же роде и умение читать, — сказал я. — Мы с ним справляемся, когда нам становится ясно, что разных букв во всем, где они встречаются, не так уж много; однако мы ни в малом, ни в великом не пренебрегаем ими, будто не стоит и замечать их, но везде стремимся распознать и научаемся читать не раньше, чем с этим справимся.
— Верно.
— Значит, и изображения букв, отражающиеся где-нибудь в воде или в зеркале, мы узнаем не прежде, чем будем знать сами буквы, — впрочем, это требует того же самого искусства и упражнения.
— Безусловно.
— Но ведь это-то я и утверждаю, клянусь богами: нам точно так же не овладеть мусическим искусством — ни самим, ни тем стражам, которых, как мы говорим, мы должны воспитать, пока мы не распознаем повсюду встречающиеся виды рассудительности, мужества, благородного образа мыслей, великодушия и всего того, что им сродни, а также и их противоположности, и пока мы не заметим всего этого там, где оно существует — само по себе или в изображениях; ни в малом, ни в великом мы не станем этим пренебрегать, но будем считать, что здесь требуется то же самое — искусство и упражнение.
— Это совершенно необходимо.
— Значит, — сказал я, — если случится, что прекрасные нравственные свойства, таящиеся в душе какого-нибудь человека, будут согласоваться и с его внешностью, поскольку у них будут иметься общие черты, это будет прекраснейшее зрелище для того, кто способен видеть.
— Конечно.
— А ведь высшая красота в высшей степени привлекательна.
— Еще бы!
— Таких-то вот людей и любил бы всего больше тот, кто предан мусическому искусству. А в ком нет этой гармоничности, тех бы он не любил.
— Да, не любил бы, если это недостаток душевный;
если же физический, можно еще выдержать и находить встречи приятными.
— Понимаю, — сказал я, — у тебя есть или был .такой любимец, поэтому я не возражаю. Но скажи мне рот что: имеется ли что-нибудь общее между рассудительностью и излишествами в удовольствиях?
— Как можно! От них становишься безумным не меньше, чем от страдания.
— А есть ли с ними общее у какой-нибудь другой добродетели?
— Ни в коем случае.
— А, например, с наглостью и разнузданностью?
— Всего менее.
— Можешь ли ты назвать удовольствие более сильное и острое, чем любовные утехи?
— Не могу, да и нет ничего более безумного.
— Между тем правильной любви свойственно любить скромное и прекрасное, притом рассудительно и гармонично.
— Конечно.
— Значит, в правильную любовь нельзя привносить неистовство и все то, что сродни разнузданности?
— Нельзя.
— Стало быть, нельзя привносить и любовное наслаждение: с ним не должно быть ничего общего у правильно любящих или любимых, то есть ни у влюбленного, ни у его любимца.
— Да, Сократ, клянусь Зевсом, это наслаждение не надо привносить.
— В создаваемом нами государстве ты установишь, чтобы влюбленный был другом своему любимцу, вместе с ним проводил время и относился к нему как к сыну во имя прекрасного, если тот согласится. А в остальном пусть он так общается с тем, за кем ухаживает, чтобы никогда не могло возникнуть даже предположения, что между ними есть нечто большее. В противном случае он навлечет на себя упрек в грубости и в непонимании прекрасного.[126]
— Да, это так.
— Не кажется ли и тебе,—сказал я,—-что наше рассуждение о мусическом искусстве пришло к концу? Оно завершилось тем, чем должно было завершиться,— ведь все, что относится к мусическому искусству, должно завершаться любовью к прекрасному.
— Согласен, — сказал Главкон.
[Взаимообусловленность мусического и гимнастического воспитания]
— Вслед за мусическим искусством воспитание юношей должно коснуться и гимнастики.[127]
— Конечно.
— И в этом отношении нужно воспитывать тщательно, начиная с детства и в течение всей жизни. Дело здесь, я думаю, вот в чем — впрочем, решай и ты: я не считаю, что, когда тело у человека в порядке, оно своими собственными добрыми качествами вызывает хорошее душевное состояние; по-моему, наоборот, хорошее душевное состояние своими добрыми качествами обусловливает наилучшее состояние тела. [128]А тебе как кажется?
— По-моему, тоже так.
— Стало быть, если мы достаточно позаботимся о духовном облике наших стражей и затем уже их разумению поручим тщательную заботу о теле, сами же во избежание многословия ограничимся указанием нескольких образцов, мы поступим правильно?
— Вполне.
— Что они должны воздерживаться от опьянения, мы уже говорили. Напиться так, что даже не знаешь, где ты находишься, скорее уж можно кому-нибудь другому, только не стражу.
— Смешно, если страж сам нуждается в страже.
— А как насчет их питания? Ведь эти люди — участники величайшего состязания. Разве не так?
— Да, так.
— Не подойдут ли для них условия жизни атлетов?
— Возможно.
— Но ведь это ведет к сонливости и опасно для здоровья. Разве ты не наблюдаешь, что эти атлеты спят всю жизнь и чуть только нарушат предписанный им уклад, сейчас же начинают очень сильно хворать?
— Да, я это наблюдаю.
— Военные атлеты нуждаются в какой-то лучшей подготовке: им необходимо быть чуткими, как собаки, отличаться крайне острым зрением и слухом и обладать таким здоровьем, чтобы в походах оно не пошатнулось от перемены воды, разного рода пищи, от зноя или ненастья.
— И мне так кажется.
— Но наилучшее гимнастическое воспитание разве не родственно тому мусическому искусству, которое мы только что разбирали?
— Как ты это понимаешь?
— Такое воспитание просто и удобно, особенно в военном деле.
— В каком отношении?
— Об этом можно узнать даже у Гомера. Ты ведь знаешь, что во время похода Гомер не кормит героев на пиршествах ни рыбой, хотя дело происходит у моря, на Геллеспонте, ни вареным мясом, а только жареным, что для воинов в самом деле удобнее: ведь огонь, так сказать, везде под рукой, и не надо возить с собою посуду.
— Да, это много удобнее.
— И о приправах, мне думается, Гомер никогда не упоминает. Впрочем, это знают и все прочие атлеты:
кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии, тому надо воздерживаться ото всего такого.
— И правильно: они это знают и воздерживаются.
— Как видно, ты не одобряешь сиракузского стола и сицилийского разнообразия блюд, раз по-твоему это правильно.[129]
— Не одобряю.
— Значит, и если коринфская девушка мила тем, кто хочет поддерживать свое тело в хорошем состоянии, [130]ты это также порицаешь?
— Разумеется.
— И аттические печенья, хотя они славятся приятным вкусом? [131]
— Конечно.
— Я думаю, мы правильно уподобили бы такое питание и образ жизни мелической поэзии или песнопению, сочиненному одновременно во всех музыкальных ладах и во всех ритмах.
— Конечно.
— Там пестрота порождает разнузданность, здесь же — болезнь. А простота в мусическом искусстве дает уравновешенность души, в области же гимнастики — здоровье тела.
— Совершенно верно.
— Когда в государстве распространятся распущенность и болезни, разве не потребуется открыть суды и больницы? И разве не будут в почете судебное дело и врачевание, когда ими усиленно станут заниматься даже многие благородные люди?
— Да, выйдет так.
— Какое же ты можешь привести еще большее доказательство плохого и постыдного воспитания граждан, если нужду во врачах и искусных судьях испытывают не только худшие люди и ремесленники, но даже и те, кто притязает на то, что они воспитаны на благородный лад? Разве, по-твоему, не позорно и не служит явным признаком невоспитанности необходимость пользоваться, за отсутствием собственных понятий о справедливости, постановлениями посторонних людей, словно они какие-то владыки и могут все решить!
— Это величайший позор.
— А не кажется ли тебе еще более позорным то обстоятельство, что человек не только проводит большую часть своей жизни в судах как ответчик либо как истец, но еще и чванится этим в уверенности, что он сгоразд творить несправедливости, знает всякие уловки и также лазейки, чтобы увернуться от наказания, и все это ради мелких, ничего не стоящих дел? Ему неведомо, насколько прекраснее и лучше построить свою жизнь так, чтобы вовсе не нуждаться в клюющем носом судье.
— Да, это еще более позорно.
— А когда нужда в лечении возникает не из-за ранений или каких-либо болезней, повторяющихся из года в год, но из-за праздности и того образа жизни, о котором мы уже упоминали, — это ли не позорно? Влага и испарения застаиваются тогда, словно в болоте, и это побуждает находчивых Асклепиадов[132] давать болезням название "ветры" и "истечения".
— В самом деле, это новые и нелепые названия болезней.
— Не существовавших, я думаю, во времена Асклепия. [133]Я заключаю так потому, что под Троей его сыновья[134] не порицали той женщины, которая дала раненому Эврипилу выпить прамнийского вина, [135]густо насыпав туда ячменной крупы и наскоблив сыра, что как раз должно было, по-видимому, вызвать слизистое воспаление. Не возражали сыновья Асклепия и против лечебных мер Патрокла.
— Вот уж действительно странное питье для человека в таком состоянии!
— Не так уж оно странно, если ты учтешь, что в те времена, до появления Геродика, [136]Асклепиады, как утверждают, не умели направлять течение болезни, то есть не применяли этого нынешнего способа лечения. Геродик же был учителем гимнастики: когда он заболел, он применил для лечения гимнастические приемы; сперва он терзал этим главным образом самого себя, а затем впоследствии и многих других.
— Каким образом?
— Он оттянул свою смерть: сколько он ни следил за своей болезнью — а она у него была смертельной, — излечиться он, я думаю, был не в силах, вот он и жил, ничем другим не занимаясь, а только лечась, да мучаясь, как бы не нарушить в чем-либо привычный ему образ жизни. Так, в состоянии беспрерывного умирания он и дожил до старости благодаря своей премудрости.
— Хорошо же его вознаградило его искусство!
— По заслугам, раз человек не соображал, что Асклепий не по неведению или неопытности ничего не сообщил своим потомкам об этом виде лечения. Асклепий знал, что у тех, кто придерживается законного порядка, каждому назначено какое-либо дело в обществе, и он его обязан выполнять, а не заниматься всю жизнь праздным лечением своих болезней. Забавно, что подтверждение этому мы наблюдаем у ремесленников, а у людей богатых и слывущих благополучными этого не замечается.
— Что ты имеешь в виду?
— Плотник, когда заболеет, обращается к врачу за лекарством, вызывающим рвоту или усиленное действие желудка, чтобы таким путем избавиться от болезни, а не то просит сделать ему прижигание или разрез. Если же ему назначат длительное лечение, велят кутать голову и так далее, он сразу же скажет, что ему недосуг хворать да и не к чему будет жить, если обращать все внимание на болезнь и пренебрегать надлежащей работой. Распростившись с такого рода врачом, он возвращается к своему обычному образу жизни и, если выздоровеет, продолжает заниматься своим делом; если же его тело не способно справиться с болезнью, наступает конец и избавление от хлопот.
— Такому человеку, видимо, именно так подобает пользоваться врачеванием.
— Не потому ли, что у него есть какая-то работа, и, если он не будет ее выполнять, ему и жить не к чему?
— Очевидно.
— А у богатого, как мы говорили, нет ведь такого обязательного дела, что ему и жизнь станет не в жизнь, если он будет вынужден от него отказаться.
— Но в этом обычно не признаются.
— Ты ведь не согласен с утверждением Фокилида[137], что крепость тела надо развивать в себе лишь тогда, когда уже обеспечены условия жизни?
— Я думаю, что это надо делать еще и раньше.
— Не будем из-за этого воевать с Фокилидом, а лучше выясним для самих себя, нужно ли богатому человеку упражняться ради крепости и не будет ли и ему жизнь не в жизнь, если он этим не занимается, или же только плотникам и другим ремесленникам нельзя возиться со своими болезнями, так как это отвлекает их внимание от работы, и совет Фокилида вообще-то ничему не мешает.
— Клянусь Зевсом, мешает в высшей степени, если такая излишняя забота о своем теле выходит за пределы обычной гимнастики: тогда это раздражает и в домашних делах, и в военных походах, и неприятно также в представителях власти, сидящих в городе.
Но самое главное, такая излишняя забота служит препятствием для приобретения любых знаний, для размышлений и работы над собой: ведь люди предполагают, что этим вызывается всегда какое-то чрезмерное напряжение ума и головокружение, и винят в этом философию, будто она, с помощью которой развивают и проверяют добродетель, всему помехой и будто именно она заставляет человека считать себя вечно больным и непрестанно мучиться состоянием своего здоровья.
— Это похоже на правду.
— Так не сказать ли нам, что и Асклепию это было известно: у кого от природы здоровое тело и кто ведет здоровый образ жизни, но схватил какую-нибудь необычную болезнь, таким людям и при таком их состоянии Асклепий указал, как надо лечиться; лекарствами и разрезами надо изгонять болезни, сохраняя, однако, обычный образ жизни, чтобы не пострадали общественные дела. В случае же внутренних болезней, продолжающихся всю жизнь, Асклепий не делал попыток чуть-чуть облегчить положение больного, различным путем изменяя его образ жизни и тем только затягивая болезнь, и удлинять человеку никчемную его жизнь, да еще дать ему случай произвести, естественно, такое же точно потомство. Кто в положенный человеку срок не способен жить, того, считал Асклепий, не нужно и лечить, потому что такой человек бесполезен и для себя, и для общества.
— Ты утверждаешь, что Асклепий заботился об обществе?
— Это очевидно. Да и его сыновья показали, что он был таков. Разве ты не видишь, как они отличились в битвах под Троей, где применяли свое врачебное искусство именно так, как я говорю? Или не помнишь, что у Менелая из раны, полученной от стрелы Пандара, они
Кровь отжимали, смягчающим зельем обсыпавши рану[138].
А насчет того, что нужно потом пить и есть, они дали Менелаю ничуть не больше предписаний, чем Эврипилу, потому что для излечения довольно бывает лекарства, если до ранения человек был здоров и вел упорядоченный образ жизни, хотя бы сейчас и довелось ему выпить смесь из вина, меда, ячменной крупы и тертого сыра. А жизнь человека от природы болезненного, да к тому же еще невоздержного Асклепиады находили бесполезной и для него самого, и для окружающих, так что, считали они, не стоит за ним ухаживать и его лечить, будь он даже богаче Мидаса[139].
— Если верить тебе, сыновья Асклепия были очень смышлеными.
— Так им и полагается, хотя с нами не согласятся ни трагики, ни Пиндар: они уверяют, что хотя Асклепий и был сыном Аполлона, однако дал себя подкупить, чтобы исцелить одного уже умиравшего богача, за что и был испепелен молнией[140]. Но мы, исходя из того, о чем у нас уже шла речь, не верим им ни в том ни в другом: если он был сыном бога, он, скажем мы, не должен был быть корыстолюбив, а если он корыстолюбив, он не был сыном бога.
— Это-то совершенно верно. Но как ты скажешь, Сократ, вот насчет чего: разве не требуются в нашем государстве хорошие врачи? А такими могли бы быть, всего вероятнее, те, через чьи руки прошло как можно больше людей здоровых и как можно больше больных. Точно так же и с судьями: те из них лучше, кому приходилось общаться с самыми разнообразными по своим природным задаткам людьми.
— Конечно, я говорю о хороших врачах. А знаешь, кого я считаю такими?
— Пожалуйста, скажи мне.
— Что ж, попытаюсь. Но ты в своем вопросе объединил не сходные между собою вещи.
— Как так?
— Искуснейшими врачами стали бы те, кто начиная с малолетства кроме изучения своей науки имел бы дело по возможности с большим числом совсем безнадежных больных, да и сам перенес бы всякие болезни и от природы был бы не слишком здоровым. Ведь лечат, по-моему, не телом тело — иначе было бы недопустимо плохое телесное состояние самого врача,— нет, лечат тело душой, а ею нболезни и от природы был бы не слишком здоровым. Ведь лечат, по-моему, не телом тело — иначе было бы недопустимо плохое телесное состояние самого врача,— нет, лечат тело душой, а ею невозможно хорошо лечить, если она у врача плохая или стала такой.
— Это верно.
— А судья, друг мой, душой правит над душами. Нельзя, чтобы она у него с юных лет воспитывалась среди порочных душ, общалась с ними, прошла бы через всяческие несправедливости и сама поступала так, — и все это только для того, чтобы по собственному опыту заключать о чужих поступках, как о чужих болезнях заключают по своим. Напротив, душа должна смолоду стать невинной и не причастной к дурным нравам, если ей предстоит безупречно и здраво вершить правосудие. Потому-то люди порядочные и кажутся в их молодые годы простоватыми и легко поддаются обману со стороны людей несправедливых — ведь у них самих нет никаких черточек, созвучных людям испорченным.
— В самом деле, они сильно страдают от этого.
— Поэтому хорошим судьей будет не юноша, а старик, который лишь в зрелые годы ознакомился с тем, что такое несправедливость. Ее наличие он подметил не у себя в душе и не как собственное свойство, а, напротив, в душах других людей как нечто ему чуждое. Понадобилось много времени, чтобы он научился разбираться в том, каково это зло, — ведь для него оно предмет знания, а не собственного опыта. — Это будет отличный судья, как видно.
— Да, хороший: вот то, о чем ты спрашивал. Ведь хорош тот, у кого хорошая душа. А человек ловкий во всем подозревающий лишь дурное, сам совершивший немало несправедливостей и считающий себя мастером на все руки и мудрецом, правда, общаясь с себе Подобными, выглядит знатоком своего дела, потому что он всего остерегается, наблюдая на самом себе дурные примеры, но, когда он встречается с хорошими людьми и с теми, кто постарше его, он выглядит глупо, так как бывает некстати недоверчив из-за своего неведения здоровых нравов — ведь эти примеры ему чужды. А так как с людьми порочными он сталкивается чаще, чем с хорошими, то и самому себе и другим он кажется скорее мудрым, чем невеждой.
— Совершенно верно.
— Стало быть, не такого судью нам надо искать, вели мы хотим, чтобы был он хорош и мудр, а такого, как мы указывали прежде. Порочность никогда не может познать ни добродетель, ни самое себя, тогда как добродетель человеческой природы, своевременно получившей воспитание, приобретет знание и о самой себе, и о порочности. Именно такой человек, кажется мне, и становится мудрым, а вовсе не тот, кто негоден.
— И мне так кажется.
— Значит, вместе с такого рода судебным искусством ты узаконишь в нашем государстве и врачевание в том виде, как мы говорили. Оба они будут заботиться гражданах, полноценных как в отношении тела, так и души, а кто не таков, кто полноценен лишь телесно, тем они предоставят вымирать; что касается людей с порочной душой, и притом неисцелимых, то их они сами умертвят.
— Ясно, что так будет всего лучше и для тех, кто страдает подобными недостатками, и для всего государства.
— А юноши, видно, поостерегутся у тебя обращаться в суд, раз они будут владеть тем простым мусическим искусством, которое, как мы говорили, порождает рассудительность.
— Конечно.
— Следуя тем же путем, человек, владеющий мусическим искусством, если пожелает, примет такое же решение, занимаясь гимнастикой, то есть не станет прибегать к врачебной помощи без необходимости.
— Я с этим согласен.
— Он будет заниматься гимнастическими упражнениями и преодолевать трудности во имя природной отваги и пылкости духа, ради их пробуждения, а не ради приобретения силы, — не то, что другие атлеты, которые и питаются, и переносят тяготы только для того, чтобы стать покрепче.
— Ты совершенно прав.
— Те, кто установил, что воспитывать надо сc по мощью мусического и гимнастического искусства, для того ли сделали это, Главкон, чтобы, как думают некоторые, посредством одного развивать тело, а посредством другого — душу?
— А как же иначе?
— Пожалуй, и то и другое установлено главным образом для души.
— Как так?
— Разве ты не замечал, каким бывает духовный склад у тех, кто всю жизнь посвятил гимнастике и вовсе не касался мусического искусства? И каков он у людей, им противоположных?
— Что ты имеешь в виду?
— Грубость и жестокость, с одной стороны, мягкость и изнеженность — с другой.
— Да, я замечал, что занимающиеся только гимнастикой становятся грубее, чем следует, а занимающиеся одним только мусическим искусством — настолько мягкими, что это их не украшает.
— А между тем грубость могла бы способствовать природной ярости духа и при правильном воспитании обратилась бы в мужество; но, конечно, чрезмерная грубость становится тяжкой и невыносимой.
— Да, мне так кажется.
— Что же? Разве кротость не будет свойством характеров, склонных к философии? Правда, излишняя кротость ведет к чрезмерной мягкости, но при хорошем воспитании она остается только кротостью и скромностью.
— Это так.
— А наши стражи, говорим мы, должны обладать обоими этими природными свойствами.
— Да, должны.
— И эти свойства должны согласоваться друг с другом.
— Конечно.
— И в ком они согласованы, душа у того рассудительная и мужественная.
— Вполне.
— А в ком не согласованы — трусливая и грубая.
— И даже очень.
— Если человек допускает, чтобы мусическое искусство завораживало его звуками флейт и через уши, словно через воронку, вливало в его душу те сладостные, нежные и печальные лады, о которых мы только что говорили; если он проводит всю жизнь, то жалобно стеная, то радуясь под воздействием песнопении, тогда, если есть в нем яростный дух, он на первых порах смягчается наподобие того, как становится ковким железо, и ранее бесполезный, крутой его нрав может стать ему ныне на пользу. Но если, не делая передышки, он непрестанно поддается такому очарованию, то он как бы расплавляется, ослабляет свой дух, пока не ослабит его совсем, словно вырежет прочь из души все сухожилия, и станет он тогда "копьеносцем некрепким"[141].
— Несомненно.
— Это происходит быстро, если попадается человек с самого начала по природе своей слабый духом. А тот, у кого яростный дух, и подавив свою горячность, останется вспыльчивым: всякая мелочь его задевает, хотя он и отходчив. Из пылких такие люди становятся раздражительными, гневливыми и полными недовольства.
— Вот именно.
— Что же? Если человек кладет много труда на телесные упражнения, хорошо и обильно ест, но не причастен ни к мусическому искусству, ни к философии, не преисполнится ли он высокомерия и пыла и не превзойдет ли сам себя в мужественности?
— Вполне возможно.
— И что же? Раз он ничем другим не занимается и никак не общается с Музой, его жажда учения, даже если она и была в его душе, не отведала ни познания, ни поиска, осталась непричастной к сочинительству и к прочим мусическим искусствам, а потому она слабеет, делается глухой и слепой, так как она не побуждает этого человека, не питает его и не очищает его ощущений.
— Да, это так.
— Такой человек, по-моему, становится ненавистником слова, невеждой; он совсем не пользуется даром словесного убеждения, а добивается всего дикостью и насилием, как зверь; он проводит жизнь в невежестве и глупости, нескладно и непривлекательно.
— Это совершенно верно.
— Очевидно, именно ради этих двух сторон [человеческой природы] какой-то, я бы сказал, бог даровал людям два искусства: мусическое искусство и гимнастику, но не ради души и тела (это разве что между прочим), а ради яростного и философского начал в человеке, чтобы оба они согласовались друг с другом, то как бы натягиваясь, то расслабляясь, пока не будет достигнуто надлежащее их состояние.
— Видимо, это так.
— Стало быть, кто наилучшим образом чередует гимнастические упражнения с мусическим искусством и в надлежащей мере преподносит их душе, того мы вправе были бы считать достигшим совершенства в мусическом искусстве и осуществившим полную слаженность гораздо более, чем тот, кто настраивает струны.
— Естественно, это так, Сократ.
— Значит, Главкон, и в нашем государстве для сохранения его устройства будет постоянно нужен какой-то такой попечитель.
— И очень даже будет нужен.
— Главные образцы воспитания и обучения пусть будут у нас такими. К чему пускаться в подробности о том, какими будут у наших граждан хороводные пляски, звероловство, псовая охота, состязания атлетов и соревнования в управлении конями и колесницами? В общем примерно ясно, что все это должно согласоваться с главными образцами, так что здесь уже не трудно будет найти то, что требуется.
— Пожалуй, не трудно.
[Отбор правителей и стражей]
— Но что же нам предстоит разобрать после этого? Может быть, кто из этих наших граждан должен начальствовать, а кто — быть под началом?
— Конечно.
— Ясно, что начальствовать должны те, кто постарше, а быть под началом те, кто помоложе.
— Ясно.
— И притом начальствовать должны самые лучшие.
— И это ясно.
— А из земледельцев самые лучшие разве не те, кто отличился в земледелии?
— Да.
— Ну а теперь вот что: раз наши граждане должны быть лучшими из стражей, значит, ими будут те, кто наиболее пригоден для охраны государства.
— Да.
— Здесь требуется и понимание, и способности, а кроме того, и забота о государстве.
— Разумеется.
— А всякий больше всего заботится о том, что он любит.
— Непременно.
— Любит же он больше всего, когда считает, что польза дела — это и его личная польза, и когда находит, что успех дела совпадает с его собственной удачей, в противном же случае — наоборот.
— Да, это так.
— Значит, из стражей надо выбрать таких людей, которые, по нашим наблюдениям, целью всей своей
Жизни поставили самое ревностное служение государственной пользе и ни в коем случае не согласились бы действовать вопреки ей.
— Это были бы подходящие попечители.
— По-моему, среди людей любого возраста надо нам подмечать, кто способен быть на страже таких воззрений, так что ни обольщения, ни насилие не заставят его забыть или отбросить мнение, что надлежит делать наилучшее для государства.
— Как это ты говоришь — отбросить?
— Я скажу тебе. Мне кажется, что мнения выпадают из сознания человека иногда по его воле, а иногда невольно: по его воле, если человек, передумав, отбрасывает ложное мнение, невольно же — когда он отбрасывает любое истинное мнение.
— Как это происходит по нашей воле, я понимаю, но как это бывает невольно, это мне еще надо понять.
— Почему? Разве ты не считаешь, что люди лишаются чего-нибудь хорошего лишь против своей воли, а плохого — всегда добровольно? Разве это не плохо — заблуждаться насчет истины, и разве не хорошо — ее придерживаться? Иметь мнение о том, что действительно существует, разве это, по-твоему, не значит придерживаться истины?
— Ты прав. Мне тоже кажется, что истинных мнений люди лишаются лишь невольно.
— Стало быть, это случается, когда людей обкрадывают, обольщают или насилуют?
— Теперь я снова не понимаю.
— Видно, я выражаюсь, как в трагедиях[142]. Обокраденными я называю тех, кто дал себя переубедить или кто забывчив: одних незаметным для них образом обкрадывает время, других — словесные доводы. Теперь ты понимаешь?
— Да.
— Подвергшимися насилию я называю тех, кого страдания или горе заставили изменить свое мнение.
— Это я тоже заметил. Ты верно говоришь.
— Обольщенными же и ты признаешь, я думаю, тех, кто изменил свое мнение, завороженный удовольствиями или охваченный перед чем-нибудь страхом.
— Все обманчивое, естественно, обольщает.
— Так вот, как я только что и говорил, надо искать
людей, которые всех доблестнее стоят на страже своих взглядов и считают, что для государства следует делать все, по их мнению, наилучшее. Даже в их детские годы, предлагая им занятия, надо наблюдать, в чем кто из них бывает особенно забывчив и поддается обману. Памятливых и не поддающихся обману надо отбирать, а кто не таков, тех отвергнуть. Не так ли?
— Да.
— Надо также возлагать на них труды, тяготы и состязания и там подмечать то же самое.
— Правильно.
— Надо, стало быть, устроить для них испытание и третьего вида, то есть проверку при помощи обольщения, и при этом надо их наблюдать[143]. Подобно тому как жеребят гоняют под шум и крик, чтобы подметить, пугливы ли они, так и юношей надо подвергать сначала чему-нибудь страшному, а затем, для перемены, приятному, испытывая их гораздо сильнее, чем золото и огне: так выяснится, поддается ли юноша обольщению, во всем ли он благопристоен, хороший ли он страж как самого себя, так и мусического искусства, которому он обучался, покажет ли он себя при всех обстоятельствах умеренным и гармоничным, способным принести как можно больше пользы и себе, и государству. Кто прошел это испытание и во всех возрастах — детском, юношеском и зрелом — выказал себя человеком цельным, того и надо ставить правителем и стражем государства, ему воздавать почести и при жизни, и после смерти, удостоив его почетных похорон и особо увековечив о нем память. А кто не таков, тех надо отвергнуть. Вот каков должен быть, Главкон, отбор правителей и стражей и их назначение; правда, это сказано сейчас лишь в главных чертах, без подробностей.
— Мне тоже кажется, что это должно быть так.
— Разве не с полным поистине правом можно назвать таких стражей совершенными? Они охраняли бы государство от внешних врагов, а внутри него оберегали бы дружественных граждан, чтобы у этих не было желания, а у тех — сил творить зло. А юноши, которых мы только что называли стражами, были бы помощниками правителей и проводниками их взглядов.
— Я согласен.
— Но какое мы нашли бы средство заставить преимущественно самих правителей — а если это невозможно, так хоть остальных граждан — поверить некоему благородному вымыслу из числа тех, которые, как мы недавно говорили[144], возникают по необходимости?
— Какому же это вымыслу?
— Вовсе не новому, а финикийскому[145]: прежде это нередко случалось, как рассказывают поэты, и люди им верят, но в наше время этого не бывало, и не знаю, может ли быть, и, чтобы заставить этому верить, требуются очень убедительные доводы.
— Ты, видимо, не решаешься сказать.
— Моя нерешительность покажется тебе вполне естественной, когда я скажу.
— Говори, не бойся.
— Хорошо, я скажу, хотя и не знаю, как мне набраться смелости и какими выражениями воспользоваться. Я попытаюсь внушить сперва самим правителям и воинам, а затем и остальным гражданам, что все то, в чем мы их воспитали и взрастили, представилось им во сне как пережитое, а на самом-то деле они тогда находились под землей и вылепливались и взращивались в ее недрах — как сами они, так и их оружие и различное изготовляемое для них снаряжение. Когда же они были совсем закончены, земля, будучи их матерью, произвела их на свет[146]. Поэтому они должны и поныне заботиться о стране, в которой живут, как о матери и кормилице, и защищать ее, если кто на нее нападет, а к другим гражданам относиться как к братьям, также порожденным землей[147].
— Недаром ты так долго стеснялся изложить этот . — вымысел.
— Вполне естественно. Однако выслушай и остальную часть сказания. Хотя все члены государства братья (так скажем мы им, продолжая этот миф), но бог, вылепивший вас, в тех из вас, кто способен править, примешал при рождении золота, и поэтому они наиболее ценны, в помощников их — серебра, железа же и меди — в земледельцев и разных ремесленников. . Вы все родственны, по большей частью рождаете себе подобных, хотя все же бывает, что от золота родится серебряное потомство, а от серебра — золотое; то же и в остальных случаях. От правителей бог требует прежде всего и преимущественно, чтобы именно здесь они оказались доблестными стражами и ничто так усиленно не оберегали, как свое потомство, наблюдая, что за примесь имеется в душе их детей, и, если ребенок родится с примесью меди или железа, они никоим образом не должны иметь к нему жалости, но поступать так, как того заслуживают его природные задатки, то есть включать его в число ремесленников или земледельцев; если же родится кто-нибудь с примесью золота или серебра, это надо ценить и с почетом переводить его в стражи или в помощники. Ведь есть предсказание, что государство разрушится, когда его будет охранять железный страж или медный[148]; но как заставить поверить этому мифу — есть ли у тебя для этого какое-нибудь средство?
— Никакого, чтобы поверили сами [первые] стражи, но можно это внушить их сыновьям и позднейшим потомкам.
— Однако уже и это способствовало бы тому, чтобы граждане с большей заботой относились и к государству, и друг к другу: я примерно так понимаю твои слова. Успех здесь зависит от того, насколько распространится такая молва; мы же, снабдив этих наших земнородных людей оружием, двинемся с ними вперед под руководством правителей. Придя на место, пусть они осмотрятся, где им всего лучше раскинуть в городе лагерь, чтобы удобнее было держать жителей в повиновении в случае, если кто не пожелает подчиняться законам, и отражать внешних врагов, если неприятель нападет, как волк на стадо. Раскинув лагерь и совершив надлежащие жертвоприношения, пусть они займутся устройством жилья. Не так ли?
— Да, так.
— Жилье, не правда ли, должно быть таким, чтобы могло укрывать их и зимой, и летом?
— Как же иначе? Ведь ты, мне кажется, говоришь о домах.
— Да, но о домах для воинов, а не для дельцов.
— А в чем же, по-твоему, здесь разница?
— Попытаюсь тебе объяснить. Самое ужасное и безобразное — это если пастухи так растят собак для охраны стада, что те от непослушания ли, с голоду или по дурной привычке причиняют овцам зло и похожи не на собак, а на волков.
— Это ужасно, конечно.
— Надо всячески остерегаться, чтобы помощники [правителей], раз уже они превосходят граждан, не делали бы у нас по отношению к ним ничего подобного, но оставались бы их доброжелательными союзниками и не уподоблялись свирепым владыкам.
— Да, этого надо остерегаться.
— Величайшая осторожность была бы обеспечена, если бы они были действительно хорошо воспитаны.
— Но ведь это так и есть, — заметил Главкон. Тут я сказал:
— На этом не стоит настаивать, дорогой мой Главкон. Лучше будем утверждать то, о чем мы недавно говорили: они должны получить правильное воспитание, каково бы оно ни было, раз им предстоит соблюдать самое главное — с кротостью относиться и друг к другу, и к охраняемым ими гражданам.
— Это мы правильно говорили.
[Быт стражей]
— В дополнение к их воспитанию, скажет всякий здравомыслящий человек, надо устроить их жилища и прочее их имущество так, чтобы это не мешало им быть наилучшими стражами и не заставляло бы их причинять зло остальным гражданам.
— Да, здравомыслящий человек скажет именно так.
— Смотри же, — продолжал я, — если им предстоит быть такими, не следует ли устроить их жизнь и жилища примерно вот каким образом: прежде всего никто не должен обладать никакой частной собственностью, если в том нет крайней необходимости. Затем ни у кого не должно быть такого жилища или кладовой, куда не имел бы доступа всякий желающий. Припасы, необходимые для рассудительных и мужественных знатоков военного дела, они должны получать от остальных граждан в уплату за то, что их охраняют. Количества припасов должно хватать стражам на год, но без излишка. Столуясь все вместе, как во время военных походов, они и жить будут сообща[149]. А насчет золота и серебра надо сказать им, что божественное золото — то, что от богов — они всегда имеют в своей душе, так что ничуть не нуждаются в золоте человеческом, да и нечестиво было бы, обладая уем золотом, осквернять его примесью золота смертного: у них оно должно быть чистым, не то, что ходячая монета, которую часто нечестиво подделывают. Им одним не дозволено в нашем государстве пользоваться золотом и серебром, даже прикасаться к ним, быть с ними под одной крышей, украшаться ими или пить из золотых и серебряных сосудов[150]. Только так могли бы стражи остаться невредимыми и сохранить государство. А чуть только заведется у них собственная земля, дома, деньги, как сейчас же из стражей станут они хозяевами и земледельцами; из союзников остальных граждан сделаются враждебными им владыками; ненавидя сами и вызывая к себе ненависть, питая злые умыслы и их опасаясь, будут они все время жить в большем страхе перед внутренними врагами, чем перед внешними, а в таком случае и сами они, и все государство устремится к своей скорейшей гибели.
Вот по этим причинам, как я сказал, и надо именно гак устроить жилища стражей и все прочее и возвести это в закон. Или ты не согласен?
— Согласен, — отвечал Главкон.
КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.
Тут вмешался Адимант:
— Как же тебе защититься, Сократ,— сказал он,— если станут утверждать, что не слишком-то счастливыми делаешь ты этих людей, и притом они сами будут в этом виноваты: ведь, говоря по правде, государство в их руках, но они не воспользуются ничем из предоставляемых государством благ, между тем как другие приобретут себе пахотные поля, выстроят большие, прекрасные дома, обставят их подобающим образом, будут совершать богам свои особые жертвоприношения, гостеприимно встречать чужеземцев, владеть тем, о чем ты только что говорил, — золотом и серебром и вообще всем, что считается нужным для счастливой жизни. Видимо, твои стражи обосновались в государстве, можно сказать, попросту как наемные вспомогательные отряды, исключительно для сторожевой службы.
— Да, — сказал я, — и вдобавок в отличие от остальных они служат только за продовольствие, не получая сверх него никакого вознаграждения, так что им невозможно ни выезжать в чужие земли по собственному желанию, ни подносить подарки гетерам, ни производить иные траты по своему усмотрению, какие бывают у тех, кто слывет счастливым. Все это и еще многое другое в том же роде ты упустил, выдвигая против меня твое обвинение.
— Ну, так включим все это в обвинение, — сказал Адимант.
— Значит, ты спрашиваешь, как мы построим свою защиту?
— Да, я спрашиваю об этом.
[Модель идеального государства (утопия)]
— Я думаю, мы найдем, что сказать, если двинемся по тому же пути. Мы скажем, что нет ничего удивительного, если наши стражи именно таким образом будут наиболее счастливы; а впрочем, мы основываем это государство, вовсе не имея в виду сделать как-то особенно счастливым один из слоев его населения, но, наоборот, хотим сделать таким все государство в целом. Ведь именно в таком государстве мы рассчитывали найти справедливость, а несправедливость, наоборот, в наихудшем государственном строе и на основании этих наблюдений решить вопрос, так долго нас занимающий. Сейчас мы лепим в нашем воображении государство, как мы полагаем, счастливое, но не в отдельно взятой его части, не так, чтобы лишь кое-кто в нем был счастлив, но так, чтобы оно было счастливо все в целом; а вслед за тем мы рассмотрим государство, ему противоположное. Это вроде того как если бы мы писали картину, а кто-нибудь подошел и стал порицать нас за то, что для передачи самых красивых частей живого существа мы не пользуемся самыми красивыми красками: например, если глаза, хотя это самое красивое, были бы нарисованы не пурпуром, а черным цветом. Пожалуй, было бы уместно, защищаясь от таких упреков, сказать: "Чудак, не думай, будто мы должны рисовать глаза до того красивыми, что они и на глаза-то вовсе не будут похожи; то же самое относится и к другим частям тела, — ты смотри, выходит ли у нас красивым все в целом, когда мы каждую часть передаем подобающим образом".[151]
Вот и сейчас — не заставляй нас соединять с должностью стражей такое счастье, что оно сделает их кем угодно, только не стражами. Мы сумели бы и земледельцев нарядить в пышные одежды, облечь в золото и предоставить им лишь для собственного удовольствия возделывать землю, а гончары пускай с удобством разлягутся у очага, пьют себе вволю и пируют, пододвинув поближе гончарный круг и занимаясь своим ремеслом лишь столько, сколько им захочется. И всех остальных мы подобным же образом можем сделать счастливыми, чтобы так процветало все государство.
Нет, не уговаривай нас, ведь если мы тебя послушаем, то и земледелец не будет земледельцем, и гончар — гончаром, и вообще никто из людей, составляющих государство, не сохранит своего лица. Впрочем, в иных случаях это еще не так важно. Ведь если сапожники станут негодными, испорченными и будут выдавать себя не за то, что они есть на самом деле, в этом государству еще нет беды. Но если люди, стоящие на страже законов и государства, таковы не по существу, а только такими кажутся, ты увидишь, что они разрушат до основания все государство, и только у них одних будет случай хорошо устроиться и процветать.
Если мы сделаем стражей подлинными стражами, они никоим образом не станут причинять зла государству. А кто толкует о каких-то земледельцах, словно они не члены государства, а праздные и благополучные участники всенародного пиршества, тот, вероятно, имеет в виду не государство, а что-то иное. Нужно решить, ставим ли мы стражей, имея в виду наивысшее благополучие их самих, или же нам надо заботиться о государстве в целом и его процветании. Стражей и их помощников надо заставить способствовать этому и надо внушить им, чтобы они стали отличными мастерами своего дела, да и всем остальным тоже. Таким образом, при росте и благоустройстве нашего государства надо предоставить всем сословиям возможность иметь свою долю в общем процветании, соответственно их природным данным.
— По-моему, ты хорошо говоришь.
— Но покажется ли тебе правильно сказанным то, что очень с этим сходно?
— А что именно?
— Посмотри, не это ли портит всех остальных мастеров, так что они становятся плохими...
— Что ты имеешь в виду?
— Богатство и бедность.
— Как это?
— А вот как: разбогатевший горшечник захочет ли, по-твоему, совершенствоваться в своем ремесле?
— Нисколько.
— Скорее он будет становиться все более ленивым и небрежным?
— И даже очень.
— Значит, он станет худшим горшечником?
— И это, конечно, так.
— А если но бедности он не может завести себе инструмента или чего-нибудь другого, нужного для его ремесла, то его изделия будут хуже и он хуже обучит этому делу своих сыновей и других учеников.
— Да, не иначе.
— Значит, и от того, и от другого — и от бедности, и от богатства — хуже становятся как изделия, так и сами мастера.
— Это очевидно.
[Устранение богатства и бедности в идеальном государстве]
— Так, по-видимому, мы нашли для наших стражей еще что-то такое, че го надо всячески остерегаться, — как бы оно не проникло в государство незаметным для стражей образом.
— Что же это такое?
— Богатство и бедность. Одно ведет к роскоши, лени, новшествам, другая кроме новшеств — к низостям и злодеяниям.
— Конечно. Однако, Сократ, взвесь и это: как наше государство будет в силах воевать, если оно не располагает денежными средствами, в особенности если оно будет вынуждено вести войну с большим и богатым государством?
— Ясно, что воевать с одним таким государством ому было бы трудновато, а с двумя — легко.
— Как это?
— Да прежде всего потому, что, раз уж на то пошло, разве не с богатыми людьми будут сражаться наши знатоки военного дела?
— Конечно, с богатыми.
— Так что же, Адимант? Разве тебе не кажется, что одному кулачному бойцу, превосходно подготовленному, будет легко биться с двумя не обученными этому делу, богатыми и тучными людьми?
— Но пожалуй, не с обоими зараз.
— Нет, именно так: от него зависело бы отбежать, затем, обернувшись, ударить первого, кто к нему с приблизится. А если он почаще повторит этот прием, да еще на солнце, в удушливый зной? Разве такой боец не одолеет и большее число подобных противников?
— Спору нет, удивляться этому не приходится.
— Но разве ты не считаешь, что у богатых людей больше умения и опытности скорее уж в кулачном бою, чем в военном деле?
— Считаю.
— Значит, наши знатоки военного дела, естественно, способны сражаться с двойным и даже тройным числом противников.
— Уступаю тебе: по-моему, ты говоришь правильно.
— Далее. Если они пошлют посольство в другое государство и скажут правду, то есть: "Мы вовсе не пользуемся ни золотом, ни серебром — нам это не дозволено, но ведь вам-то можно: значит, если вы будете вести войну в союзе с нами, вам обеспечена наша доля добычи", — думаешь ли ты, что в ответ кто-нибудь предпочтет выступить против крепких, поджарых собак, а не скорее вместе с ними — против тучных ц мягкотелых овец?
— Думаю, что не предпочтет. Ну а если и богатства остальных государств сосредоточатся в одном из них, смотри, не будет ли это опасно для государства, не имеющего богатства?
— Счастлив ты, если считаешь, что заслуживает названия государства какое-нибудь иное, кроме того, которое основываем мы.
— Но почему же?
— У всех остальных название должно быть длиннее, потому что каждое из них представляет собою множество государств, а вовсе не "город", как выражаются игроки[152]. Как бы там ни было, в них заключены два враждебных между собой государства: одно— бедняков, другое —богачей; и в каждом из них опять-таки множество государств, так что ты промахнешься, подходя к ним как к чему-то единому. Если же ты подойдешь к ним как к многим и передашь денежные средства и власть одних граждан другим или самих их переведешь из одной группы в другую, ты всегда приобретешь себе союзников, а противников у тебя будет немного. И пока государство управляется разумно, как недавно и было нами постановлено, его мощь будет чрезвычайно велика; я говорю не о показной, а о подлинной мощи, если даже государство защищает всего лишь тысяча воинов. Ни среди эллинов, ни среди варваров нелегко найти хотя бы одно государство, великое в этом смысле, между тем как мнимо великих множество и они во много раз больше нашего государства. Или ты считаешь иначе?
— Нет, клянусь Зевсом.
[Размер идеального государства]
— Стало быть, как раз это и служило бы нашим правителям пределом для необходимой величины устраиваемого ими государства; и соответственно его размерам они и определят ему количество земли, не посягая на большее.
— О каком пределе ты говоришь?
— По-моему, вот о каком: государство можно увеличивать лишь до тех пор, пока оно не перестает быть единым, но не более этого.
— Прекрасно.
— Стало быть, мы дадим нашим стражам еще и такое задание: всячески следить за тем, чтобы наше государство было не слишком малым, но и не мнимо большим — оно должно быть достаточным и единым.
— Легкую же мы им задали задачу!
— А еще легче будет им то, о чем мы уже упоминали, говоря, что потомство стражей, если оно неудачно уродилось, надо переводить в другие сословия, а значительных людей остальных сословий — в число стражей. Этим мы хотели показать, что и каждого из остальных граждан надо ставить на то одно ' дело, н которому у него есть способности, чтобы, занимаясь лишь тем делом, которое ему присуще, каждый представлял бы собою единство, а не множество: так и все государство в целом станет единым, а не множественным.
— Эта задача проще той.
— Кто-нибудь, возможно, найдет, дорогой мой Адимант, что все наши требования слишком многочисленны и высоки для стражей. Между тем всё это пустяки, если они будут стоять, как говорится, на страже одного лишь великого дела, или, скорее, не великого, а достаточного.
— А что это за дело?
[Роль правильного воспитания, обучения и законов-в идеальном государстве]
— Обучение и воспитание. Если путем хорошего обучения стражи станут умеренными людьми, они и сами без труда разберутся в этом, а так же и во всем том, что мы сейчас опускаем, например: подыскание себе жены и брак, а также деторождение. Ведь все это надо согласовать с пословицей: "У друзей все общее".[153]
— Это было бы вполне правильно.
— Да и в самом деле, стоит только дать первый толчок государственному устройству, и оно двинется вперед само, набирая силы, словно колесо. Ведь правильное воспитание и обучение пробуждают в человеке хорошие природные задатки, а у кого они уже были, благодаря такому воспитанию они становятся еще лучше — и вообще, и в смысле передачи их своему потомству, что наблюдается у всех живых существ.
— Это естественно.
— Короче, тем, кто блюдет государство, надо прилагать все усилия к тому, чтобы от них не укрылась его порча, и прежде всего им надо оберегать государство от нарушающих порядок новшеств в области гимнастического и мусического искусств. Когда ссылаются на то, что
песнопение люди особенно ценят
Самое новое, то, что певцы недавно сложили[154],
надо в особенности опасаться, что могут подумать, будто поэт говорит не о новом содержании песен, а о новом стиле напева, и именно вот это одобрить. Между тем такие вещи не следует одобрять и нельзя таким образом понимать этот стих. Надо остерегаться вводить новый вид мусического искусства — здесь рискуют всем: ведь нигде не бывает перемены приемов мусического искусства без изменений в самых важных государственных установлениях — так утверждает Дамон, и я ему верю.
— И меня присоедини к числу тех, кто ему верит, — сказал Адимант.
— Видно, именно где-то здесь надо будет нашим стражам установить свой сторожевой пост — в области мусического искусства.
— Действительно, сюда легко и незаметно вкрадывается нарушение законов.
— Да, под прикрытием безвредной забавы.
— На самом же деле нарушение законов причиняет именно тот вред, что, мало-помалу внедряясь, потихоньку проникает в нравы и навыки, а оттуда, уже в более крупных размерах, распространяется на деловые взаимоотношения граждан и посягает даже на сами законы и государственное устройство, притом заметь себе, Сократ, с величайшей распущенностью, в конце концов переворачивая всё вверх дном как в частной, так и в общественной жизни.
— Допускаю, что дело обстоит именно так.
— По-моему, да.
— Следовательно, как мы и говорили вначале, даже игры наших детей должны как можно больше соответствовать законам, потому что, если они становятся беспорядочными и дети не соблюдают правил, невозможно вырастить из них серьезных законопослушных граждан.
— Разумеется.
— Если же дети с самого начала будут играть как следует, то благодаря мусическому искусству они привыкнут к законности, и в полную противоположность другим детям эти навыки будут, постоянно возрастая, сказываться во всем, даже в исправлении государственного строя, если что в нем было не так[155].
— Это верно.
— И во всем, что считается мелочами, они найдут нормы поведения; между тем это умение совершенно утрачено теми, о ком мы упоминали сначала.
— Какие же это нормы?
— Следующие: младшим полагается молчать при старших, уступать им место, вставать в их присутствии, почитать родителей[156]; затем идет все, что касается наружности: стрижка, одежда, обувь и так далее. Или ты не согласен?
— Согласен.
— Но я думаю, было бы ни к чему определять все это законом: это нигде не принято, да такие постановления все равно не удержатся, будь они даже изложены письменно.
— Почему?
— В каком направлении кто был воспитан, Адимант, таким и станет, пожалуй, весь его будущий путь. Или, по-твоему, подобное не вызывается обычно подобным?
— Как же иначе?
— И я думаю, мы сказали бы, что от воспитания в конце концов зависит вполне определенный и выраженный результат: либо благо, либо его противоположность.
— Конечно.
— По этой причине я лично и не пытался бы пока что предписывать законы в этой области.
— Естественно.
— Но скажи, ради богов, отважимся ли мы устанавливать какие-либо законы, касающиеся рынка, то есть насчет тех сделок, которые там заключаются, а д если угодно, то и насчет отношений между ремесленниками, перебранок, драк, предъявления исков, назначения судей? А тут еще понадобится взыскивать и определять налоги то на рынке, то в гавани — словом, вообще касаться рыночных, городских, портовых и тому подобных дел.
— Не стоит нам давать предписания тем, кто получил безупречное воспитание: в большинстве случаев они сами без труда поймут, какие здесь требуются законы.
— Да, мой друг, это так, если бог им даст сохранить в целости те законы, которые мы разбирали раньше.
— А если нет, вся их жизнь пройдет в том, что они вечно будут устанавливать множество разных законов и вносить в них поправки в расчете, что таким образом достигнут совершенства.
— По твоим словам, их жизнь будет вроде как у тех больных, которые из-за распущенности не желают бросить свой дурной образ жизни.
— Вот именно.
— Забавное же у них будет времяпрепровождение: лечась, они добиваются только того, что делают свои недуги разнообразнее и сильнее, но все время надеются выздороветь, когда кто присоветует им новое лекарство.
— Действительно, состояние подобных больных именно такое.
— Далее. Разве не забавно у них еще вот что: своим злейшим врагом считают они того, кто говорит им правду, а именно, что, пока они не перестанут пьянствовать, наедаться, предаваться любовным утехам и праздности, им нисколько не помогут ни лекарства, ни прижигания, ни разрезы, а также заговоры, амулеты и тому подобное.
— Но это не слишком забавно: что уж забавного в том, когда верные указания вызывают гнев?
— Ты, как видно, не склонен воздавать хвалу таким людям.
— Нет, клянусь Зевсом.
— Следовательно, ты не воздашь хвалы и государству, которое все целиком, как мы недавно говорили, занимается чем-то подобным. Или тебе не кажется, что то же самое происходит в плохо управляемых государствах, где гражданам запрещается изменять государственное устройство в целом и такие попытки караются смертной казнью? А кто старается быть приятным и угождает гражданам, находящимся под таким управлением, лебезит перед ними, предупреждает их желания и горазд их исполнять, тот, выходит, будет хорошим человеком, мудрым в важнейших делах, и граждане будут оказывать ему почести.
— По-моему, такое государство поступает подобно больным, [о которых ты говорил], а этого я никак не могу одобрить.
— И тебя не восхищает смелость и ловкость тех, то с полной готовностью усердно служит таким государствам?
— Восхищает, но я делаю исключение для тех, кто обманывается на счет таких государств и воображает себя подлинным государственным деятелем, оттого что ею восхваляет толпа.
— Как ты говоришь? Ты не согласен с ними? Или, по-твоему, когда человек не умеет измерять, а множество других людей, тоже не умеющих этого делать, уверяют его, что он ростом в четыре локтя, он все же в состоянии не думать, что он таков?
— Это невозможно.
— Так не сердись на них. И верно, такие законодатели всего забавнее: они, как мы только что говорили, все время вносят поправки в свои законы, думая положить предел злоупотреблениям в делах, но, как я сейчас заметил, не отдают себе отчета, что на самом-то деле уподобляются людям, рассекающим гидру[157].
— Это верно, ничего другого они и не делают.
— Так вот, я считал бы, что в государстве, плохо ли, хорошо ли устроенном, подлинному законодателю нечего хлопотать о таком виде законов, потому что в первом случае они бесполезны и совершенно ни к чему, а во втором кое-что из них установит всякий, кто бы он ни был, в остальном же они сами собой , вытекают из уже ранее имевшихся навыков.
— Что же еще, — спросил Адимант, — остается у нас по части законодательства?
Тогда я сказал:
— У нас-то ничего, а вот у Аполлона, что в Дельфах, — величайшие, прекраснейшие и первейшие законоположения[158].
— Какие же это?
— О постройке святилищ, жертвоприношениях и всем прочем, что касается почитания богов, гениев и героев; также и о погребениях мертвых, и о том, что надо выполнять, чтобы милостиво расположить к себе тех, кто находится там, в Аиде. Подобные вещи самим нам неизвестны, но, основывая государство, мы и другому никому не поверим, если у нас есть ум, и не прибегнем ни к какому иному наставнику, кроме отечественного[159]: ведь в подобных вещах именно этот бог — отечественный наставник всех людей; он наставляет, восседая в самом средоточии Земли, там, где находится ее пуп[160].
— Прекрасно сказано! Так и поступим.
— Далее, сын Аристона, допустим, что государство у тебя уже основано. После этого, взяв какой-нибудь достаточно яркий светильник, посмотри сам — да пригласи и своего брата, а также Полемарха и всех остальных, — не удастся ли нам разглядеть, где там кроется справедливость, а где несправедливость, в чем между ними различие и которой из них надо обладать человеку, чтобы быть счастливым, все равно, утаится ли он от всех богов и людей или нет.
— Вздор, — сказал Главкон, — ты ведь сам обещал произвести такое исследование, считая, что с твоей стороны было бы неблагочестиво не прийти на помощь справедливости по мере твоих сил, любым способом.
— Ты верно напомнил, — сказал я, — так и надо поступить, но и вы должны мне помочь.
— Пожалуйста, мы готовы.
— Я надеюсь найти ответ вот как: думаю, что это государство, раз оно правильно устроено, будет у нас вполне совершенным.
— Непременно.
[Четыре добродетели идеального государства]
— Ясно, что оно мудро, мужествен но, рассудительно и справедливо[161].
— Ясно.
— Значит, при наличии того, что мы в нем обнаружим, ненайденным будет лишь то, что останется?
— Что ты имеешь в виду?
— Это так же, как бывает относительно любых четырех вещей, если мы разыскиваем среди них какую-нибудь одну: достаточно либо заранее знать, что она такое, либо же знать предварительно остальные три вещи; тем самым мы найдем ту, которую ищем, — ведь ясно, что она не что иное, как остаток.
— Ты правильно говоришь.
— Значит, и в нашем вопросе надо тоже так вести поиски, раз наше государство отличается четырьмя свойствами.
— Очевидно.
— И прежде всего, по-моему, вполне очевидна его мудрость, хотя дело с ней представляется несколько странным.
— Почему?
— То. государство, которое мы разбирали, кажется мне действительно мудрым—ведь в нем осуществляются здравые решения, не так ли?
— Да.
— Между тем эти-то здравые решения и суть ка
кое-то знание; невежество здесь не поможет, надо уметь хорошо рассуждать.
— Очевидно.
— А в государстве можно встретить много разнообразных знаний.
— Конечно.
— Так неужели же благодаря знанию плотничьего искусства государство следует назвать мудрым и принимающим здравые решения?
— Вовсе не из-за этого, иначе его следовало бы назвать плотницким.
— Значит, хотя государству и желательно, чтобы деревянные изделия были как можно лучше, однако не за умелое их изготовление можно назвать государство мудрым.
— Конечно, нет.
— Что же? За медные и другие такие же изделия?
— Все это тут ни при чем.
— И не за выращивание плодов земли, иначе государство можно было бы назвать земледельческим.
— Мне кажется так.
— Что же? Есть ли в только что основанном нами д государстве у кого-либо из граждан какое-нибудь такое знание, что с его помощью можно решать не мелкие, а общегосударственные вопросы, наилучшим образом руководя внутренними и внешними отношениями?
— Да, есть.
— Какое же и у кого?
— Это искусство быть всегда на страже: им обладают те правители, которых мы недавно назвали совершенными стражами.
— Раз есть такое знание, то что ты скажешь о нашем государстве?
— В нем осуществляются здравые решения, и оно отличается подлинной мудростью.
— А как ты считаешь, кого больше в нашем государстве — кузнецов или этих подлинных стражей?
— Кузнецов гораздо больше.
— Да и сравнительно со всеми остальными, у кого ость какое-нибудь знание и кто по нему так и прозывается, стражей будет всего меньше.
— Да, намного меньше.
— Значит, государство, основанное согласно природе, всецело было бы мудрым благодаря совсем небольшой части населения, которая стоит во главе и управляет, и ее знанию. И по-видимому, от природы в очень малом числе встречаются люди, подходящие, чтобы обладать этим знанием, которое одно лишь из всех остальных видов знания заслуживает имя мудрости.
— Ты совершенно прав.
— Вот мы и нашли, уж и не знаю каким это образом, одно из четырех свойств нашего государства — и как таковое, и место его в государстве.
— Мне по крайней мере кажется, что мы его достаточно разъяснили.
— Что же касается мужества — каково оно само и где ему место в государстве (отчего и называют государство мужественным) — это не так уж трудно заметить.
— А именно?
— Называя государство робким или мужественным, кто же обратит внимание на что-нибудь иное, кроме той части его граждан, которые воюют и сражаются за него?
— Ни один человек не станет смотреть ни на что иное.
— Ведь, думается мне, по остальным его гражданам, будь они трусливы или мужественны, нельзя заключать, что государство такое, а не иное.
— Нельзя.
— Мужественным государство бывает лишь благодаря какой-то одной своей части — благодаря тому, что в этой своей части оно обладает силой, постоянно сохраняющей то мнение об опасностях — а именно, что они заключаются в том-то и том-то, — которое внушил ей законодатель путем воспитания. Разве не это называешь ты мужеством?
— Я не совсем понял, о чем ты говоришь. Повтори, пожалуйста.
— Мужество я считаю некой сохранностью.
— Какой такой сохранностью?
— Той, что сохраняет определенное мнение об опасности, — что она такое и какова она. Образуется это мнение под воспитывающим воздействием закона. Я сказал, что оно сохраняется, то есть человек сохраняет его и в страданиях, и в удовольствиях, и в страстях, и во время страха и никогда от него не отказывается. А с чем это схоже, я мог бы, если ты хочешь, объяснить тебе с помощью уподобления.
— Конечно, хочу.
— Как ты знаешь, красильщики, желая окрасить шерсть в пурпурный цвет, сперва выбирают из большого числа оттенков шерсти одну только белую краску, затем старательно, разными приемами подготавливают ее к тому, чтобы она получше приняла е пурпурный цвет, и наконец красят. Выкрашенная таким образом шерсть уже не линяет, и стирка, будь то со щелочью или без, не влияет на цвет. В противном случае, ты сам знаешь, что бывает, если красят — все равно, в этот ли цвет или в другой — без предварительной подготовки.
— Знаю, как непрочна тогда окраска и как смешно она выглядит.
— Так вот учти, что нечто подобное делаем и мы по мере сил, когда выбираем воинов и воспитываем их при помощи мусического искусства и гимнастики. Мы не преследуем ничего другого, кроме того, чтобы они по возможности лучше и убежденнее восприняли законы — словно окраску: их мнение об опасностях и обо всем остальном станет прочным благодаря их природным задаткам и полученному ими соответствующему воспитанию, и эту окраску нельзя будет смыть , никакими сильными щелочами — ни удовольствием, которое действует сильнее халестрииского поташа[162] и золы, ни скорбью, ни страхом, ни страстью, вообще ничем из подобных едких средств. Вот подобного рода силу и постоянное сохранение правильного и законного мнения о том, что опасно, а что нет, я называю и считаю мужеством, если ты не возражаешь.
— Я нисколько не возражаю, потому что, мне кажется, то мнение об этом предмете, которое, хотя оно н правильно, возникло помимо воспитания, как это замечается у животных и у рабов, ты не считаешь законным и называешь как-то иначе, только не мужеством.
— Сущая правда.
— Стало быть, я согласен с твоим пониманием мужества.
— Для верного понимания согласись еще и с тем, что здесь говорится о мужестве как о гражданском свойстве. Как-нибудь в другой раз мы, если хочешь, разберем все это получше, ведь сейчас наши поиски касаются не мужества, а справедливости. О мужестве, по-моему, пока что достаточно.
— Прекрасно, — сказал Главкон.
— Остается рассмотреть еще два свойства нашего государства: рассудительность и то, ради чего и предпринято все наше исследование,—справедливость.
— Да, конечно.
— Как бы это нам раньше найти, что такое справедливость, и уж больше не возиться с рассудительностью.
— Я лично не знаю, но мне не хотелось бы выяснять, что такое справедливость, прежде чем мы рассмотрим рассудительность. Если хочешь сделать мне приятное, рассмотри сперва ее.
— Я-то хочу и даже должен, если не ошибаюсь.
— Так приступай.
— Да, обязательно. Рассудительность, с нашей точки зрения, более, чем те, предшествовавшие, свойства, походит на некое созвучие и гармонию.
— Как это?
— Нечто вроде порядка[163] — вот что такое рассудительность; это власть над определенными удовольствиями и вожделениями — так ведь утверждают, приводя выражение "преодолеть самого себя", уж не знаю каким это образом. И про многое другое в этом же роде говорят, что это — следы рассудительности. Не так ли?
— Именно так.
— Разве это не смешно: "преодолеть самого себя"? Выходит, что человек преодолевает того, кто совершенно очевидно сам себе уступает, так что тот, кто уступает, и будет тем, кто преодолевает: ведь при всем этом речь идет об одном и том же человеке.
— Конечно.
— Но мне кажется, этим выражением желают сказать, что в самом человеке, в его душе есть некая лунная часть и некая худшая, и, когда то, что по своей природе лучше, обуздывает худшее, тогда говорят, 'по оно "преодолевает самое себя": значит, это похвала; когда же из-за дурного воспитания или общества верх берет худшее (ведь его такая уйма, а лучшего гораздо меньше), тогда, в порицание и с упреком, называют это "уступкой самому себе", а человека, испытывающего такое состояние, — невоздержным.
— Обычно так и говорят.
— Посмотри теперь на наше новое государство и ты найдешь в нем одно из этих двух состояний: ты скажешь, что такое государство справедливо можно объявить преодолевшим самого себя, поскольку нужно называть рассудительным и преодолевшим самого себя все то, в чем лучшее правит худшим.
— Я смотрю и вижу, что ты прав.
— Множество самых разнообразных вожделений, удовольствий и страданий легче всего наблюдать у женщин и у домашней челяди, а среди тех, кого называют свободными людьми, — у ничтожных представителей большинства.
— Конечно.
— А простые, умеренные [переживания], продуманно направленные с помощью разума и правильного мнения, ты встретишь у очень немногих, лучших по природе и по воспитанию.
— Это верно.
— Так не замечаешь ли ты этого и в нашем государстве: жалкие вожделения большинства подчиняются там разумным желаниям меньшинства, то есть людей порядочных?
— Да, замечаю.
— Значит, если уж признавать какое-нибудь государство преодолевшим и удовольствия, и вожделения, и самое себя, так это будет наше государство.
— Совершенно верно.
— А разве нельзя, согласно всему этому, признать его и рассудительным?
— Вполне можно!
— И опять-таки, если уж в каком-нибудь государстве и у правителей, и у подвластных существует e согласное мнение о том, кому следует править, то оно есть и в нашем государстве. Или ты не согласен?
— Вполне и бесспорно согласен.
— Раз дело обстоит так, то кому из них присуща, скажешь ты, рассудительность — правителям или подвластным?
— Вроде бы тем и другим.
— Ну, вот видишь, мы, значит, верно предсказывали не так давно, что рассудительность подобна некой гармонии[164].
— И что же?
— Это не так, как с мужеством или мудростью: те, присутствуя в какой-либо одной части государства, делают все государство соответственно либо мужественным, либо мудрым; рассудительность же не так проявляется в государстве: она настраивает на свой лад решительно всё целиком; пользуясь всеми своими струнами, она заставляет и те, что слабо натянуты, и те, что сильно, и средние звучать согласно между собою, если угодно, с помощью разума, а то и силой или, наконец, числом и богатством и всем тому подобным, так что мы с полным правом могли бы сказать, что эта вот согласованность и есть рассудительность, иначе говоря, естественное созвучие худшего и лучшего в вопросе о том, чему надлежит править и в государстве, и в каждом отдельном человеке.
— Я вполне того же мнения.
— Хорошо. Мы обозрели эти три свойства нашего государства. А оставшийся неразобранным вид, тот, благодаря которому государство становится причастным добродетели, что он собой представляет? Впрочем, ясно, что это — справедливость.
— Ясно.
— Теперь, Главкон, нам нужно, словно охотникам, выстроиться вокруг этой чащи и внимательно следить, чтобы от нас не удрала справедливость, а то она .ускользнет, и опять все будет неясно. Ведь она явно прячется где-то здесь: ты гляди и старайся ее заметить, а если увидишь первым, укажи и мне.
— Если б я только мог! Скорей уж следовать за тобой, рассматривая, что мне укажут, — вот на что я тебе гораздо больше гожусь.
— Так следуй, помолившись вместе со мною.
— Я так и сделаю, а ты веди меня.
— А ведь верно, здесь непроходимая чаща, кругом темно и трудно хоть что-то разведать. Но все равно — надо идти вперед.
— Да, идем!
Вдруг, заприметив что-то, я воскликнул: "Эй, Главкон, какая радость! Пожалуй, мы напали на ее след, мне кажется, она недалеко от нас убежала!"
— Благие вести! — сказал Главкон.
— Однако и ротозеи же мы!
— Как так?
— Милый мой, она чуть ли не с самого начала вертится у нас под ногами, а мы на нее и не смотрим — просто смех! Это вроде того как иной раз ищешь то, что у тебя в руках: е вот и мы смотрели не сюда, а куда-то вдаль, где она будто бы от нас укрылась.
— Как это ты говоришь?
— А вот как: по-моему, в нашей беседе мы сами себя не поняли, то есть не сообразили, что уже тогда мы каким-то образом говорили именно о справедливости.
— Слишком длинное предисловие, когда не терпится узнать!
— Так слушай и суди сам. Мы еще вначале, когда основывали государство, установили, что делать это надо непременно во имя целого. Так вот это целое и есть справедливость или какая-то ее разновидность. Мы установили, что каждый отдельный человек должен заниматься чем-нибудь одним из того, что нужно в государстве, и притом как раз тем, к чему он по своим природным задаткам больше всего способен.
— Да, мы говорили так.
— Но заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие — это и есть справедливость, об этом мы слышали от многих других, да и сами часто так говорили.
— Да, говорили.
— Так вот, мой друг, заниматься каждому своим делом — это, пожалуй, и будет справедливостью. Знаешь, почему я так заключаю?
— Нет, объясни, пожалуйста.
— По-моему, кроме тех свойств нашего государства, которые мы рассмотрели, — его рассудительности, мужества ц разумности — в нем остается еще то, что дает возможность присутствия их там и сохранения. И мы утверждали, что остаток, после того как мы нашли эти три свойства, и будет справедливостью.
— Непременно.
— Однако если бы требовалось решить, присутствие какого из этих свойств всего более делает наше государство совершенным, это было бы трудной задачей: будет ли это единство мнений у правителей и подвластных, или присутствие у воинов и сохранение ими соответствующего законам мнения о том, что опасно, а что нет, или, наконец, присущая правителям разумность и бдительность? Или же всего более способствует совершенству нашего государства то, что присуще там и ребенку, и женщине, и рабу, и свободному, и ремесленнику, и правителю, и подвластному, а именно: каждый делает свое, не разбрасываясь и не вмешиваясь в посторонние дела?
— Это, конечно, трудно решить.
— Как видно, в вопросе совершенства государства способность каждого гражданина делать свое дело соперничает с мудростью, рассудительностью и мужеством.
— И даже очень.
— Так не полагаешь ли ты, что и справедливость борется с ними за государственное совершенство?
— Несомненно.
— Рассмотри еще вот что — не знаю, согласишься ли ты с этим: разве не правителям государства поручишь ты судебные дела?
— Как же иначе?
— А при судебном разбирательстве разве усилия их будут направлены больше на что-нибудь иное, а не на то, чтобы никто не захватывал чужого и не лишался своего?
— Нет, именно на это.
— Потому что это справедливо?
— Да.
— Значит, и на этом примере можно убедиться, что справедливость состоит в том, чтобы каждый имел свое и исполнял тоже свое.
— Да, это так.
— Ну, а согласишься ли ты со мной вот в чем: если плотник попробует выполнять работу сапожника, а сапожник — плотника, поменявшись с ним и инструментом, и званием, или если один и тот же человек попытается выполнять обе работы и мастера поменяются местами, считаешь ли ты, что государство потерпит большой ущерб?
— Не очень большой.
— Но право, когда ремесленник или кто-либо другой, делец по своим природным задаткам, возвысится благодаря своему богатству, многочисленным связям, силе и тому подобному н попытается перейти в сословие воинов, или когда кто-нибудь из воинов постарается проникнуть в число членов совета или в стражи, будучи этого недостоин, причем и те и другие поменяются и своими орудиями, и своим званием, или когда один и тот же человек попытается все это делать одновременно, тогда, думаю, и ты согласишься, что такая замена и вмешательство не в свое дело — гибель для государства.
— Полнейшая гибель.
— Значит, вмешательство этих трех сословий в чужие дела и переход из одного сословия в другое — величайший вред для государства и с полным правом может считаться высшим преступлением.
— Совершенно верно.
— А высшее преступление против своего же государства не назовешь ли ты несправедливостью?
— Конечно.
— Значит, вот это и есть несправедливость. И давай скажем еще раз: в противоположность ей справедливостью будет — и сделает справедливым государство — преданность своему делу у всех сословий — дельцов, помощников и стражей, причем каждое из них будет выполнять то, что ему свойственно.
— Дело обстоит, как мне кажется, именно таким образом.
— Пока мы не станем утверждать этого слишком решительно, но если идея эта подойдет и к каждому отдельному человеку и подтвердится, что и там осуществляется справедливость, тогда уж мы согласимся, потому что о чем еще и говорить? Если же нет, тогда нам придется исследовать по-другому. А теперь давай завершим наше рассмотрение так, как мы намечали: раз мы сперва взялись наблюдать что-то крупное, в чем осуществляется справедливость, нам уже легче заметить ее в отдельном человеке. Крупным считали мы государство, и его мы устроили как могли лучше, зная наверное, что в совершенном государстве должна быть осуществлена справедливость.
То, что мы там обнаружили, давай перенесем на отдельного человека. Если совпадет — очень хорошо; если же в отдельном человеке обнаружится что-то иное, мы проверим это, снова обратившись к государству. Возможно, что этим сближением, словно трением двух кусков дерева друг о друга, мы заставим ярко вспыхнуть справедливость, а раз она станет явной, мы прочно утвердим ее в нас самих.
— Ты указываешь верный путь, так и надо поступить.
— Если кто называет одним и тем же большее и меньшее, то неужели они не схожи в том, из-за чего их так называют? Или они схожи между собой?
— Схожи.
— Значит, и справедливый человек нисколько не, будет отличаться от справедливого государства по самой идее своей справедливости, но, напротив, будет с ним схож.
— Да, схож.
— Между тем государство мы признали справедливым, когда имеющиеся в нем три различных по своей природе сословия делают каждое свое дело. А рассудительным, мужественным и мудрым мы признали государство вследствие соответствующего состояния и свойств представителей этих же самых сословий.
— Верно.
— Значит, мой друг, мы точно так же будем расценивать и отдельного человека: в его душе имеются те же виды, что и в государстве, н вследствие такого же их состояния будет правильным применить к ним те же обозначения.
— Это совершенно неизбежно.
— Нечего сказать, простой предмет исследования подвернулся нам опять, дорогой мой! Дело идет о душе: имеются ли в ней эти три вида или нет?
— По-моему, это не так просто; ведь, пожалуй, правильно говорится: "прекрасное — трудно".[165]
— По-видимому. И будь уверен, Главкон, что, по моему мнению, теми приемами, которыми мы пользовались сейчас в своих рассуждениях, нам никогда не охватить этого предмета с достаточной точностью — к нему ведет путь гораздо более долгий и длинный; впрочем, пожалуй, он достоин того, о чем мы говорили и что мы рассматривали ранее.
— Так разве этого не довольно? Для меня сейчас и это было бы хорошо.
— А для меня и более того.
— Так не унывай и приступи к рассмотрению.
— Разве нам, — сказал я, — не приходится неизбежно признать, что в каждом из нас присутствуют как раз те же виды нравственных свойств, что и в государстве? Иначе откуда бы им там взяться? [166]Было бы смешно думать, что такое свойство, как ярость духа, развилось в некоторых государствах не оттого, что таковы там отдельные лица — носители этой причины: так обстоит дело с обитателями Фракии, Скифии и почти всех северных земель, а любознательностью отличаются в особенности наши края, корыстолюбие же замечается всего более у финикиян и у египтян[167].
— И даже очень.
— И что с этим дело обстоит именно так, узнать нисколько не трудно.
— Да, нисколько.
— Трудно же узнать вот что: вызываются ли наши действия одним и тем же свойством или, поскольку этих свойств три, каждое из них вызывает особое действие? Познаем мы посредством одного из имеющихся в нас свойств, а гнев обусловлен другим, третье же свойство заставляет нас стремиться к удовольствию от еды, деторождения и всего того, что этому родственно. Или когда у нас появляются такие побуждения, в каждом из этих случаев наши действия вызываются всей нашей душой в целом? Вот что трудно определить так, как того заслуживает этот предмет.
— По-моему, тоже.
— Попытаемся следующим образом определить, тождественны ли эти свойства или же между ними есть различие...
— Как же мы станем определять?
— Очевидно, тождественное не стремится одновременно совершать или испытывать то, что противоположно его тождественности и направлено против нее. Поэтому, если мы заметим, что здесь это наблюдается, мы будем знать, что перед нами не одно и то же, а многое.
— Пусть так.
— Смотри же, к чему я веду.
— Говори.
— Может ли одно и то же в одном и том же отношении одновременно стоять и двигаться?
— Никоим образом.
— Давай условимся поточнее, чтобы впредь не было недоразумений. Если о том, кто стоит, но двигает руками и головой, скажут, что вот человек и стоит, и вместе с тем движется, мы, я думаю, не согласились бы, что следует так говорить, — тут надо бы скапать, что одно у него неподвижно, а другое движется. Не так ли?
— Так.
— Но тот, кто так говорит, привел бы шутливый и еще более остроумный пример: волчок весь целиком стоит и одновременно движется — он вращается, но острие его упирается в одно место. Можно привести и другие примеры предметов, совершающих круговращение, не меняя места. Но мы отбросим все это, потому что в этих случаях предметы пребывают на место и движутся не в одном и том же отношении. Мы сказали бы, что у них имеется прямизна и округлость: в прямом направлении они стоят, ни в какую сторону не отклоняясь, а по кругу они вращаются. Когда же при сохранении периферийного движения прямое направление смещается вправо или влево, вперед или назад, тогда уж никак нельзя говорить, что эти предметы стоят.
— Это верно.
— Следовательно, ни один из приводимых примеров не смутит нас и не переубедит, будто что-нибудь, оставаясь самим собой, станет вдруг испытывать или совершать нечто противоположное своей тождественности или направленное против нее[168].
— Меня-то в этом не убедят.
— Но все же, чтобы нам не пришлось разбирать всевозможные недоумения подобного рода и длинно доказывать их неправомерность, давай допустим, что все это так, и двинемся дальше, условившись, что если когда-либо дело обернется иначе, то отпадут и все следствия, выведенные нами из этого положения.
— Да, так надо сделать.
— Далее: кивать в знак согласия и отрицательно качать головой; стремиться получить что-нибудь и отклонять то же самое; привлекать к себе и отталкивать — всё подобное этому разве ты не примешь за противоположные друг другу действия или состояния?
— Конечно, они противоположны.
— И еще дальше: испытывать жажду и голод п д вообще вожделения, а также желать, хотеть — все это разве ты не отнесешь к тем видам, о которых у нас только что была речь? Разве ты не скажешь, например, что душа вожделеющего человека стремится к предмету своего вожделения или что она привлекает к себе то, чем хочет обладать? Или другой пример: не скажешь ли ты, что, поскольку ей хочется получить что-нибудь, она кивает в знак одобрения сама себе, словно ее об этом спрашивают, и стремится осуществить свое желание?
— Да, я скажу именно так.
— Что же дальше? "Не хотеть", "не желать", "не вожделеть" — разве мы не отнесем все это к тому же [виду], что и "отталкивать", "не принимать душой", то есть ко всему противоположному?
— Конечно.
— Раз это так, то не скажем ли мы, что существует некий вид вожделений и самые упорные из них те, что мы называем жаждой и голодом?
— Да, скажем.
— Первое — это, не правда ли, желание пить, а второе — желание есть?
— Да.
— Поскольку первое — это жажда, то возникает ли в душе человека еще и дополнительное желание, кроме нами указанного? Иначе говоря, будет ли это желанием пить непременно горячее или холодное, много или мало — словом, пить какой-нибудь определенный напиток? Если человеку жарко, не прибавится ли к его жажде желание чего-нибудь холодного, а если ему холодно, то — горячего? Если налицо большой выбор напитков, жажда принимает различные оттенки: начинают желать многого; если же это просто жажда, то — немногого. Но жажда сама по себе никогда не будет вожделением к чему-нибудь другому, кроме естественного желания пить, а голод сам по себе — кроме естественного желания есть.
— Таким образом, — сказал он, — каждое вожделение не само по себе направлено лишь на то, что в каждом отдельном случае отвечает его природе. Вожделение же к такому-то и такому-то качеству—это нечто привходящее.
— Однако как бы кто-нибудь, воспользовавшись нашей неосмотрительностью, не смутил нас, указав, что никто не желает просто питья, но обязательно пригодного питья, и не просто пищи, но пригодной пищи. Ведь все вожделеют именно хорошего. Раз жажда есть вожделение, она должна быть желанием пригодного питья или чего бы то ни было другого, на что направлено вожделение. Так же и во всем остальном.
— Пожалуй, это было бы дельным возражением.
— Но оно касается лишь тех вещей, которые берутся в соотношении с чем-нибудь: у них такие-то качества, потому что такие-то качества у того, с чем их соотносят, а сами по себе они соотносятся лишь с самими собой.
— Я не понял.
— Ты не понял, что большее будет таким потому, что оно больше чего-нибудь?
— Конечно.
— Не того ли, что меньше?
— Да.
— А то, что много больше, — того, что много меньше. Не так ли?
— Да.
— И некогда бывшее большим — некогда бывшего меньшим? И будущее большим — будущего меньшим?
— Но как же иначе?
— И многое будет многим лишь по отношению к малому, двойное — к половинному и так далее; опять-таки и более тяжелое — по отношению к более легкому, более быстрое — к более медленному, горячее — к холодному и так же все остальное, подобное этому. Или не так?
— Конечно, так.
— А что сказать о наших знаниях? Не то же ли и там? Знание само по себе соотносится с самим изучаемым предметом, знание какого бы предмета мы ни взяли: оно таково потому, что оно относится к такому-то и такому-то предмету. Я имею в виду вот что: когда , научились строить дома, это знание выделилось из остальных, поэтому его назвали строительным делом.
— Так что же?
— Значит, его так прозвали за то, что ни одно из остальных знаний на него не похоже.
— Да.
— Какие качества имеет предмет знания, таким становится и само знание. То же и со всеми прочими знаниями и искусствами.
— Это так.
— Вот и считай, что я тогда как раз это и хотел сказать, если теперь ты понял, что значит качественное соотношение вещей: сами по себе они соотносятся только с самими собой, взятые же в соотношении с другими вещами, они принимают качества этих вещей. Но я не хочу этим сказать, что они имеют сходство с тем, с чем соотносятся, — например, будто знание здоровья и болезней становится от этого здоровым или болезненным, а знание зла и блага — плохим или хорошим. Знание не становится тем же, что его предмет, оно соотносится со свойствами предмета — в данном случае со свойством здоровья или болезненности — и это свойство его определяет: это и заставляет называть такое знание не просто знанием, но искусством врачевания — по его привходящему свойству.
— Я понял, и, по-моему, дело обстоит именно так.
— Ну, а жажду разве не отнесешь ты к таким вещам, которые в том, что они есть, соотносятся с чем-то другим? В данном случае — как жажда?
— Да, я взял бы ее в ее отношении к питью.
— То есть к определенному питью относится определенная жажда, сама же по себе она не направлена ни на обильное питье, ни на малое, ни на хорошее, ни на плохое — одним словом, ни на какое качество: жажда сама по себе естественно соотносится только с питьем, как таковым.
— Безусловно.
[Три начала человеческой души]
— Значит, у человека, испытывающего жажду, поскольку он ее испытывает, душа хочет не чего иного, как пить, — к этому она стремится и порывается.
— Очевидно.
— И если, несмотря на то что она испытывает жажду, ее все-таки что-то удерживает, значит, в ней есть нечто отличное от вожделеющего начала, побуждающего ее, словно зверя, к тому, чтобы пить. Ведь мы утверждаем, что одна и та же вещь не может одновременно совершать противоположное в одной и той же своей части и в одном и том же отношении.
— Конечно, нет.
— Точно так же о том, кто стреляет из лука, было б и, думаю я, неудачно сказано, что его руки тянут лук одновременно к себе и от себя. Надо сказать: "Одна рука тянет к себе, а другая—от себя".
— Совершенно верно.
— Можем ли мы сказать, что люди, испытывающие жажду, иной раз все же отказываются пить?
— Даже очень многие и весьма часто.
— Что же можно о них сказать? Что в душе их присутствует нечто побуждающее их пить, но есть и то, что пить запрещает, и оно-то и берет верх над побуждающим началом?
— По-моему, так.
— И не правда ли, то, что запрещает это делать, появляется — если уж появляется—вследствие способность рассуждать, а то, что ведет к этому и влечет, — вследствие страданий и болезней?
— По-видимому.
— Мы не без основания признаем двойственными и отличными друг от друга эти начала: одно из них, с помощью которого человек способен рассуждать, мы назовем разумным началом души[169] второе, из-за которого человек влюбляется, испытывает голод и жажду и бывает охвачен другими вожделениями, мы назовем началом неразумным и вожделеющим, близким другом всякого рода удовлетворения и наслаждений.
— Признать это было бы не только обоснованно, но и естественно.
— Так пусть у нас будут разграничены эти два присущих душе вида. Что же касается ярости духа, отчего мы и бываем гневливы, то составляет ли это третий вид, или вид этот однороден с одним из тех двух?
— Пожалуй, он однороден со вторым, то есть вожделеющим, видом.
— Мне как-то рассказывали, и я верю этому, что Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из Пирея, по дороге, снаружи под северной стеной, заметил, что там у палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни боролся и ни закрывался, вожделение оказалось сильнее — он подбежал к трупам, широко раскрыв глаза и восклицая: "Вот вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!" [170]
— Я и сам слышал об этом.
— Однако этот рассказ показывает, что гнев иной раз вступает в борьбу с вожделениями и, значит, бывает от них отличен.
— Ив самом деле.
— Да и на многих других примерах мы замечаем, как человек, одолеваемый вожделениями вопреки способности рассуждать, бранит сам себя и гневается на этих поселившихся в нем насильников. Гнев такого человека становится союзником его разуму в этой распре, которая идет словно лишь между двумя сторонами. А чтобы гнев был заодно с желаниями, когда разум налагает запрет, такого случая, думаю я, ты никогда не наблюдал, признайся, ни на самом себе, ни на других.
— Не наблюдал, клянусь Зевсом.
— Дальше. Когда человек сознает, что он поступает несправедливо, то, чем он благороднее, тем менее способен негодовать на того, кто, по его мнению, вправе обречь его на голод, стужу и другие подобные муки: это не возбудит в нем гнева — вот о чем я говорю.
— Верно.
— Ну, а когда он считает, что с ним поступают несправедливо, он вскипает, раздражается и становится союзником того, что ему представляется справедливым, и ради этого он готов переносить голод, стужу и все подобные этим муки, лишь бы победить; он не откажется от своих благородных стремлений — либо добиться своего, либо умереть, разве что его смирят доводы собственного рассудка, который отзовет его наподобие того, как пастух отзывает свою собаку.
— Твое сравнение очень удачно. Ведь в нашем государстве мы поручили его защитникам служить, как сторожевым собакам, а правителям — как пастухам,
— Ты прекрасно понял, что я хочу сказать, но обрати внимание еще вот на что...
— А именно?
— На то, что о яростном духе у нас сейчас составилось представление, противоположное недавнему. Раньше мы его связывали с вожделеющим началом, а теперь находим, что это вовсе не так, потому что при распре, которая происходит в душе человека, яростное начало поднимает оружие за начало разумное.
— Безусловно.
— Так отличается ли оно от него, или это только некий вид разумного начала, и выходит, что в душе существуют всего два вида [начал]: разумное и вожделеющее? Или как в государстве три рода начал, его составляющих: деловое, защитное, совещательное, так и в душе есть тоже третье начало — яростный дух? По природе своей оно служит защитником разумного начала, если не испорчено дурным воспитанием.
— Непременно должно быть и третье начало.
— Да, если только обнаружится, что оно не совпадает с разумным началом, подобно тому как выяснилось его отличие от начала вожделеющего.
— Это нетрудно обнаружить. На примере малых детей можно видеть, что они, чуть родятся, беспрестанно бывают исполнены гнева, между тем многие из них, па мой взгляд, вовсе непричастны способности рассуждать, а большинство становится причастным ей очень поздно.
— Да, клянусь Зевсом, это ты хорошо сказал. Вдобавок и на животных можно наблюдать, что дело обстоит так, как ты говоришь. Кроме того, об этом свидетельствует и стих Гомера, который мы как-то уже приводили раньше:
В грудь он ударил себя и сказал раздраженному сердцу...[171]
Здесь Гомер ясно выразил, как из двух разных [начал] одно укоряет другое, то есть начало, разбирающееся в том, что лучше, а что хуже, порицает начало безрассудно-яростное.
— Ты очень правильно говоришь.
— Следовательно, хоть и с трудом, но мы это все же преодолели и пришли к неплохому выводу, что в государстве и в душе каждого отдельного человека имеются одни и те же начала, и число их одинаково.
— Да, это так.
— Значит, непременно должно быть и вот что: как и в чем сказалась мудрость государства, так же точно в том же самом она проявляется и у частных лиц.
— Конечно.
— И в чем и как проявляет свое мужество частный человек, в том же н точно так же будет мужественным и государство. Оба они одинаково обладают и всем прочим, что имеет отношение к добродетели.
— Да, это необходимо.
— И справедливым — я думаю, Главкон, мы признаем это — отдельный человек бывает таким же образом, каким осуществляется справедливость в государстве.
— Это тоже совершенно необходимо.
— Но ведь мы не забыли, что государство у нас было признано справедливым в том случае, если каждое из трех его сословий выполняет в нем свое дело.
— Мне кажется, не забыли.
— Значит, нам надо помнить, что и каждый из нас только тогда может быть справедливым и выполнять е свое дело, когда каждое из имеющихся в нас [начал] выполняет свое.
— Это надо твердо помнить.
— Итак, способности рассуждать подобает господствовать, потому что мудрость и попечение обо всей душе в целом — это как раз ее дело, начало же яростное должно ей подчиняться и быть ее союзником.
— Конечно.
— И не правда ли, как мы и говорили, сочетание мусического искусства с гимнастическим приведет эти оба начала к созвучию: способность рассуждать оно сделает стремительно— И не правда ли, как мы и говорили, сочетание мусического искусства с гимнастическим приведет эти оба начала к созвучию: способность рассуждать оно сделает стремительнее и будет питать ее прекрасными речами и науками, а яростное начало оно несколько ослабит, смягчая его словами и успокаивая гармонией и ритмом.
— Совершенно верно.
— Оба этих начала, воспитанные таким образом, обученные и подлинно понявшие свое назначение, будут управлять началом вожделеющим — а оно составляет большую часть души каждого человека и по своей природе жаждет богатства. За ним надо Следить, чтобы оно не умножилось и не усилилось за счет так называемых телесных удовольствий и не перестало бы выполнять свое назначение: иначе оно может попытаться поработить и подчинить себе то, что ему не родственно, и таким образом извратить жизнедеятельность всех начал.
— Безусловно.
— Оба начала превосходно оберегали бы и всю душу в целом, и тело от внешних врагов: одно из них — своими советами, другое — вооруженной защитой; оно будет следовать за господствующим началом и мужественно выполнять его решения.
— Это так.
— И мужественным, думаю я, мы назовем каждого отдельного человека именно в той мере, в какой его яростный дух и в горе, и в удовольствиях соблюдает указания рассудка насчет того, что опасно, а что неопасно.
— Это верно.
— А мудрым — в той малой мере, которая в каждом главенствует и дает эти указания, ибо она-то и обладает знанием того, что пригодно и каждому отдельному началу, и всей совокупности этих трех начал.
— Конечно.
— Рассудительным же мы назовем его разве не по содружеству и созвучию этих самых начал, когда и главенствующее начало, и оба ему подчиненных согласны в своем мнении, что разумное начало должно управлять и что нельзя восставать против него?
— Действительно, рассудительность — и государства, и частного лица — не что иное, как это.
— Но и справедливым будет человек, как мы уже часто указывали, именно вследствие этого и как раз таким образом.
— Всенепременно.
— Что же? Не видится ли нам смутно, что справедливость может оказаться чем-то иным, а не тем, чем мы признали ее в государстве?
— По-моему, нет.
— Если в душе у нас еще есть какое-то сомнение, мы можем полностью его рассеять, приведя примеры из обыденной жизни.
— Какие же?
— Если бы требовалось нам прийти к соглашению относительно нашего государства и подобного ему по, своей природе отдельного человека, подобным же образом воспитанного, вот тебе пример: если такому человеку дать на хранение золото или серебро, можно ли думать, что он их украдет? Кто, по-твоему, станет считать, что такой человек может это сделать скорее, чем те, кто не таков, как он сам?
— Никто.
— Он в стороне от святотатств, краж, предательств, касаются ли они частного обихода — его личных друзей или же общественного — государственной жизни.
— Да, он от этого всего в стороне.
— И он, конечно, не вероломен в клятвах и разного рода соглашениях.
— Конечно.
— Прелюбодеяние, пренебрежение к родителям, непочитание богов — все это скорее подходит кому угодно другому, только не ему.
— Да, любому другому.
— А причиной всему этому разве не то, что каждое из имеющихся в нем начал делает свое дело в отношении правления и подчинения?
— Да, причиной это, а не что-либо другое.
— И ты еще хочешь, чтобы справедливость была чем-то другим, а не той силой, которая делает такими, а не иными как людей, так и государства?
— Клянусь Зевсом, я этого не хочу.
— Значит, полностью сбылся наш сон — то, о чем мы только догадывались: едва мы принялись за устройство государства, мы тотчас же благодаря некоему богу вступили, как видно, в область начала и образца справедливости.
— Несомненно.
— Значит, Главкон, неким отображением справедливости (почему оно и полезно) было наше утверждение, что для того, кто по своим природным задаткам годится в сапожники, будет правильным только сапожничать и не заниматься ничем другим, а кто годится в плотники — пусть плотничает. То же самое и в остальных случаях.
— Очевидно, это так.
— Поистине справедливость была у нас чем-то и таком роде, но не в смысле внешних человеческих проявлений, а в смысле подлинно внутреннего воздействия на самого себя и на свои способности. Такой человек не позволит ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие задачи или досаждать друг другу взаимным вмешательством: он правильно отводит [каждому из этих начал] действительно то, что им свойственно; он владеет собой, приводит себя в порядок и становится сам себе другом; он прилаживает друг к другу три начала своей души, совсем как три основных тона созвучия — высокий, низкий и средний, е да и промежуточные тоны, если они там случатся; все это он связует вместе и так из множественности достигает собственного единства, рассудительности и слаженности. Таков он и в своих действиях, касаются ли они приобретения имущества, ухода за своим телом, государственных дел или же частных соглашений. Во всем этом он считает и называет справедливой и прекрасной ту деятельность, которая способствует сохранению указанного состояния, а мудростью — умение руководить такой деятельностью. Несправедливой деятельностью он считает ту, что нарушает все это, а невежеством — мнения, ею руководящие.
— Ты совершенно прав, Сократ.
[Справедливое государство и справедливый человек]
— Ну что ж, — сказал я. — Если мы признаем, что определили справедливого человека и справедливое государство, а также проявляющуюся в них справедливость, то нам не покажется, думаю я, будто мы в чем-то слишком уж заблуждаемся.
— Не покажется, клянусь Зевсом.
— Стало быть, мы признаем это?
— Признаем.
— Пусть будет так. После этого, я думаю, надо подвергнуть рассмотрению несправедливость.
— Это ясно.
— Она должна заключаться, не правда ли, в каком-то раздоре указанных трех начал, в беспокойстве, во вмешательстве в чужие дела, в восстании какой-то 'тети души против всей души в целом с целью господствовать в ней неподобающим образом, между тем как по своей природе несправедливость такова, что ей подобает быть в рабстве у господствующего начала. Вот что, я думаю, мы будем утверждать о несправедливости: она смятение и блуждание разных частей души, их разнузданность и трусость, и вдобавок еще невежество — словом, всяческое зло.
— Это все одно и то же.
— Стало быть, что значит поступать несправедливо и совершать преступления и, напротив, поступать по справедливости — все это, не правда ли, уже совершенно ясно, раз определилось, что такое несправедливость и что такое справедливость?
— А разве это определилось?
— Справедливость и несправедливость ничем не отличаются от здоровых или болезнетворных начал, только те находятся в теле, а эти — в душе.
— Каким образом?
— Здоровое начало вызывает здоровье, а болезнетворное — болезнь.
— Да.
— Не так ли и справедливая деятельность ведет к справедливости, а несправедливая — к несправедливости?
— Непременно.
— Придать здоровья означает создать естественные отношения господства и подчинения между телесными началами, между тем как болезнь означает их господство или подчинение вопреки природе[172].
— Это так.
— Значит, и внести справедливость в душу означает установить там естественные отношения владычества и подвластности ее начал, а внести несправедливость — значит установить там господство одного начала над другим или подчинение одного другому вопреки природе.
— Совершенно верно.
— Стало быть, добродетель — это, по-видимому, некое здоровье, красота, благоденствие души, а порочность — болезнь, безобразие [позор] и слабость.
— Да, это так.
— Хорошие привычки разве не ведут к обладанию добродетелью, а дурные — к порочности?
— Неизбежно.
— Нам остается, как видно, исследовать, целесообразно ли поступать справедливо, иметь хорошие привычки и быть справедливым, все равно, остается ли это скрытым или нет, и совершать преступления и быть несправедливым, хотя бы это и не грозило карой к исправительным наказанием.
— Но мне кажется, Сократ, что теперь смешно производить такое исследование: если человеку и жизнь не в жизнь, когда повреждается его телесная природа, пусть бы у него при этом было вдоволь различных кушаний, напитков, всевозможного богатства и всяческой власти, то какая же будет ему жизнь, если расстроена и повреждена у него природа именно того, чем мы живем? Если он делает все, что вздумается, за исключением того, что может ему помочь избавиться от порочности и несправедливости и обрести справедливость и добродетель? Мы-то ведь хорошо разобрали, в чем состоит как то, так и другое.
— Да, это было бы смешно; однако раз мы дошли до того предела, откуда яснее всего видно, что все это именно так, нам нельзя отступаться.
— Клянусь Зевсом, отступаться — это хуже всего.
— Тогда поди сюда, посмотри, сколько, по-моему, видов имеет порочность: на это стоит взглянуть.
— Я следую за тобою, а ты продолжай.
— В самом деле, отсюда, словно с наблюдательной вышки, на которую мы взошли в ходе нашей беседы, мне представляется, что существует только один вид добродетели, тогда как видов порочности несметное множество; о четырех из них стоит упомянуть.
— О чем ты говоришь?
[Соответствие пяти типов душевного склада пяти типам государственного устройства]
— Сколько видов государственного устройства, столько же, пожалуй, существует и видов душевного склада.
— Сколько же их?
— Пять видов государственного устройства и пять видов души.
— Скажи, какие?
— Я утверждаю, что одним из таких видов государственного устройства будет только что разобранный нами, но назвать его можно двояко: если среди правителей выделится кто-нибудь один, это можно назвать царское властью, если же правителей несколько, тогда это будет аристократия.
— Верно.
— Так вот это я и обозначаю как отдельный вид. Больше ли будет правителей или всего только один, они не нарушат важнейших законов, пока будут пускать в ход то воспитание и образование, о которых у нас шла речь[173].
— Естественно, не нарушат.
КНИГА ПЯТАЯ.
Хорошим и правильным я называю именно подобного рода государство и государственное устройство да и отдельного человека тоже, а все остальные [виды], раз такое государство правильно, я считаю плохими: в них ошибочны и государственное правление, и душевный склад частных людей. Видов порочного государственного устройства четыре.
— А именно какие? — спросил Главкон[174].
Я собрался было говорить о них в том порядке, в каком, по-моему, они переходят один в другой. Между тем Полемарх — он сидел немного поодаль от Адиманта, — протянув руку, схватил его за плащ на плече, пригнул к себе и, наклонившись, стал что-то шептать ему на ухо. Можно было разобрать только: "Оставим его в покое, или как нам быть?"
— Ни в коем случае не оставим, — сказал Адимант уже громко.
Тут я спросил:
— Что это вам так важно не оставлять?
— Тебя, — отвечал Адимант.
Я опять спросил:
— А почему вам это так важно?
[Постановка вопроса об общности жен и детей у стражей]
— Ты, как нам кажется, — сказал он, — не хочешь себя утруждать и украдкой пропускаешь целый — немалый — раздел нашей беседы, уклоняясь от разбора. Или ты думаешь, мы забыли, как ты сказал мимоходом насчет жен и детей, что у друзей все будет общим? [175]
— А разве, Адимант, это неправильно?
— Да, но правильность этого, как и в других случаях, нуждается в объяснении, каким образом осуществляется подобная общность — ведь это может быть по-разному. Так что непременно укажи, какой именно путь ты имеешь в виду. Мы давно уже ожидаем, что ты упомянешь о деторождении — о том, как будут рождать детей, а родив, воспитывать — и вообще об этой, как ты говоришь, общности детей и жен. Правильно ли это происходит или нет — имеет, считаем мы, огромное, даже решающее значение для государственного устройства. А ты уже перешел к рассмотрению какого-то иного государственного строя, не исследовав в достаточной мере этот вопрос. Вот почему, как ты и слышал, мы решили, что тебе не следует идти дальше, пока ты не разберешь этого так же, как все остальное.
— Примите и меня в соучастники этого решения, — сказал Главкон.
— Безусловно, Сократ, считай, что такое решение вынесено нами всеми, — сказал Фрасимах.
— Что же это вы делаете! — воскликнул я. — Вы заставляете меня задержаться и затеваете длиннейшую беседу о государственном устройстве, словно мы приступаем к ней сызнова! А я-то было радовался, что уже покончил с этим рассуждением — с меня было бы довольно, если бы вы удовлетворились ранее сказанным. Вы и не подозреваете, что этим вашим предложением вы подняли целый рой рассуждений — предвидя это, я тогда и уклонился, опасаясь такого множества.
— Что же, — сказал Фрасимах, — по-твоему, все присутствующие пришли сюда играть в монетку[176], а не ради того, чтобы послушать беседу?
— Но и беседа, — ответил я, — должна быть в меру.
— Мерой для прослушивания такой беседы, Сократ, служит у людей разумных вся жизнь, — сказал Главкон. — Но не в нас тут дело. Ты не сочти за труд разобрать на свой лад то, о чем мы спрашиваем: что это будет за общность детей и жен у наших стражей, как быть с воспитанием младенцев в промежуток времени от их рождения до начала обучения, который считается особенно тягостным? Попробуй указать, каким образом все это должно происходить.
— Нелегко в этом разобраться, мой дорогой. Здесь невероятного еще больше, чем в том, что мы разбирали
ранее. Сказать, что это осуществимо — не поверят, а если бы это и осуществилось вполне, то с недоверием отнеслись бы к тому, что это и есть самое лучшее. Вот и не решаешься затрагивать этот предмет, чтобы беседа, дорогой мой друг, не свелась к благим пожеланиям.
— Больше решительности! Ведь твои слушатели не невежды, они доверчивы и доброжелательны. Тут я сказал:
— Милый, уж не говоришь ли ты это с целью меня подбодрить?
— Признаться, да.
— Так ты достигаешь совсем обратного. Если бы я доверял себе и считал, будто знаю то, о чем говорю, е тогда твое утешение было бы прекрасно: кто знает истину, тот в кругу понимающих и дорогих ему людей говорит смело и не колеблясь о самых великих и дорогих ему вещах; но когда у человека, как у меня, сомнения и поиски, а он выступает с рассуждениями, шаткое у него положение и ужасное — не потому, что я боюсь вызвать смех (это было бы просто ребячеством), а потому, что, пошатнув истину, я не только сам свалюсь, но увлеку за собой и своих друзей; у нас же речь идет о том, в чем всего менее должно колебаться.
Я припадаю к Адрастее[177], Главкон, ради того, что собираюсь сказать! Надеюсь, что стать невольным убийцей все же меньшее преступление, чем сделаться обманщиком в деле прекрасного, благого, справедливого и законного; такой опасности лучше уж подвергаться среди врагов, чем в кругу друзей; так что лучше меня не подбадривай!
Тут Главкон улыбнулся.
— Но, Сократ, если нам придется плохо от этого твоего рассуждения, — сказал он, — мы отпустим тебе вину, как это делается в случае убийства: мы будем считать, что ты чист и вовсе не вовлекаешь нас в обман. Пожалуйста, говори смело.
— Хорошо. Однако и в упомянутом случае чист лишь тот, кому отпущена вина, — так ведь гласит закон. А раз там это так, то, значит, и в моем случае тоже.
— Ну, говори хотя бы на этих условиях.
— Теперь приходится снова вернуться к началу; следовало, верно, тогда же все изложить по порядку. Пожалуй, вот что будет правильно: после того как полностью определена роль мужчин, надо определить и роль женщин, тем более что ты так советуешь.
Дабы надлежащим образом обзавестись детьми и женами и правильно относиться к ним, у людей, рожденных и воспитанных так, как мы это разобрали, нет, по-моему, иного пути, кроме того, на который вступили мы с самого начала. В качестве стражей, охраняющих стада, мы в нашей беседе решили поставить мужчин.
— Да.
[Роль женщин в идеальном государстве]
— Продолжим это, уделив и женщинам сходное рождение и воспитание, и посмотрим, годится ли это нам или нет.
— Как это?
— А вот как: считаем ли мы, что сторожевые собаки-самки должны охранять то же самое, что охраняют собаки-самцы, одинаково с ними охотиться и сообща выполнять все остальное, или же они не способны на это, так как рожают и кормят щенят, и, значит, должны неотлучно стеречь дом, тогда как на долю собак-самцов приходятся все тяготы и попечение о стадах?
— Все это они должны делать сообща. Разве что мы обычно учитываем меньшую силу самок в сравнении с самцами.
— А можно ли требовать, чтобы какие-либо живые существа выполняли одно и то же дело, если не выращивать и не воспитывать их одинаково?
— Невозможно.
— Значит, раз мы будем ставить женщин на то же дело, что и мужчин, надо и обучать их тому же самому.
— Да.
— А ведь мужчинам мы предназначили заниматься мусическим и гимнастическим искусствами.
— Да.
— Значит, и женщинам надо вменить в обязанность заниматься обоими этими искусствами, да еще и военным делом; соответственным должно быть и использование женщин.
— Так вытекает из твоих слов.
— Вероятно, многое из того, о чем мы сейчас говорим, покажется смешным, потому что будет противоречить обычаям, если станет выполняться соответственно сказанному.
— Да, это может показаться очень смешным.
— А что, на твой взгляд, здесь всего смешнее? Очевидно, то, что обнаженные женщины будут упражняться в палестрах вместе с мужчинами, и притом не только молодые, но даже и те, что постарше, — совершенно так же, как это делают в гимнасиях старики: хоть и морщинистые, и непривлекательные на вид, они : все же охотно упражняются.
— Клянусь Зевсом, это показалось бы смешным, по крайней мере по нынешним понятиям.
— Раз уж мы принялись говорить, нечего нам бояться остряков, сколько бы и каким бы образом ни вышучивали они такую перемену, — гимнасии для женщин, мусическое искусство и (не в последнюю очередь) умение владеть оружием и верховую езду.
— Ты верно говоришь.
— Но раз уж мы начали говорить, следует выступить против суровости современного обычая, а насмешников попросить воздержаться от их острот и вспомнить, что не так уж далеки от нас те времена, когда у эллинов, как и посейчас у большинства варваров, считалось постыдным и смешным для мужчин показываться голыми и что когда критяне первыми завели у себя гимнасии, а затем уж и лакедемоняне[178], у тогдашних остряков тоже была возможность посмеяться над этим. Или, по-твоему, это не так?
— По-моему, так.
— Но когда на опыте стало ясно, что удобнее упражняться без одежды, чем прикрывать ею все части тела, тогда это перестало быть смешным для глаз: ведь разумные доводы убеждали, что так гораздо лучше. Это показало, что пустой человек тот, кто считает смешным что-нибудь иное, кроме дурного; и когда он пытается что-либо осмеять, он в чем-то другом усматривает проявление смешного, а не в глупости и пороке; а когда он усердствует в стремлении к прекрасному, он опять-таки ставит себе какую-то иную цель, а не благо.
— Это во всех отношениях верно.
— Итак, здесь надо сперва прийти к соглашению, исполнимо это или нет, и решить спорный вопрос —в шутку ли или серьезно, как кому угодно, — способна ли женская часть человеческого рода принимать участие во всех делах наряду с мужчинами, или же она не может участвовать ни в одном из этих дел; а может быть, к чему-то она способна, а к другому — нет. То же и насчет военного дела — к какому из этих двух видов ее отнести? Не лучше ли всего начать именно так, чтобы, как положено, наилучшим образом и закончить?
— Конечно.
— Так хочешь, вместо других мы будем вести спор сами с собой, чтобы доводы противников, подвергшись нашей осаде, не остались без защиты?
— Этому ничто не препятствует.
— Мы от их лица скажем так: "Сократ и Главкон, вам совсем не нужны возражения посторонних: вы сами в начале основания вашего государства признали, что каждый, кто бы он ни был, должен выполнять только свое дело—согласно собственной природе".
— Да, я думаю, что мы это признали. Как же иначе?
— "А разве женщины по своей природе не вовсе отличны от мужчин?"
— Как же им не отличаться?
— "Значит, им надо назначить и иное дело, соответственно их природе".
— Ну и что же?
— "Так разве это теперь не ошибка с вашей стороны, разве вы не противоречите сами себе, утверждая, что мужчины и женщины должны выполнять одно и то же, хотя их природа резко отлична?" Найдешь ли ты, чудак, что сказать в свою защиту?
— Сразу это сделать не так-то легко. Но я попрошу тебя, да и сейчас прошу, провозгласить все, что можно, в защиту наших доводов.
— Вот это и все остальное, подобное этому, как раз и есть, Главкон, то, что я давно уже предвидел, почему я и боялся и медлил касаться закона о том, как обзаводиться женами и детьми и как их воспитывать.
— Клянусь Зевсом, все это, видно, не просто!
— Конечно, нет. Но дело вот в чем: упал ли кто в небольшой купальный бассейн или в самую середину огромного моря, все равно он старается выплыть.
— Конечно.
— Так вот и нам надо плыть и попытаться выбраться из этого нашего рассуждения, надеясь, что нас Подхватит какой-нибудь дельфин или мы спасемся иным каким-либо непостижимым образом[179].
— Да, видно надо попытаться.
— Ну, давай искать какой-нибудь выход. Мы согласились, что при различной природе должны быть различны и занятия: между тем у женщины и мужчины ; природа различна. А теперь мы вдруг стали утверждать, что и при различной природе люди могут выполнять одно и то же дело. Ведь нас обвиняют именно в этом?
— Совершенно верно.
— Да, Главкон, велика сила искусства спорить!
— Как, как ты сказал?
— Ведь многие даже невольно увлекаются им, и притом думают, что они не состязаются в споре, а рассуждают. Происходит это из-за того, что они не умеют рассматривать предмет, о котором идет речь, различая его по видам. Придравшись к словам, они выискивают противоречие в том, что сказал собеседник, и начинают не беседовать, а состязаться в споре.
— Правда, эта страсть свойственна многим. Но неужели она сейчас направлена и против нас?
— Безусловно, ведь мы невольно столкнулись с таким словесным противоречием[180].
— Как это?
— Когда природа людей неодинакова, то и занятия их должны быть разные; это мы мужественно отстаивали, а к спорам дали повод имена: ведь мы совсем не рассматривали, в чем состоит видовое различие или сходство природных свойств, и не определили, к чему тяготеет то и другое, когда назначали различные занятия людям различной природы и одинаковые тем, кто одинаков.
— В самом деле, мы этого не рассматривали.
— Так вот нам представляется, как видно, возможность задать самим себе следующий вопрос: одинаковы ли природные свойства людей плешивых и волосатых или противоположны? Когда мы признаем, что противоположны, то спросим снова: если плешивые сапожничают, то позволено ли делать это и волосатым, а если сапожничают волосатые, позволено ли это плешивым?
— Спрашивать об этом смешно!
— Смешно по какой-то иной причине, чем тогда, когда мы определили сходство и различие природы женщин и мужчин не вообще, но ограничились только тем видом их различия или сходства, который связан с их занятиями: например, мы говорили, что и врач, и те, кто лишь в душе врачи, имеют одни и те же природные свойства. Или, по-твоему, это не так?
— По-моему, так.
— А у врача и плотника различные природные свойства?
— Конечно.
— Значит, если обнаружится разница между мужским и женским полом в отношении к какому-нибудь искусству или иному занятию, мы скажем, что в таком случае надо и поручать это дело соответственно тому или иному полу. Если же они отличаются только тем, что существо женского пола рожает, а существо мужского пола оплодотворяет, то мы скажем, что это вовсе не доказывает отличия женщины от мужчины в отношении к тому, о чем мы говорим. Напротив, мы будем продолжать думать, что у нас и стражи, и их жены должны заниматься одним и тем же делом.
— И правильно будем думать.
— Стало быть, после этого мы предложим тому, кто утверждает противное, просветить нас, указав, в отношении к какому искусству или занятию —из числа относящихся к государственному устройству — природа женщины и мужчины не одинакова, а различна.
— Справедливое требование!
— Правда, как ты говорил немного раньше, так, возможно, и кто-нибудь другой скажет, что нелегко отвечать с ходу, но что, поразмыслив, он с этим без труда справится.
— Возможно, он так и скажет.
— Хочешь, мы попросим того, кто выдвигает эти возражения, последовать за нами и посмотреть, удастся ли нам доказать ему, что по отношению к занятиям, связанным с государственным устройством, у женщины нет никаких особенностей.
— Очень хочу.
— Ну-ка, скажем мы ему, отвечай. Ты говорил так: "Один уродился способным к чему-нибудь, другой — неспособным; один легко научается чему-либо в деле, другой — с трудом; один, и немного поучившись, бывает очень изобретателен в том, чему обучался, а другой, хоть долго учился и упражнялся, не усваивает даже того, чему его обучали. У одного телесное его состояние достаточно содействует его духовному развитию, другому оно, напротив, только мешает". Так или не так разделил ты тех, кто от природы, способен к какому-нибудь делу, и тех, кто не способен?
— Всякий скажет, что так.
— А знаешь ли ты хоть какое-нибудь из человеческих занятий, в котором мужчины не превосходили бы во всем женщин? Стоит ли нам распространяться о том, как женщины ткут, пекут жертвенные лепешки, варят похлебку? Считается, что в этом-то женский пол кое-что смыслит — вот почему больше всего осмеивают женщину, если она не справляется и с этим.
— Ты верно говоришь; попросту сказать, этот пол во всем уступает тому. Однако многие женщины во многих отношениях лучше многих мужчин, хотя в общем дело обстоит так, как ты говоришь.
— Значит, друг мой, не может быть, чтобы у устроителей государства было в обычае поручать какое-нибудь дело женщине только потому, что она женщина, или мужчине — только потому, что он мужчина. Нет, одинаковые природные свойства встречаются у живых существ того и другого пола, и по своей природе как женщина, так и мужчина могут принимать участие во всех делах, однако женщина во всем немощнее мужчины.
— И даже намного.
— Так будем ли мы поручать всё мужчинам, а женщинам — ничего?
— Как можно!
— В таком случае, я думаю, мы скажем, что по своим природным задаткам одна женщина способна врачевать, а другая—нет, одна склонна к мусическому искусству, а другая чужда Музам.
— Так что же?
— А разве иная женщина не имеет способностей к гимнастике и военному делу, тогда как другая совсем не воинственна и не любит гимнастических упражнений?
— Да, это так.
— Что же? И одна склонна к философии, а другая ее ненавидит? Одной свойственна ярость духа, а другая невозмутима?
— Бывает и так.
— Значит, встречаются женщины, склонные быть стражами и не склонные. Разве мы не выбрали и среди мужчин в стражи тех, кто склонен к этому по природе?
— Конечно, выбрали именно таких.
— Значит, для охраны государства и у мужчин, и у женщин одинаковые природные задатки, только у женщин они слабее, а у мужчин сильнее.
— Выходит так.
— Значит, для подобных мужчин надо и жен выбирать тоже таких, чтобы они вместе жили и вместе стояли на страже государства, раз они на это способны и сродни по своей природе стражам.
— Конечно.
— А кто одинаков по своей природе, тем надо предоставить возможность заниматься одинаковым делом.
— Да, одинаковым.
— Значит, мы, совершив круг, вернулись к исходному положению и признаём, что предоставление женам стражей возможности заниматься и мусическим искусством, и гимнастикой не противоречит природе.
— Нисколько не противоречит.
— Значит, наши установления не были невыполнимы и не сводились лишь к пустым пожеланиям, раз мы установили закон сообразно природе. Скорее, как видно, противоречит природе то, что вопреки этому наблюдается в наше время.
— Похоже, что так.
— А ведь мы должны были рассмотреть, возможны ли наши установления и являются ли они наилучшими.
— Да, так оно и было.
— Но мы все признали, что они возможны.
— Да.
Теперь надо прийти к согласию насчет того, что они будут наилучшими.
— Очевидно.
— Для того чтобы женщина стала стражем, обучение ее не должно быть иным, чем воспитание, делающее стражами мужчин, тем более что речь здесь идет об одних и тех же природных задатках.
— Да, оно не должно быть иным.
— А как твое мнение вот насчет чего...
— А именно?
— Не убеждался ли ты на собственном опыте, что один человек лучше, а другой хуже, или ты считаешь всех одинаковыми?
— Вовсе не считаю.
— А в государстве, которое мы основали, как ты думаешь, какие люди получились у нас лучше — стражи ли, воспитанные так, как мы разбирали, или же сапожники, воспитавшиеся на своем мастерстве?
— Смешно и спрашивать!
— Понимаю. Далее: разве наши стражи не лучшие из граждан?
— Конечно, лучшие.
— Далее. Разве подобные же женщины не будут лучшими из женщин?
— Тоже, конечно, будут.
— А может ли для государства быть что-нибудь лучше присутствия в нем самых лучших женщин и мужчин?
— Не может.
— А это сделают мусическое искусство и гимнастика, примененные так, как мы разбирали.
— Несомненно.
— Следовательно, наше установление не только выполнимо, но оно и всего лучше для государства.
— Да, это так.
— Пусть же жены стражей снимают одежды, раз они будут вместо них облекаться доблестью, пусть принимают они участие в войне и в прочей защите государства и пусть не отвлекаются ничем другим. Но во всем этом, из-за слабости их пола, женщинам надо давать поручения более легкие, чем мужчинам. А кто из мужчин станет смеяться при виде обнаженных женщин, которые ради высокой цели будут в таком виде заниматься гимнастикой, тот, этим своим смехом "недозрелый плод срывая мудрости"[181], и сам, должно быть, не знает, над чем он смеется и что делает. А ведь очень хорошо говорят — и будут повторять, — что полезное прекрасно, а вредное — постыдно [безобразно].[182]
— Безусловно.
— Можно сказать, что при обсуждении закона относительно женщин нам удастся как бы избегнуть одной волны, с чтобы она не захлестнула нас, когда мы будем решать, что стражи-мужчины и стражи-женщины должны всё выполнять сообща: напротив, наша беседа последовательно ведет к выводу, что это возможно и полезно.
— В самом деле, грозной волны удастся тебе избегнуть!
— Но ты скажешь, что это еще пустяки, когда увидишь дальнейшее.
— Посмотрим, а ты продолжай.
— За этим законом и за остальными предшествовавшими следует, я думаю, вот какой...
— Какой?
[Общность жен и детей у стражей (продолжение)]
— Все жены этих мужей должны быть общими, а отдельно пусть ни одна ни с кем не сожительствует. И дети тоже должны быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок — кто его отец.
— Этот закон вызовет гораздо больше недоверия, чем тот, — в смысле исполнимости и полезности.
— Что касается полезности, вряд ли станут это оспаривать и говорить, будто общность жен и детей не величайшее благо, если только это возможно. Но вот насчет возможности, думаю я, возникнут большие разногласия[183].
— Будет очень много сомнений насчет как того, так и другого.
— Ты говоришь, что тут понадобится сочетание доказательств, а я-то думал, что увернусь от одного из них, раз ты согласен насчет полезности: ведь мне осталось бы тогда говорить только о том, выполнимо это или нет.
— Нет, ничего не выйдет, не увернешься: отчитайся и в том и в другом.
— Приходится подвергнуться такой каре. Но окажи мне хоть эту милость — позволь мне устроить себе праздник. Так духовно праздные люди сами себя тешат во время одиноких прогулок: они еще не нашли, Каким образом осуществится то, чего они вожделеют, Но, минуя это, чтобы не мучить себя раздумьями о возможности и невозможности, полагают, будто уже налицо то, чего они хотят: и вот они уже распоряжаются дальнейшим, с радостью перебирают, что они будут Сделать, когда это совершится; их и без того праздная душа становится еще более праздной. Так и я уже поддаюсь этой слабости, и мне хочется отложить тот вопрос и после рассмотреть, каким образом это осуществимо, а пока, допустив, что это осуществимо, я рассмотрю, если позволишь, как будут распоряжаться правители, когда это уже совершится, и укажу, насколько полезно было бы все это и для государства, и для стражей. Именно это я попытаюсь сперва рассмотреть вместе с тобой, а потом уже то, если только ты разрешишь.
— Конечно, я разрешаю. Рассматривай.
— Я думаю, если наши правители будут достойны такого наименования и их помощники тоже, то эти последние охотно станут выполнять предписания, а те — предписывать, повинуясь частью законам, а частью подражая тому, что мы им предпишем.
— Естественно.
— А раз ты для них законодатель, то, так же как ты отобрал стражей-мужчин, ты по возможности отберешь и сходных с ними по своей природе женщин и им вручишь их. Раз у них и жилища, и трапезы будут общими, и никто не будет иметь этого в частном владении, раз они всегда будут общаться, встречаясь в гимнасиях и вообще одинаково воспитываясь, у них по необходимости — я думаю, врожденной — возникнет стремление соединяться друг с другом. Или, по-твоему, я говорю не о том, что неизбежно?
— Это не геометрическая, а эротическая неизбежность[184]; она, пожалуй, острее той убеждает и увлекает большинство людей.
— И даже очень увлекает. Но далее, Главкон, в государстве, где люди процветают, было бы нечестиво допустить беспорядочное совокупление или какие-нибудь такие дела, да и правители не позволят.
— Да, это совершалось бы вопреки справедливости.
— Ясно, что в дальнейшем мы учредим браки, по мере наших сил, насколько только можно, священные. А священными были бы браки наиболее полезные[185].
— Безусловно.
— Но чем они были бы наиболее полезны? Скажи мне вот что, Главкон: в твоем доме я вижу и охотничьих собак, и множество птиц самых ценных пород. Так вот, ради Зевса, уделял ли ты внимание их брачному соединению и размножению?
— То есть как?
— Да прежде всего хотя они все ценных пород, но разве среди них нет и не появляется таких, которые лучше других?
— Бывают.
— Так разводишь ли ты всех без различия или стараешься разводить самых лучших?
— Самых лучших.
— Что же? Лучше ли приплод от совсем молодых, или совсем старых, или же преимущественно от тех, что в самой поре?
— От тех, что в самой поре.
— А если этого не соблюдать, то как ты считаешь — намного ли ухудшится порода птиц и собак?
— Я считаю — намного.
— А как ты думаешь насчет лошадей и остальных животных? Разве там дело обстоит по-другому?
— Это было бы странно.
— Ох, милый ты мой, какими, значит, выдающимися людьми должны быть у нас правители, если и g c человеческим родом дело обстоит так же.
— Оно действительно обстоит так. Но что же из этого?
— Да то, что правителям неизбежно придется применять много разных средств. Если тело не нуждается в лекарствах и человек охотно придерживается предписанного ему образа жизни, тогда, считаем мы, достаточно и посредственного врача. Но когда надо применять лекарства, мы знаем, что понадобится врач более смелый.
— Это верно. Но к чему ты это говоришь?
— А вот: чего доброго, этим правителям потребуется у нас нередко прибегать ко лжи и обману — ради пользы тех, кто им подвластен. Ведь мы уже говорили, что подобные вещи полезны в виде лечебного средства.
— И это правильно.
— По-видимому, всего уместнее это будет при заключении браков и при деторождении.
— Как так?
— Из того, в чем мы были согласны, вытекает, что лучшие мужчины должны большей частью соединяться с лучшими женщинами, а худшие, напротив, с самыми худшими и что потомство лучших мужчин и женщин следует воспитывать, а потомство худших — нет, раз наше небольшое стадо должно быть самым отборным. Но что это так делается, никто не должен знать, кроме самих правителей, чтобы не вносить ни малейшего разлада в отряд стражей.
— Совершенно верно,
— Надо будет установить законом какие-то празднества, на которых мы будем сводить вместе девушек и юношей, достигших брачного возраста, надо учредить жертвоприношения и заказать нашим поэтам песнопения, подходящие для заключаемых браков. А определить количество браков мы предоставим правителям, чтобы они по возможности сохраняли постоянное число мужчин, принимая в расчет войны, болезни и т. д., и чтобы государство у нас по возможности не увеличивалось и не уменьшалось.
— Это правильно.
— А жеребьевку надо, я думаю, подстроить как-нибудь так, чтобы при каждом заключении брака человек из числа негодных винил бы во всем судьбу, а не правителей.
— Да, это сделать необходимо. .
— А юношей, отличившихся на войне или как-либо иначе, надо удостаивать почестей и наград и предоставлять им более широкую возможность сходиться с женщинами, чтобы таким образом ими было зачато как можно больше младенцев.
— Правильно.
— Все рождающееся потомство сразу же поступает в распоряжение особо для этого поставленных должностных лиц, все равно мужчин или женщин, или и тех и других, — ведь занятие должностей одинаково и для женщин, и для мужчин.
— Да.
— Взяв младенцев, родившихся от хороших родителей, эти лица отнесут их в ясли к кормилицам, живущим отдельно в какой-нибудь части города. А младенцев, родившихся от худших родителей или хотя бы от обладающих телесными недостатками, они укроют, как положено в недоступном, тайном месте[186].
— Да, поскольку сословие стражей должно быть чистым.
— Они позаботятся и о питании младенцев: матерей, чьи груди набухли молоком, они приведут в ясли, но всеми способами постараются сделать так, чтобы ни одна из них не могла опознать своего ребенка. Если материнского молока не хватит, они привлекут других женщин, у кого есть молоко, и позаботятся, чтобы те кормили грудью положенное время, а ночные бдения и прочие тягостные обязанности будут делом кормилиц и нянек.
— Ты сильно облегчаешь женам стражей уход за детьми.
— Так и следует. Но разберем дальше то, что мы наметили. Мы сказали, что потомство должны производить родители цветущего возраста.
— Верно.
— А согласен ли ты, что соответствующая пора расцвета — двадцатилетний возраст для женщины, а для мужчины — тридцатилетний?
— И до каких пор?
— Женщина пусть рожает государству начиная с двадцати лет и до сорока, а мужчина — после того, как у него пройдет наилучшее время для бега: начиная с этих пор пусть производит он государству потомство вплоть до пятидесяти пяти лет[187].
— Верно, и у тех и у других это время телесного и духовного расцвета.
— Если же кто уже старше их или, напротив, моложе возьмется за общественное дело рождения детей, мы не признаем эту ошибку ни благочестивой, ни справедливой: ведь он произведет для государства такого ребенка, который, если это пройдет незамеченным, будет зачат не под знаком жертвоприношений и молитв, в которых при каждом браке и жрицы, и жрецы, и все целиком государство молятся о том, чтобы у хороших и полезных людей потомство было всегда еще лучше и полезнее, а, напротив, под покровом мрака, как плод ужасной невоздержности.
— Это верно.
— Тот же самый закон пусть действует и в том случае, если кто из мужчин, еще производящих потомство, коснется женщины пусть и брачного возраста, но без разрешения правителя на их союз: мы скажем, что такой мужчина преподнес государству незаконного ребенка, так как не было обручения и освящения.
— Совершенно верно.
— Когда же и женщины и мужчины выйдут из возраста, назначенного для произведения потомства, я думаю, мы предоставим мужчинам свободно сходиться с кем угодно, кроме дочери, матери, дочерей дочери и старших родственниц со стороны матери; женщинам же — со всеми, кроме сыновей, отца, и их младших и старших родственников. Но хотя мы и разрешим все это, они должны особенно стараться, чтобы ни один зародыш не вышел на свет, а если уж они будут вынуждены к этому обстоятельствами и ребенок родится, пусть распорядятся с ним так, чтобы его не пришлось выращивать.
— Это тоже правильно. Но как же они станут распознавать, кто кому приходится отцом, дочерью или родственниками, о которых ты сейчас говорил?
— Никак. Но всякий будет называть своими детьми тех, кто родился на десятый или седьмой месяц от дня его вступления в брак, а те будут называть его своим отцом; их потомство он будет называть детьми своих детей, а они соответственно будут называть стариков дедами и бабками, а всех родившихся за то время, когда их матери и отцы производили потомство, они будут называть своими сестрами и братьями, и потому, как мы только что и говорили, им не дозволено касаться друг друга. Из числа же братьев и сестер закон разрешит сожительствовать тем, кому это выпадет при жеребьевке и будет дополнительно утверждено Пифией[188].
— Это в высшей степени правильно.
— Вот какова, Главкон, эта общность жен и детей у стражей нашего с тобой государства. А что она соответствует его устройству лучше всего — это должно быть обосновано в дальнейшем рассуждении. Или как мы поступим?
— Именно так, клянусь Зевсом.
[Собственнические интересы — причина порчи нравов]
— Так не будет ли вот что началом нашей договоренности: мы сами себе зададим вопрос, что можем мы называть величайшим благом для государственного устройства, то есть той целью, ради которой законодатель и устанавливает законы, и что считаем мы величайшим злом? Затем нам надо, не правда ли, рассмотреть, несет ли на себе следы этого блага все то, что мы сейчас разобрали, и действительно ли не соответствует оно злу.
— Это самое главное.
— Может ли быть, по-нашему, большее зло для государства, чем то, что ведет к потере его единства и распадению на множество частей? И может ли быть большее благо, чем то, что связует государство и способствует его единству?
— По-нашему, не может быть.
— А связует его общность удовольствия или скорби, когда чуть ли не все граждане одинаково радуются либо печалятся, если что-нибудь возникает или гибнет.
— Безусловно.
— А обособленность в таких переживаниях нарушает связь между гражданами, когда одних крайне удручает, а других приводит в восторг состояние государства и его населения.
— Еще бы!
— И разве не оттого происходит это в государстве, что невпопад раздаются возгласы: "Это—мое!" или "это — не мое!"? И то же самое насчет чужого.
— Совершенно верно.
— А где большинство говорит таким же образом и об одном и том же: "Это—мое!" или "это—не мое!", там, значит, наилучший государственный строй.
— Да, наилучший.
— То же и в таком государстве, которое ближе всего по своему состоянию к отдельному человеку: например, когда кто-нибудь из нас ушибет палец и все совокупное телесное начало напрягается в направлении к душе как единый строй, подчиненный началу, в ней правящему, она вся целиком ощущает это и сострадает части, которой больно; тогда мы говорим, что у этого человека болит палец. То же выражение применимо к любому другому [ощущению] человека — к страданию, когда болеет какая-либо его часть, и к удовольствию, когда она выздоравливает[189].
— Да, то же самое. Вот это и есть то, о чем ты спрашивал: к состоянию такого государства полностью приближается государство с наилучшим устройством.
— Когда один из граждан такого государства испытывает какое-либо благо и зло, такое государство обязательно, по-моему, скажет, что это его собственное переживание, и всё целиком будет вместе с этим гражданином либо радоваться, либо скорбеть.
— Это непременно так, если в государстве хорошие законы.
— Пора бы нам вернуться к нашему государству и посмотреть, в нем или в каком-то другом государстве осуществляются преимущественно выводы нашего рассуждения.
— Да, это надо сделать.
[Взаимоотношения правителей и народа в идеальном и неидеальном государствах]
— Так что же? Раз во всех прочих государствах имеются правители и народ, то имеются они и в нем.
— Имеются.
— И все они будут называть друг друга гражданами?
— Конечно.
— Но кроме наименования "граждане", как называет народ своих правителей в остальных государствах?
— Во многих—"господами", а в демократических государствах сохраняется вот это самое название — "правители".
— А народ нашего государства? Кроме обращения "граждане", как будет он называть правителей?,
— "Спасителями" и "помощниками".
— А они как будут называть народ?
— "Плательщиками" и "кормильцами".
— А как в остальных государствах называют народ правители?
— "Рабами".
— А правители друг друга?
— Соправителями.
— А у нас?
— Сотоварищами по страже.
— Можешь ли ты назвать случай в остальных государствах, чтобы кто-нибудь из правителей обращался к одному из соправителей как к товарищу, а к другому — как к чужаку?
— Это бывает часто.
— Близкого человека он считает своим и так его называет, а чужого не считает своим.
— Верно.
— Ну, а как же у твоих стражей? Найдется ли среди них такой, чтобы он считал и называл кого-нибудь из сотоварищей чужим?
— Ни в коем случае. С кем бы из них он ни встретился, он будет признавать в них брата, сестру, отца, мать, сына, дочь или их детей либо дедов[190].
— Прекрасный ответ! Но скажи еще вот что: предпишешь ли ты им законом придерживаться только родственных обращений или и вести себя соответственно обращениям, — например, по отношению к своим отцам соблюдать все то, что в обычае относительно отцов вообще, то есть быть почтительными, заботиться о них и должным образом слушаться родителей под страхом того, что не будет им добра ни от богов, ни от людей, если они поступят иначе: в последнем случае их поведение будет и нечестивым, и несправедливым. Эти ли речи из уст всех граждан или какие-нибудь иные будут у тебя оглашать слух даже самых малых детей относительно тех отцов, которых им укажут, и остальных родичей?
— Эти самые. Было бы смешно и названия близких оставались бы пустым звуком, если не претворять это в жизнь.
— Значит, из всех государств только у граждан этого государства мощно звучало бы в один голос: "Мои дела хороши!" или "мои дела плохи!", если у одного какого-то гражданина дела идут хорошо или плохо.
— Совершенно верно.
— А разве мы не указывали, что с такими взглядами и выражениями сопряжены и общие радость или горе?
— И мы верно это указывали.
— Значит, наши граждане особенно будут переживать что-нибудь сообща, если они смогут сказать: "Это — мое?" При таком общем переживании у них скорее всего и получатся общие радости или горе.
— Конечно.
— Вдобавок к остальным установлениям не это ли служит причиной общности жен и детей у стражей?
— Да, главным образом.
— Но ведь мы согласились, что для государства это величайшее благо: мы уподобили благоустроенное государство телу, страдания или здоровье которого зависят от состояния его частей[191].
— И мы правильно согласились.
— Значит, оказалось, что причиной величайшего блага для нашего государства служит общность детей и жен у его защитников.
— Безусловно.
— Это согласуется и с нашими прежними утверждениями. Ведь мы как-то сказали, что у стражей не должно быть ни собственных домов, ни земли и вообще никакого имущества: они получают пропитание от остальных граждан как плату за свою сторожевую службу и сообща всё потребляют, коль уж они должны быть подлинными стражами.
— Правильно.
— Так вот я говорю, что и прежде нами сказанное, а еще более то, что мы сейчас говорим, сделает из них подлинных стражей и поможет тому, чтобы они не разнесли в клочья государство, что обычно бывает, когда люди считают своим не одно и то же, но каждый — другое: один тащит в свой дом все, что только может приобрести, не считаясь с остальными, а другой делает то же, но тащит уже в свой дом; жена и дети у каждого свои, а раз так, это вызывает и свои, особые для каждого радости или печали. Напротив, при едином у всех взгляде насчет того, что считать своим, все они ставят перед собой одну и ту же цель и по мере возможности испытывают одинаковые состояния, радостные или печальные.
— Несомненно.
— Так что же? Тяжбы и взаимные обвинения разве не исчезнут у них, попросту говоря, потому, что у них не будет никакой собственности, кроме своего тела? Все остальное у них общее. Поэтому они не будут склонны к распрям, которые так часто возникают у людей из-за имущества или по поводу детей и родственников.
— Этого у них совсем не будет.
— И не будет у них также оснований судиться из-за насилий и оскорблений. Мы им скажем, что самозащита у ровесников будет прекрасным и справедливым делом, и обяжем их заботиться о своем телесном развитии.
— Правильно.
— И вот еще что правильно в этом законе: если кто с кем поссорится, он удовлетворит свой гнев в пределах этой ссоры, но не станет раздувать распрю.
— Конечно.
— Тому, кто постарше, будет предписано начальствовать над всеми, кто моложе его, с правом наказывать их.
— Ясно.
— А младший, за исключением тех случаев, когда велят правители, никогда не решится, да оно и естественно, применить насилие к старшему или поднять на него руку, и думаю, что и вообще никогда его не оскорбит. Этому достаточно препятствуют два стража: страх и почтительность. Почтительность возбраняет касаться родителей, а страх заставляет предполагать, что обиженному помогут либо его сыновья, либо братья, либо отцы.
— Так бывает.
— Благодаря таким законам эти люди станут жить друг с другом во всех отношениях мирно.
— И даже очень.
— А так как распри между ними исключаются, нечего бояться, что остальная часть государства будет с ними не в ладах и что там возникнут внутренние раздоры.
— Конечно, нет.
— Мне как-то неловко даже и упоминать о разных мелких неприятностях, от которых они избавятся, например об угодничестве бедняков перед богачами, о трудностях и тяготах воспитания детей, об изыскании денежных средств, необходимых для содержания семьи, когда людям приходится то брать в долг, то отказывать другим, то, раздобыв любым способом деньги, хранить их у жены или у домочадцев, поручая им вести хозяйственные дела; словом, друг мой, тут не оберешься хлопот, это ясно, но не стоит говорить о таких низменных вещах.
— Да, это ясно и слепому.
— Избавившись от всего этого, наши стражи будут жить блаженной жизнью — более блаженной, чем победители на олимпийских играх[192].
— В каком отношении?
— Те слывут счастливыми, хотя пользуются лишь частью того, что будет у наших стражей. Ведь победа стражей прекраснее, да и общественное содержание их более полноценно: ибо одержанная ими победа—это спасение всего государства, и сами они и их дети снабжаются пропитанием и всем прочим, что нужно для жизни; и почетные дары они получат от своего государства еще при жизни, а по смерти они получают достойное погребение.
— Это великолепно.
— Помнишь, раньше — не знаю, в каком месте нашего рассуждения — против нас был выдвинут довод, что мы не делаем наших стражей счастливыми, потому что у них ничего нет, хотя они и имеют возможность присвоить себе все имущество граждан[193]. На это мы тогда отвечали, что этот вопрос, если он возникнет, мы ; рассмотрим потом, а пока что надо сделать стражей действительно стражами, а государство как можно более благополучным, имея в виду благополучие вовсе не для одного только сословия.
— Я помню.
— Ну, что ж? Раз теперь жизнь наших защитников оказывается гораздо прекраснее и лучше, чем жизнь олимпийских победителей, как же сравнивать ее с жизнью сапожников, каких-то там ремесленников или земледельцев?!
— По-моему, этого делать никак нельзя.
— Впрочем, — об этом мы и тогда упоминали, но стоит повторить и сейчас, — если страж усмотрит свое счастье в том, чтобы не быть стражем и не удовольствуется такой умеренной, надежной и, как мы утверждаем, наилучшей жизнью, но проникнется безрассудным и ребяческим мнением о счастье, которое будет толкать его на то, чтобы присвоить себе силой все с достояние государства, он поймет тогда: Гесиод действительно был мудрецом, говоря, что в каком-то смысле "половина больше целого".[194]
— Если бы такой страж последовал моему совету, он оставался бы при указанном нами образе жизни.
— Значит, ты допускаешь ту общность жен у этих мужей, которую мы уже обсудили? Это касается также детей и их воспитания и охраны остальных граждан. Остаются ли женщины в городе или идут на войну, они вместе с мужчинами несут сторожевую службу, вместе и охотятся подобно собакам; они всячески участвуют во всем, насколько это в их силах. Такая их деятельность и является наилучшей и ничуть не противоречит природе отношений между самцами и самками.
— Я согласен.
— Остается еще разобрать, возможно ли и среди людей осуществить такую же общность, как у других живых существ, и каким образом это осуществимо.
— Ты опередил меня: я как раз собирался именно это присовокупить.
[Война и воинский долг граждан идеального государства]
— Чтo касается военных действий, то, я думаю, ясно, каким образом будут воевать женщины.
— Каким же?
— Они вместе с мужчинами будут участвовать в военных походах, а из детей возьмут с собой на войну тех, кто для этого созрел, чтобы они, как это водится у мастеров любого дела, присматривались к мастерству, которым должны будут овладеть с годами. Кроме наблюдения дети должны прислуживать, помогать по военной части, ухаживать за отцами и матерями. Разве ты не видел этого в различных ремеслах, например у гончаров? Их дети долгое время прислуживают и наблюдают, прежде чем самим приняться за гончарное дело.
— Да, я часто это видел.
— А разве гончарам нужно тщательнее обучать своих детей, чем нашим стражам, указывая им с помощью опыта и наблюдения, что следует делать?
— Это было бы просто смешно!
— Кроме того, и воинственным всякое живое существо особенно бывает тогда, когда при нем его потомство.
— Это так. Но есть большая опасность, Сократ, что случае поражения — а это часто бывает на войне — они погубят вместе с собой и своих детей и остальные граждане не смогут восполнить этот урон.
— Ты верно говоришь, но считаешь ли ты, что прежде всего надо обеспечить им полную безопасность?
— Вовсе нет.
— Что же? Если уж им идти на риск, так не при том ли условии, что в случае успеха они станут лучше?
— Ясно, что так.
— А разве, по-твоему, это не важно и не стоит рискнуть ради того, чтобы те, кто с летами станут ринами, уже с детства наблюдали войну?
— Конечно, это важно для той цели, о которой ты говоришь.
— Значит, нужно сделать детей наблюдателями войны, но в то же время придумать средство обеспечить им безопасность, и тогда все будет хорошо, не так ли?
— Да, конечно.
— Прежде всего их отцы будут, насколько возможно, не невеждами в войне, но людьми, знающими, какие походы опасны, а какие — нет.
— Естественно.
— В одни походы они возьмут с собой детей, в другие остерегутся их брать.
— Это верно.
— Да и начальниками над ними они назначат не новых людей, но тех, кто по своей опытности и возрасту способен быть руководителем и наставником детей.
— Так и подобает.
— Но, скажем мы, часто бывают разные неожиданности.
— На этот случай, друг мой, нужно их окрылять с малолетства, чтобы, если понадобится, они могли упорхнуть, избежав беды.
— Что ты имеешь в виду?
— С самых ранних лет нужно сажать детей на коня, а когда они научатся ездить верхом, брать их с собой для наблюдения войны; только кони должны у них быть не горячие и не боевые, но самые быстрые и послушные в узде. Таким образом дети всего лучше присмотрятся к своему делу, а если понадобится, наверняка спасутся, следуя за старшими наставниками.
— По-моему, ты правильно говоришь.
— Так что же нам сказать о войне? Как будут у тебя вести себя воины и как будут они относиться к неприятелю? Верно ли мне кажется или нет...
— Скажи, что именно.
— Если кто из воинов оставит строй, бросит оружие, вообще совершит какой-нибудь подобный поступок по малодушию, разве не следует перевести его в ремесленники или земледельцы?
— Очень даже следует.
— А того, кто живым попался в плен врагам, не подарить ли тем, кто захочет воспользоваться этой добычей по своему усмотрению?
— Конечно.
— Того же, кто отличился и прославился, не должны ли, по-твоему, юноши и подростки, участвующие с ним вместе в походе, увенчать каждый поочередно, прямо во время похода? Или не так?
— По-моему, так.
— Что же? Разве не будут его приветствовать пожатием правой руки?
— И это тоже.
— Но вот с чем, думаю я, ты уж не согласишься...
— С чем?
— Чтобы он всех целовал и чтобы его все целовали.
— С этим я соглашусь всего охотнее и к этому закону добавлю еще, что в продолжение всего этого похода никому не разрешается отвечать отказом, если такой воин захочет кого-нибудь целовать, — ведь если ему доведется влюбиться в юношу или в женщину, это придаст ему еще больше бодрости для совершения подвигов.
— Прекрасно. У нас уже было сказано, что тому, кто доблестен, будет уготовано большее число браков и таких людей чаще, чем остальных, будут избирать для этой цели, так, чтобы от них было как можно более многочисленное потомство.
— Да, мы уже говорили об этом.
— И по Гомеру, такие почести справедливо воздаются доблестным юношам. Гомер говорит, что Аянт, прославившийся на войне, был почтен "длиннейшей хребетною частью". То была подходящая почесть мужественному человеку в расцвете лет: от этого у него и сил прибавилось вместе с почетом.
— Совершенно верно.
— Так послушаемся в этом Гомера. Доблестных .людей мы почтим соответственно проявленной ими доблести при жертвоприношениях и сходных обрядах как песнопениями, так и тем, о чем мы только что говорили, а к тому же
Местом почетным, и мясом, и полными чашами тоже[195],
чтобы вместе с почестью укреплять этих доблестных мужей и женщин.
— Ты прекрасно сказал.
— Допустим. А об умерших в походе, если кто пал со славою, не скажем ли мы прежде всего, что они принадлежат к золотому поколению?
— Конечно, скажем.
— Разве мы не поверим Гесиоду, что некоторые из этого поколения после кончины
В праведных демонов преобразились, чтоб стражами смертных
Быть на земле, благостыней всегда от зла отвращая? [196]
— Конечно, поверим.
— Следовательно, вопросив бога, как надо погрешать таких блаженных, божественных людей и с какими отличиями, мы будем погребать их именно так, как ни нам укажет.
— Почему бы и нет?
— А в последующие времена, поскольку они — демоны [гении], мы так и будем почитать их гробницы и им поклоняться. Такой же точно обычай мы установим, гели скончается от старости или по другой причине кто-нибудь из тех, кто был признан особенно добродетельным в жизни.
— Это справедливо.
— Далее. Как будут поступать с неприятелем наши воины?
— В каком смысле?
— Прежде всего насчет обращения в рабство: можно ли считать справедливым, чтобы эллины порабощали эллинские же государства, или, напротив, насколько возможно, не надо этого никому позволять и с надо приучать щадить род эллинов из опасения, как бы он не попал в рабство к варварам?
— Именно так.
— Значит, и нашим гражданам нельзя иметь рабом эллина и другим эллинам надо советовать то же самое.
— Конечно. Таким образом, их усилия будут скорее направлены против варваров и эллины воздержатся от междоусобиц.
— Дальше. Хорошо ли это — в случае победы снимать с убитых что-нибудь, кроме оружия? Не служит ли это предлогом для трусов уклоняться от встреч с воюющим неприятелем? Они, словно выполняя свой долг, шарят вокруг убитых, и из-за подобного грабежа погибло уже много войск.
— Даже очень много.
— Разве это не низкое стяжательство — грабить мертвеца? Лишь женскому, мелочному образу мыслей свойственно считать врагом даже тело умершего, хотя неприятель уже бежал и осталось лишь то, с помощью чего он сражался! Или, по-твоему, те, кто это делает, отличаются чем-нибудь от собак, злящихся на камни, которыми в них швыряют, но не трогающих того, кто швыряет?
— Ничуть не отличаются.
— Значит, надо отказаться от ограбления мертвых и не препятствовать уборке трупов.
— Конечно, надо отказаться, клянусь Зевсом!
— И мы не понесем в святилище оружие как жертвенный дар, в особенности оружие эллинов, если нам хоть сколько-нибудь важны благожелательные отношения с прочими эллинами. А еще больше мы будем опасаться осквернить святилища, принеся вещи, отнятые у наших родичей, — разве что бог велит иначе[197].
— Совершенно верно.
— Ну а опустошение эллинской земли и поджигание домов — как в этих случаях, по-твоему, поступят воины в отношении неприятеля?
— Если бы ты выразил свое мнение, я с удовольствием бы послушал.
— По-моему, они не будут делать ни того ни другого, а только отберут годичный урожай; почему — хочешь, я тебе скажу?
— Очень хочу.
— Мне кажется, что недаром есть два названия — война и раздор. Это два разных [проявления], зависящих от двух видов разногласий. Двумя я считаю их вот почему: одно — среди своих и близких, другое — с чужими, с иноземцами. Вражда между своими была названа раздором, а с чужими — войной.
— Ты не сообщаешь ничего необычного.
[Этническая характеристика идеального государства в связи с вопросом о войне]
— Но посмотри, обычно ли то, что я сейчас скажу. Я утверждаю, что все эллины — близкие друг другу люди и состоят между собою в родстве, а для варваров они — иноземцы и чужаки.
— Прекрасно.
— Значит, если эллины сражаются с варварами, а варвары с эллинами, мы скажем, что они воюют, что они по самой своей природе враги и эту их вражду надо называть войной. Когда же нечто подобное происходит между эллинами, надо сказать, что по природе своей они друзья, но Эллада в этом случае больна и в ней царит междоусобица, и такую вражду следует именовать раздором[198].
— Я согласен расценивать это именно так.
— Посмотри-ка: при таких, как мы только что условились это называть, раздорах, когда нечто подобное где-нибудь происходит и в государстве царит раскол, граждане опустошают друг у друга поля и поджигают чужие дома, сколь губительным окажется этот раздор и как мало любви к своей родине выкажут обе стороны! Иначе они не осмелились бы разорять свою мать и кормилицу. Достаточно уж того, что победители отберут у побежденных плоды их труда, но пусть не забывают они, что цель — заключение мира: не вечно же им воевать!
— Такой образ мыслей гораздо благороднее, чем тот.
— Что же? Устрояемое тобой государство разве не будет эллинским?
— Оно должно быть таким.
— А его граждане разве не будут доблестными и воспитанными?
— Конечно, будут.
— Разве они не будут любить все эллинское, считать Элладу родиной и вместе с остальными участвовать в священных празднествах?
— Несомненно, будут.
— Разногласия с эллинами как со своими сородичами они будут считать раздором и не назовут войной?
— Да.
— И посреди распрей они будут помнить о мире?
— Конечно.
— Своих противников они будут благожелательно вразумлять, не порабощая их в наказание и не доводя до гибели — они разумные советчики, а не враги.
— Это так.
— Раз они эллины, они не станут опустошать Элладу или поджигать там дома; они не согласятся считать в том или ином государстве своими врагами . всех — и мужчин, и женщин, и детей, а будут считать ими лишь немногих — виновников распри. Поэтому у них не появится желания разорять страну и разрушать дома, раз они ничего не имеют против большинства граждан, а распрю они будут продолжать лишь до тех пор, пока те, кто невинно страдает, не заставят ее виновников наконец понести кару.
— Я согласен, что наши граждане должны относиться к своим противникам именно таким образом, а к варварам — так, как теперь относятся друг к другу эллины.
— Мы установим для стражей и этот закон: не опустошать страну и не поджигать домов.
— Да, решим, что это хорошо, так же как и то, о чем мы говорили раньше.
— Но по-моему, Сократ, если тебе позволить говорить об этих вещах, ты и не вспомнишь, что стал это делать, отложив ответ на ранее возникший вопрос: может ли осуществиться такое государственное устройство и каким образом это возможно. Ведь, если бы все это осуществилось, это было бы безусловным благом для того государства, где это случится. Я укажу и на те преимущества, о которых ты не упомянул: граждане такого государства в высшей степени доблестно сражались бы с неприятелем, потому что никогда не оставляли бы своих в беде, зная, что они приходятся друг другу братьями, отцами, сыновьями, и так называя друг друга. А если и женщины будут участвовать в походах — в том же ли самом строю или идя позади, чтобы наводить страх на врагов, либо в случае какой-то нужды оказывать помощь, — я уверен, что благодаря сему этому наши граждане будут непобедимы. Не буду уж говорить о домашних благах — могу себе представить, сколько их будет! Так как я полностью согласен с тобой, что они были бы — да еще и тьма других, — если бы осуществилось это государственное устройство, ты о нем больше не говори, а мы уж постараемся убедить самих себя, что это возможно, и объяснить, каким образом, а обо всем остальном давай отложим попечение.
— Ты словно сделал внезапный набег на мое рассуждение, и набег беспощадный, чуть лишь я засмотрелся. Ты, верно, не понимаешь, что едва я избегнул тех двух волн, ты насылаешь на меня третью, крупнейшую и самую тягостную[199]. Когда-то, когда ты ее увидишь и услышишь ее раскаты, ты очень снисходительно отнесешься к тому, что я, понятное дело, медлил: мне было страшно и высказывать, и пытаться обсуждать мою мысль, настолько она необычна.
— Чем больше ты будешь так говорить, тем меньше позволим мы тебе уклоняться от вопроса, каким образом можно осуществить это государственное устройство. Пожалуйста, ответь нам не мешкая.
[Правителями государства должны быть философы]
— Сперва надо припомнить, что к этому вопросу мы пришли, когда исследовали, в чем состоят справедливость и несправедливость.
— Да, надо. Но к чему это?
— Да ни к чему! Но поскольку мы нашли, в чем состоит справедливость, будем ли мы требовать, чтобы справедливый человек ни в чем не отличался от нее самой, с но во всех отношениях был таким, какова справедливость? Или мы удовольствуемся тем, что человек по возможности приблизится к ней и будет ей причастен гораздо больше, чем остальные?
— Да, удовольствуемся.
— В качестве образца мы исследовали самое справедливость — какова она и совершенно справедливого человека, если бы такой нашелся, — каким бы он был; мы исследовали также несправедливость и полностью несправедливого человека — все это для того, чтобы, глядя на них, согласно тому, покажутся ли они нам счастливыми или нет, прийти к обязательному выводу и относительно нас самих: кто им во всем подобен, того ждет подобная же и участь. Но мы делали это не для того, чтобы доказать осуществимость таких вещей.
— Ты прав.
— Разве, по-твоему, художник становится хуже, если в качестве образца он рисует, как выглядел бы самый красивый человек, и это достаточно выражено на картине, хотя художник и не в состоянии доказать, что такой человек может существовать на самом деле?
— Клянусь Зевсом, по-моему, он не становится от этого хуже.
— Так что же? Разве, скажем так, и мы не дали — на словах — образца совершенного государства?
— Конечно, дали.
— Так теряет ли, по-твоему, наше изложение хоть что-нибудь из-за того только, что мы не в состоянии доказать возможности устроения такого государства, как было сказано?
— Конечно же, нет.
— Вот это верно. Если же, в угоду тебе, надо сделать попытку показать, каким преимущественно образом и при каких условиях это было бы всего более возможно, то для такого доказательства ты снова одари меня тем же.
— Чем?
— Может ли что-нибудь быть исполнено так, как сказано? Или уже по самой природе дело меньше, чем слово, причастно истине, хотя бы иному это и не казалось? Согласен ты или нет?
— Согласен.
— Так не заставляй же меня доказывать, что и на деле все должно полностью осуществиться так, как мы это разобрали словесно. Если мы окажемся в состоянии изыскать, как построить государство, наиболее близкое к описанному, согласись, мы сможем сказать, что уже выполнили твое требование, то есть показали, как можно это осуществить. Или ты этим не удовольствуешься? Я лично был бы доволен.
— Да и я тоже.
— После этого мы, очевидно, постараемся найти и показать, что именно плохо в современных государствах, из-за чего они и устроены иначе; между тем результате совсем небольшого изменения государство могло бы прийти к указанному роду устройства, особенно если такое изменение было бы одно, или же их было бы два, а то и несколько, но тогда их должно быть как можно меньше и им надо быть незначительными.
— Конечно.
— Стоит, однако, произойти одной-единственной перемене, и, мне кажется, мы будем в состоянии показать, что тогда преобразится все государство; правда, перемена эта не малая и не легкая, но все же она возможна.
— В чем же она состоит?
— Вот теперь я и пойду навстречу тому, что мы уподобили крупнейшей волне; это будет высказано, хотя бы меня всего, словно рокочущей волной, обдало насмешками и бесславием. Смотри же, что я собираюсь сказать.
— Говори.
— Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется воедино — государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке отстранены те люди — а их много, — которые ныне стремятся порознь либо к власти, либо к философии, до тех пор, дорогой Главкон, государствам не избавиться от зол[200], да и не станет возможным для рода человеческого и не увидит солнечного света то государственное устройство, которое мы только что описали словесно. Вот почему я так долго не решался говорить, — я видел, что все это будет полностью противоречить общепринятому мнению; ведь трудно людям признать, что иначе невозможно ни личное их, ни общественное благополучие.
Тут Главкон сказал:
— Сократ, ты метнул в нас такие слово и мысль, что теперь, того н жди, на тебя изо всех сил набросятся очень многие и даже неплохие люди: скинув с себя верхнюю одежду, совсем обнаженные[201], они схватятся за первое попавшееся оружие, готовые на все; и если ты не отразишь их натиск своими доводами и обратишься в бегство, они с издевкой подвергнут тебя наказанию.
— А не ты ли будешь в этом виновен?
— И буду тут совершенно прав. Но я тебя не выдам, защищу, чем могу, — доброжелательным отношением и уговорами, да еще разве тем, что буду отвечать тебе лучше, чем кто-либо другой. Имея такого помощника, попытайся доказать всем неверующим, что дело обстоит именно так, как ты говоришь.
— Да, надо попытаться, раз даже ты заключаешь со мной такой могущественный союз. Мне кажется, если мы хотим избежать натиска со стороны тех люден, о которых ты говоришь, необходимо выдвинуть против них определение, кого именно мы называем философами, осмеливаясь утверждать при этом, что как раз философы-то и должны править: когда это станет ясно, можно начать обороняться и доказывать, что некоторым людям по самой их природе подобает быть философами с и правителями государства, а всем прочим надо заниматься не этим, а следовать за теми, кто руководит.
— Да, сейчас самое время дать такое определение.
— Ну, тогда следуй за мной в этом направлении, и, может быть, нам удастся в какой-то мере удовлетворительно это истолковать.
— Веди меня.
[Философ — тот, кто созерцает прекрасное]
— Нужно ли напоминать тебе, или ты помнишь сам, что коль скоро, на наш взгляд, человек что-нибудь любит, он должен, если только верно о нем говорят, выказывать любовь не к одной какой-нибудь стороне того, что он любит, оставаясь безучастным к другой, но, напротив, ему должно быть дорого все.
— По-видимому, надо мне это напомнить: мне это не слишком понятно.
— Уж кому бы другому так говорить, а не тебе, Главкон! Знатоку любовных дел не годится забывать, что человека, неравнодушного к юношам и влюбчивого, в какой-то мере поражают и возбуждают все, кто находится в цветущем возрасте, и кажутся ему достойными внимания и любви. Разве не так относитесь вы к красавцам? Одного вы называете приятным за то, что он курносый, и захваливаете его, у другого нос с горбинкой — значит, по-вашему, в нем есть что-то царственное, а у кого нос средней величины, тот, считаете вы, отличается соразмерностью. У чернявых — мужественная внешность, белокурые — дети богов. Что касается "медвяно-желтых[202]" — думаешь ли ты, что это выражение сочинил кто-нибудь иной, кроме влюбленного, настолько нежного, что его не отталкивает даже бледность, лишь бы юноша был в цветущем возрасте? Одним словом, под любым предлогом и под любым именем вы не отвергаете никого из тех, кто в расцвете лет.
— Если тебе хочется на моем примере говорить о том, как ведут себя влюбленные, я, так и быть, уступаю, но лишь во имя нашей беседы.
— Что же? Разве ты не видишь, что и любители вин поступают так же? Любому вину они радуются под любым предлогом.
— И даже очень.
— Также, думаю я, и честолюбцы. Ты замечаешь, если им невозможно возглавить целое войско, они начальствуют хотя бы над триттией[203]; если нет им почета от людей высокопоставленных и важных, они довольствуются почетом от людей маленьких и незначительных, но вожделеют почета во что бы то ни стало.
— Совершенно верно.
— Так вот, прими же или отвергни следующее. Когда мы говорим: "Человек вожделеет к тому-то", скажем ли мы, что он вожделеет ко всему этому виду предметов или же к одним из них — да, а к другим — нет?
— Ко всему виду.
— Не скажем ли мы, что и любитель мудрости [философ] вожделеет не к одному какому-то ее виду, но ко всей мудрости в целом?
— Это правда.
— Значит, если у человека отвращение к наукам, в особенности когда он молод и еще не отдает себе отчета в том, что полезно, а что — нет, мы не назовем его ни любознательным, ни философом, так же как мы не сочтем, что человек голоден и вожделеет к пище, если у него к ней отвращение: в этом случае он не охотник до еды, наоборот, она ему противна.
— Если мы так скажем, это будет правильно.
— А кто охотно готов отведать от всякой науки, кто с радостью идет учиться и в эгом отношении ненасытен, того мы вправе будем назвать философом[204].
Тут Главкон сказал:
— Такого рода людей у тебя наберется много, и притом довольно нелепых. Ведь таковы, по-моему, все охотники до зрелищ: им доставляет радость узнать что-нибудь новое. Совершенно нелепо причислять к философам и любителей слушать: их нисколько не тянет к такого рода беседам, где что-нибудь обсуждается, зато, словно их кто подрядил слушать все хоры, они бегают на празднества в честь Диониса, не пропуская ни городских Дионисий, ни сельских. Неужели же всех этих и других, кто стремится узнать что-нибудь подобное g или научиться какому-нибудь никчемному ремеслу, мы назовем философами?
— Никоим образом, разве что похожими на них.
— А кого же ты считаешь подлинными философами?
— Тех, кто любит усматривать истину.
— Это верно; но как ты это понимаешь?
— Мне нелегко объяснить это другому, но ты, я думаю, согласишься со мной в следующем...
— В чем?
— Раз прекрасное противоположно безобразному [постыдному], значит, это две разные вещи.
— Конечно.
— Но раз это две вещи, то каждая из них — одна?
— И это, конечно, так.
— То же самое можно сказать о справедливом и несправедливом, хорошем и плохом и ибо всех других видах: каждое из них — одно, но кажется множественным, проявляясь повсюду во взаимоотношении, а также в сочетании с различными действиями и людьми.
— Ты прав.
— Согласно этому я и провожу различие: отдельно помещаю любителей зрелищ, ремесел и дельцов, то есть всех тех, о ком ты говорил, и отдельно тех, о которых у нас сейчас идет речь и которых с полным правом можно назвать философами.
— А для чего ты это делаешь?
— Кто любит слушать и смотреть, те радуются прекрасным звукам, краскам, очертаниям и всему производному от этого, но их духовный взор не способен видеть природу красоты самой по себе и радоваться ей.
— Да, это так.
— А те, кто способен подняться до самой красоты и видеть ее самое по себе, разве это не редкие люди?
— И даже очень редкие.
— Кто ценит красивые вещи, но не ценит красоту самое по себе и не способен следовать за тем, кто повел бы его к ее познанию, — живет такой человек наяву или во сне, как ты думаешь? Суди сам: грезить — во сне или наяву — не значит ли считать подобие вещи не подобием, а самой вещью, на которую оно походит?
— Конечно, я сказал бы, что такой человек грезит.
— Далее. Кто в противоположность этому считает что-нибудь красотой самой по себе и способен созерцать как ее, так и всё причастное к ней, не принимая одно за другое, — такой человек, по-твоему, живет во сне или наяву?
— Конечно, наяву.
— Его состояние мышления мы правильно назвали бы познаванием, потому что он познает, а у того, первого, мы назвали бы это мнением, потому что он только мнит.
— Несомненно.
— Дальше. Если тот, о ком мы сказали, что он только мнит, но не познаёт, станет негодовать и оспаривать правильность наших суждений, могли бы мы его как-то унять и спокойно убедить, не говоря открыто, что он не в своем уме?
— Это следовало бы сделать.
[Философ познает не мнения, а бытие и истину]
— Ну, посмотри же, что мы ему ответим. Или, если хочешь, мы так начнем его расспрашивать (уверяя при этом, что мы ничего против него не имеем, наоборот, с удовольствием видим человека знающего): "Скажи нам, тот, кто познаёт, познаёт нечто или ничто?" Вместо него отвечай мне ты.
— Я отвечу, что такой человек познаёт нечто.
— Нечто существующее или несуществующее?
— Существующее. Разве можно познать несуществующее!
— Так вот, с нас достаточно того, что, с какой бы стороны мы что-либо ни рассматривали, вполне существующее вполне познаваемо, а совсем не существующее совсем и непознаваемо.
— Да, этого совершенно достаточно.
— Хорошо. А если с чем-нибудь дело обстоит так, что оно то существует, то не существует, разве оно не находится посредине между чистым бытием и тем, что вовсе не существует?
— Да, оно находится между ними.
— Так как познание направлено на существующее, а незнание неизбежно направлено на несуществующее, то для того, что направлено на среднее между ними обоими, надо искать нечто среднее между незнанием и знанием, если только встречается что-либо подобное.
— Совершенно верно.
— А называем ли мы что-нибудь мнением?
— Конечно.
— Это уже иная способность, чем знание, или та же самая?
— Иная.
— Значит, мнение направлено на одно, а знание — на другое, соответственно различию этих способностей.
— Да, так.
— Значит, знание по своей природе направлено на бытие с целью постичь, каково оно? Впрочем, мне кажется, необходимо сперва разобраться вот в чем...
— В чем?
— О способностях мы скажем, что они представляют собой некий род существующего; благодаря им мы можем то, что мы можем, да и не только мы, но все вообще наши способности: зрение и слух, например, я отнесу к числу таких способностей, если тебе понятно, о каком виде я хочу говорить.
— Мне понятно.
— Выслушай же, какого я держусь относительно них взгляда. Я не усматриваю у способностей ни цвета, ни очертания и вообще никаких свойственных другим , вещам особенностей, благодаря которым я их про себя различаю. В способности я усматриваю лишь то, на что она направлена и каково ее воздействие; именно по этому признаку я и обозначаю ту или иную способность. Если и направленность, и воздействие одно и то же, я считаю это одной и той же способностью, если же и направленность, и воздействие различны, тогда это уже другая способность. А ты — как ты поступаешь?
— Так же точно.
— Вернемся, почтеннейший, к тому же. Признаешь ли ты знание какой-то способностью или к какому роду ты его отнесешь?
— К этому роду — это самая мощная из всех способностей.
— А мнение мы отнесем к способностям или к какому-то другому виду?
— Ни в коем случае. Ведь мнение есть не что иное, как то, благодаря чему мы способны мнить.
— Но ведь немного раньше ты согласился, что знаниие и мнение не одно и то же.
— Как можно, будучи в здравом уме, считать одним и тем же то, что безошибочно, и то, что исполнено ошибок!
— Хорошо. Очевидно, мы с тобой согласны: знание и мнение — разные вещи.
— Да, разные.
— Значит, каждое из них по своей природе имеет особую направленность и способность.
— Непременно.
— Знание направлено на бытие, чтобы познать его свойства.
— Да.
— Мнение же, утверждаем мы, направлено лишь на о, чтобы мнить.
— Да.
— Познаёт ли оно то же самое, что и знание? И будет ли одним и тем же познаваемое и мнимое? Или это невозможно?
— Невозможно по причине того, в чем мы были согласны: каждая способность по своей природе имеет свою направленность: обе эти вещи — мнение и знание — не что иное, как способности, но способности различные, как мы утверждаем, и потому нельзя сделать вывод, что познаваемое и мнимое — одно и то же.
— Если бытие познаваемо, то мнимое должно быть чем-то от него отличным.
— Да, оно от него отлично.
— Значит, мнение направлено на небытие? Или небытие нельзя даже мнить? Подумай-ка: разве не относит к какому-либо предмету свои мнения тот, кто их имеет? Или можно иметь мнение, но ничего не мнить?
— Это невозможно.
— Хоть что-нибудь одно все же мнит тот, кто имеет мнение?
— Да.
— Между тем небытие с полным правом можно назвать не одним чем-то, а вовсе ничем.
— Конечно.
— Поэтому к небытию мы с необходимостью отнесли незнание, а к бытию — познание.
— Правильно.
— Значит, мнения не относятся ни к бытию, ни к небытию.
— Да, не относятся.
— Значит, выходит, что мнение — это ни знание, ни незнание?
— Видимо, да.
— Итак, не совпадая с ними, превосходит ли оно отчетливостью знание, а неотчетливостью — незнание?
— Нет, ни в том ни в другом случае.
— Значит, на твой взгляд, мнение более смутно, чем знание, но яснее, чем незнание?
— И во много раз.
— Но оно не выходит за их пределы?
— Да.
— Значит, оно ~- нечто среднее между ними?
— Вот именно.
— Как мы уже говорили раньше, если обнаружится нечто существующее и вместе с тем не существующее, место ему будет посредине между чистым бытием и полнейшим небытием, и направлено на него будет не знание, а также и не незнание, но опять-таки нечто такое, что окажется посредине между незнанием и знанием.
— Это верно.
— А теперь посредине между ними оказалось то, что мы называем мнением.
— Да, оказалось.
— Нам остается, видимо, найти нечто такое, что причастно им обоим — бытию и небытию, но что нельзя назвать ни тем пи другим в чистом виде. Если нечто подобное обнаружится, мы вправе будем назвать это тем, что мы мним; крайним членам мы припишем свойство быть крайними, а среднему между ними — средним. Разве не так?
— Так.
— Положив это в основу, пусть, скажу я, ведет со мной беседу и пусть ответит мне тот добрый человек, который отрицает прекрасное само по себе и некую самотождественную идею такого прекрасного. Он находит, что красивого много, этот любитель зрелищ, и не выносит, когда ему говорят, что прекрасное, так же как справедливое, едино, да и все остальное тоже. "Милейший, — скажем мы ему, — из такого множества прекрасных вещей разве не найдется ничего, что может оказаться безобразным? Или из числа справедливых поступков такой, что окажется несправедливым, а из числа благочестивых — нечестивым? "
— Да, эти вещи неизбежно окажутся в каком-то отношении прекрасными и в каком-то безобразными. Так же точно и остальное, о чем ты спрашиваешь.
— Итак?
— Многим удвоенным вещам разве это мешает оказаться в другом отношении половинчатыми?
— Ничуть.
— А если мы назовем что-либо большим, малым, легким, тяжелым, больше ли для этого оснований, чем для противоположных обозначений?
— Нет, каждой вещи принадлежат оба обозначения.
— Каждая из многих названных вещей будет ли или не будет преимущественно такой, как ее назвали?
— Это словно двусмысленность из тех, что в ходу на пирушках, с или словно детская загадка о том, как евнух хотел убить летучую мышь: надо догадаться, что он бросил и на чем летучая мышь сидела. И здесь все имеет два смысла, и ни о какой вещи нельзя твердо предполагать, что она такая или иная, либо что к ней подходят оба обозначения, или не подходит ни одно из них.
— Что же ты сделаешь с такими обозначениями? Можешь ли ты отвести им лучшее место, чем посредине между бытием и небытием? Они не туманнее небытия и не окажутся еще более несуществующими, чем оно, а с другой стороны, они не яснее бытия и не окажутся более, чем оно, существующими.
— Совершенно верно.
— Значит, мы, очевидно, нашли, что общепринятые суждения большинства относительно прекрасного и ему подобного большей частью колеблются где-то между небытием и чистым бытием.
— Да, мы это нашли.
— А у нас уже прежде было условлено, что, если обнаружится нечто подобное, это надлежит считать тем, что мы мним, а не тем, что познаём, так как то, что колеблется в этом промежутке, улавливается промежуточной способностью.
— Да, мы так условились.
— Следовательно, о тех, кто замечает много прекрасного, но не видит прекрасного самого по себе и не может следовать за тем, кто к нему ведет, а также о тех, кто замечает много справедливых поступков, но не справедливость самое по себе и так далее, мы скажем, что обо всем этом у них имеется мнение, но они не знают ничего из того, что мнят.
— Да, необходимо сказать именно так.
— А что же мы скажем о тех, кто созерцает сами эти [сущности], вечно тождественные самим себе? Ведь они познают их, а не только мнят?
— И это необходимо.
— И мы скажем, что эти уважают и любят то, что они познают, а те — то, что они мнят. Ведь мы помним, что они любят и замечают, как мы говорили, звуки, красивые цвета и тому подобное, но даже не допускают существования прекрасного самого по себе.
— Да, мы это помним.
— Так что мы не ошибемся, если назовем их скорее любителями мнений, чем любителями мудрости? И неужели же они будут очень сердиться, если мы так скажем?
— Не будут, если послушаются меня: ведь не положено сердиться на правду.
— А тех, кто ценит все существующее само по себе, должно называть философами [любителями мудрости], а не любителями мнений.
— Безусловно.
КНИГА ШЕСТАЯ.
[Роль философов в идеальном государстве]
— Насилу-то выяснилось, Главкон, путем длинного рассуждения, кто действительно философ, а кто — нет, и что собой представляют те и другие.
— Пожалуй, — отвечал он, — нелегко было сделать это короче.
— Видимо, нет. К тому же, мне кажется, это выяснилось бы лучше, если бы надо было говорить только об одном, не вдаваясь в разбор многого другого при рассмотрении вопроса, в чем отличие справедливой жизни от несправедливой.
— А что у нас идет после этого?
— Что же иное, кроме того, что следует по порядку? Раз философы — это люди, способные постичь то, что вечно тождественно самому себе, а другие этого не могут и застревают на месте, блуждая среди множества разнообразных вещей, и потому они уже не философы, то спрашивается, кому из них следует руководить государством?
— Как же нам ответить на это подобающим образом?
— Кто выкажет способность охранять законы и обычаи государства, тех и надо назначать стражами.
— Это верно.
— А ясно ли, какому стражу надо поручать любую охрану — слепому или тому, у кого острое зрение?
— Конечно, ясно.
— А чем лучше слепых те, кто по существу лишен : знания сущности любой вещи и у кого в душе нет отчетливого ее образа? Они не способны подобно художникам усматривать высшую истину и, не теряя ее из виду, постоянно воспроизводить ее со всевозможной тщательностью, и потому им не дано, когда это требуется, устанавливать здесь новые законы о красоте, справедливости и благе или уберечь уже существующие.
— Да, клянусь Зевсом, мало чем отличаются они от слепых.
— Так кого же мы поставим стражами — их или тех, кто познал сущность каждой вещи, а вдобавок ничуть не уступает им в опытности да и ни в какой другой части добродетели?
— Было бы нелепо избрать других, когда эти и вообще не хуже да еще вдобавок выделяются таким огромным преимуществом.
— Не указать ли нам, каким образом будут они к состоянии обладать и тем и другим?
— Конечно, это следует сделать.
— В начале этого рассуждения мы говорили, что прежде всего надо разобраться в природе этих людей. Я думаю, если относительно этого мы будем вполне согласны, то мы согласимся и с тем, что такие люди могут обладать обоими указанными свойствами и что руководителями государств надо быть не кому иному, как им.
— Как ты это понимаешь?
[Свойства философской души]
— Относительно природы философов нам надо согласиться, что их страстно влечет к познанию, приоткрывающему им вечно сущее и не изменяемое возникновением и уничтожением бытие, о котором мы говорили.
— Да, с этим надо согласиться.
— И надо сказать, что они стремятся ко всему бытию в целом, не упуская из виду, насколько это от них зависит, ни одной его части, ни малой, ни большой, ни менее, ни более ценной, то есть поступают так, как мы это раньше видели на примере людей честолюбивых и влюбчивых.
— Ты прав.
— Посмотри вслед за этим, необходимо ли людям, д которые должны стать такими, как мы говорим, иметь, кроме того, в своем характере еще и следующее...
— Что именно?
— Правдивость, решительное неприятие какой бы то ни было лжи, ненависть к ней и любовь к истине.
— Естественно, им необходимо это иметь.
— Не только, друг мой, естественно, но и во всех отношениях неизбежно любой человек, если он в силу своей природы охвачен страстным стремлением, ценит псе, что сродни и близко предмету его любви.
— Верно.
— А найдешь ли ты что-либо более близкое мудрости, чем истина?
— То есть как?
— Разве может один и тот же человек любить и мудрость, и ложь?
— Ни в коем случае.
— Значит, тот, кто действительно любознателен, должен сразу же, с юных лет изо всех сил стремиться к истине?
— Да, это стремление должно быть совершенным.
— Но когда у человека его вожделения резко клонятся к чему-нибудь одному, мы знаем, что от этого они слабеют в отношении всего остального — словно поток, отведенный в сторону.
— И что же?
— У кого они устремлены на приобретение знаний и подобные вещи, это, думаю я, доставляет удовольствие его душе, как таковой, телесные же удовольствия для него пропадают, если он не притворно, а подлинно философ.
— Да, это неизбежно.
— Такой человек рассудителен и ничуть не корыстолюбив — ведь тратиться на то, ради чего люди гонятся за деньгами, подходило бы кому угодно, только не ему.
— Это так.
— Когда ты хочешь отличить философский характер от нефилософского, надо обращать внимание еще вот на что...
— А именно?
— Как бы не утаились от тебя какие-нибудь неблагородные его наклонности[205]: ведь мелочность—злейший враг души, которой предназначено вечно стремиться к божественному и человеческому в их целокупности.
— Сущая правда.
[Основное свойство философской души — охват мыслью целокупного времени и бытия]
— Если ему свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия, думаешь ли ты, что для такого человека много значит человеческая жизнь?
— Нет, это невозможно.
— Значит, такой человек и смерть не будет считать чем-то ужасным?
— Менее всего.
— А робкой и неблагородной натуре подлинная философия, видимо, недоступна.
— По-моему, нет.
— Что же? Человек порядочный, не корыстолюбивый, а также благородный, не хвастливый, не робкий — может ли он каким-то образом стать неуживчивым и несправедливым?
— Это невозможно.
— Вот почему, рассматривая, философская ли душа у какого-нибудь человека или нет, ты сразу, еще в его юные годы заметишь, справедливая ли она, кроткая ли или трудна для общения и дика.
— Конечно, замечу.
— И ты не упустишь из виду, думаю я, еще вот что...
— Что же именно?
— Способен ли он к познанию или не способен. Разве ты можешь ожидать, что человек со временем полюбит то, над чем мучится и с чем едва справляется?
— Это вряд ли случится.
— Что же? Если он не может удержать в голове ничего из того, чему обучался — так он забывчив, может ли он не быть пустым и в отношении знаний?
— Как же иначе!
— Понапрасну трудясь, не кончит ли он, по-твоему, тем, что возненавидит и самого себя, и такого рода занятия?
— Конечно, возненавидит.
— Значит, забывчивую душу мы никогда не отнесем к числу философских и будем искать ту, у которой хорошая память.
— Безусловно.
[Природа философа отличается соразмерностью и врожденной тонкостью ума]
— Но можем ли мы сказать, что чуждая Музам и уродливая натура будет иметь влечение к чему-либо иному, кроме несоразмерности?
— И что же?
— А как, по-твоему, истина сродни несоразмерности или соразмерности?
— Соразмерности[206].
— Значит, кроме всего прочего требуется и соразмерность, и прирожденная тонкость ума, своеобразие второго делало бы человека восприимчивым к идее сего сущего.
— Да, конечно.
— Итак, разве, по-твоему, мы не разобрали свойств, каждое из которых, вытекая одно из другого, необходимо душе для достаточного и совершенного постижения бытия?
— Да, они для этого в высшей степени необходимы.
[Философу присущи четыре основные добродетели идеального государства]
— А есть ли у тебя какие-нибудь основания укорять такого рода занятие, которым никто не может как следует заниматься, если он не будет человеком, памятливым от природы, способным к познанию, великодушным, тонким, а к тому же другом и сородичем истины, справедливости, мужества и рассудительности?
— Даже Мом[207] и тот не нашел бы, к чему здесь придраться.
— И разве не им одним — людям зрелого возраста, достигшим совершенства в образовании, — поручил бы ты государство?
Тут вступил в разговор Адимант:
— Против этого-то, Сократ, никто не нашелся бы, что тебе возразить. Но ведь всякий раз, когда ты рассуждаешь так, как теперь, твои слушатели испытывают Примерно вот что: из-за непривычки задавать вопросы или отвечать на них они думают, что рассуждение при каждом твоем вопросе лишь чуть-чуть уводит их в сторону, однако, когда эти "чуть-чуть" соберутся вместе, ясно обнаруживается отклонение и противоречие с первоначальными утверждениями. Как в шашках сильный игрок в конце концов закрывает неумелому ход и тот не знает, куда ему податься, так и твои слушатели под конец оказываются в тупике и им нечего сказать в этой своего рода игре, где вместо шашек служат слова. А по правде-то дело ничуть этим не решается. Я говорю, имея в виду наш случай: ведь сейчас всякий признается, что по каждому заданному тобой вопросу он не в состоянии тебе противоречить. Стоило бы, однако, взглянуть, как с этим обстоит на деле: ведь кто устремился к философии не с целью образования, как это бывает, когда в молодости коснутся ее, а потом бросают, но, напротив, потратил на нее много времени, те большей частью становятся очень странными, чтобы не сказать совсем негодными, и даже лучшие из них под влиянием занятия, которое ты так расхваливаешь, все же делаются бесполезными для государства.
Выслушав Адиманта, я сказал:
— Так, по-твоему, те, кто так говорит, ошибаются?
— Не знаю, но я с удовольствием услышал бы твое мнение.
— Ты услышал бы, что, по-моему мнению, они говорят сущую правду.
— Тогда как же это согласуется с тем, что государствам до тех пор не избавиться от бед, пока не будут в них править философы, которых мы только что признали никчемными?
— Твой вопрос требует ответа с помощью уподобления.
— А ты, видно, к уподоблениям не привык.
— Пусть будет так. Ты втянул меня в трудное рассуждение да еще и вышучиваешь! Так выслушай же мое уподобление, чтобы еще больше убедиться, как трудно оно мне дается.
По отношению к государству положение самых порядочных людей настолько тяжелое, что ничего не может быть хуже. Поэтому для уподобления приходится брать в их защиту и объединять между собой многие черточки наподобие того, как художники рисуют козлоподобных оленей[208] и так далее, смешивая различные черты. Так вот, представь себе такого человека, оказавшегося кормчим одного или нескольких кораблей. Кормчий и ростом, и силой превосходит на корабле всех, но он глуховат, а также близорук и мало смыслит в мореходстве, а среди моряков идет распря из-за управления кораблем: каждый считает, что именно он должен править, хотя никогда не учился этому искусству, не может указать своего учителя и в какое время он обучался. Вдобавок они заявляют, что учиться этому нечего, и готовы разорвать на части того, кто скажет, что надо. Они осаждают кормчего просьбами и всячески добиваются, чтобы он передал им кормило. Иные его совсем не слушают, кое-кто — отчасти, и тогда те начинают убивать этих и бросать их за борт. Одолев благородного кормчего с помощью мандрагоры[209], вина или какого-либо иного средства, они захватывают власть на корабле, начинают распоряжаться всем, что на нем есть, бражничают, пируют и, разумеется, направляют ход корабля именно так, как естественно для подобных людей. Вдобавок они восхваляют и называют знающим моряком, кормчим, сведущим в кораблевождении того, кто способен захватить власть силой или же уговорив кормчего, а кто не таков, того они бранят, считая его никчемным. Они понятия не имеют о подлинном кормчем, который должен учитывать времена года, небо, звезды, ветры — все, что причастно его искусству, если он действительно намерен осуществлять управление кораблем независимо от того, соответствует ли это чьим-либо желаниям или нет. Они думают, что невозможно приобрести такое умение, опытность и вместе с тем власть кормчего.
Итак, раз подобные вещи наблюдаются на кораблях, не находишь ли ты, что при таком положении дел моряки назовут высокопарным болтуном[210] и никудышником именно того, кто подлинно способен управлять?
— Конечно, — отвечал Адимант.
— Я не думаю, чтобы, видя такую картину, ты нуждался в истолковании того, в чем ее сходство с отношением к подлинным философам в государствах, — ты ведь понимаешь, о чем я говорю.
— Вполне.
— Так прежде всего ты растолкуй этот образ тому, кто удивляется, почему философы не пользуются в государствах почетом, и постарайся убедить его, что гораздо более удивительно было бы, если бы их там почитали.
— Я ему растолкую это.
[Еще раз о подлинных правителях государства]
— И скажи ему также: "Ты верно говоришь, что для большинства бесполезны люди, выдающиеся в философии". Но в бесполезности этой вели ему винить тех, кто не находит им никакого применения, а не этих выдающихся людей. Ведь неестественно, чтобы кормчий просил матросов подчиняться ему или чтобы мудрецы обивали пороги богачей, — ошибался тот, кто так острил[211]. Естественно как раз обратное: будь то богач или бедняк, но, если он заболел, ему необходимо обратиться к врачам; а всякий, кто нуждается в подчинении, должен обратиться к тому, кто способен править. Не дело правителя просить, чтобы подданные ему подчинялись, если только он действительно на что-нибудь годится. И не совершит ошибки тот, кто уподобит нынешних государственных деятелей морякам, о которых мы только что говорили, а людей, которых они считают никчемными и высокопарными, уподобит подлинным кормчим.
— Это в высшей степени правильно.
— По таким причинам и в таких условиях нелегко наилучшему занятию быть в чести у занимающихся .. как раз противоположным. Всего больше и сильнее обязана философия своей дурной славой тем, кто заявляет, что это их дело — заниматься подобными вещами. Упомянутый тобой хулитель философии говорил, что большинство обратившихся к ней — это самые скверные люди, а самые порядочные здесь бесполезны, и я согласился тогда, что ты говоришь верно, — разве не так?
— Да, так.
— Но мы уже разобрали причину бесполезности порядочных людей.
— Полностью разобрали.
— Хочешь, мы разберем после этого причину неизбежной порочности большинства и по мере сил попытаемся доказать, что и здесь виновата не философия?
— Конечно, хочу.
— Так давай будем слушать и отвечать, удерживая в памяти наше исходное положение относительно природных свойств человека, необходимых, чтобы он был безупречным. Если помнишь, он прежде всего должен руководствоваться истиной, добиваться ее всевозможными средствами, а пустохвал никоим образом не может быть причастен к истинной философии.
— Да, мы так утверждали.
— Уже одно только это положение резко противоречит нынешним представлениям об этих вещах.
— Да, в высшей степени.
— Так разве не будет уместно сказать в защиту нашего взгляда, что человек, имеющий прирожденную склонность к знанию, изо всех сил устремляется к подлинному бытию? Он не останавливается на множестве вещей, лишь кажущихся существующими, но непрестанно идет вперед, и страсть его не утихает до тех пор, пока он не коснется самого существа каждой вещи тем в своей душе, чему подобает касаться таких вещей, а подобает это родственному им началу. Сблизившись посредством него и соединившись с подлинным бытием, породив ум и истину, он будет и познавать, и поистине жить, и питаться, и лишь таким образом избавится от бремени, но раньше — никак.
— Да, такая защита была бы крайне уместна.
— Что же? Будет ли уделом такого человека любовь к лжи или же, как раз наоборот, ненависть к ней?
— Ненависть.
— Раз его ведет истина, я думаю, мы никогда не скажем, что ее сопровождает хоровод зол.
— Как можно!
— Но скажем, что ее сопровождает здоровый и справедливый нрав, а вслед за ним — рассудительность.
— Верно.
— А остальной хоровод свойств человека, обладающего философским складом? Впрочем, к чему сызнова его строить — ты ведь помнишь, что в него должны входить мужество, великодушие, понятливость, память. Ты возразил мне, что всякий должен согласиться с тем, что мы говорим, оставив, однако, в стороне рассуждения и вместо того наблюдая самих тех, о ком идет речь;
всякий сказал бы также, что среди них он видит и бесполезных, и во многих случаях даже совсем негодных людей. Рассматривая причину этой их дурной славы, мы и столкнулись сейчас с вопросом, почему многие из них никчемны, и ради этого мы снова принялись разбирать природные свойства подлинных философов и были вынуждены определять их.
— Да, это так.
— Да, надо присмотреться к порче такой натуры, к тому, как она гибнет у многих, а у кого хоть что-нибудь от нее остается, тех считают пусть не дурными, но все же бесполезными. Затем надо рассмотреть свойства тех, кто им подражает и берется за их дело, —у таких натур много бывает промахов, так как они недостойны заниматься философией и это им не под силу; из-за них-то и закрепилась за философией и всеми философами повсюду та слава, о которой ты говоришь.
— А о какой порче ты упомянул?
— Попытаюсь разобрать это, если смогу. Я думаю, всякий согласится с нами, что такой человек, обладающий всем, что мы от него требуем для того, чтобы он стал совершенным философом, редко рождается среди людей — только как исключение. Или ты так не считаешь?
— Я вполне с тобой согласен.
— Таких людей мало, но зато посмотри, как много существует для них чрезвычайно пагубного.
— А что именно?
— Всякий до крайности удивится, если услышит, что каждое свойство, которое мы одобряли в подобных людях, оно-то как раз и губит душу, им обладающую, и отвлекает ее от философии: я имею в виду мужество, рассудительность, вообще все, что мы разбирали.
— Да, это странно слышать!
— А кроме того, губят и отвлекают ее и все так называемые блага: красота, богатство, телесная сила, влиятельное родство в государстве и все, что с этим связано. Вот тебе в общих чертах то, что я имею в виду.
— Понимаю, но с удовольствием ознакомился бы подробнее с твоим взглядом.
— Охвати его правильно в целом, и тебе станет вполне ясно и вовсе не странно все ранее сказанное об этом предмете.
— Как ты посоветуешь это сделать?
— Относительно всякого семени или зародыша, будь то растения или животного, мы знаем, что, лишенные подобающего им питания, климата и места, они тем больше теряют в своих свойствах, чем мощнее они сами: ведь плохое более противоположно хорошему, чем нехорошему.
— Конечно.
— Есть ведь разумное основание в том, что при чуждом ей питании самая совершенная природа становится хуже, чем посредственная.
— Да, есть.
— Так не скажем ли мы, Адимант, точно так же, что и самые одаренные души при плохом воспитании становятся особенно плохими? Или ты думаешь, что великие преступления и крайняя испорченность бывают следствием посредственности, а не того, что пылкая натура испорчена воспитанием? Слабые же натуры никогда не будут причиной ни великих благ, ни больших зол,
— Я согласен с тобой.
— Если установленная нами природа философа получит надлежащую выучку, то, развиваясь, она непременно достигнет всяческой добродетели; но если она досеяна и высажена на неподобающей почве, то выйдет как раз наоборот, разве что придет ей на помощь кто-нибудь из богов. Или и ты считаешь подобно большинству, будто лишь немногие молодые люди испорчены софистами, будто портят их некие частные лица и только о них и стоит говорить? Между тем, кто так говорит, они-то и являются величайшими софистами, в совершенстве умеющими перевоспитывать и переделывать людей на свой лад — юношей и стариков, мужчин и женщин.
— Когда же они это делают?
— Тогда, когда густой толпой заседают в народных Собраниях, либо в судах, или в театрах, в военных лагерях, наконец, на каких-нибудь иных общих сходках и с превеликим шумом частью отвергают, частью одобряют чьи-либо выступления или действия, переходя с мepy и в том и в другом; они кричат, рукоплещут, и вдобавок их брань или похвала гулким эхом отражаются от скал в том месте, где это происходит, так что шум становится вдвое сильнее. В таких условиях что, как говорится, будет, по-твоему, у юноши на сердце? И какое воспитание, полученное частным образом, Может перед этим устоять? Разве оно не будет смыто этой бранью и похвалой и унесено их потоком? Разве ре признает юноша хорошим или постыдным то же самое, что они, или не станет заниматься все тем же? Наконец, разве он не станет таким же сам?
— Это совершенно неизбежно, Сократ.
— А между тем мы еще не упоминали о величайшей необходимости.
— Какой же?
— О той, которую с помощью дела прибавляют к слову эти самые воспитатели и софисты, когда их речь не убеждает. Или ты не знаешь, что ослушника они карают лишением гражданских прав, денежными штрафами, а то и смертной казнью?
— Да, они весьма охотно прибегают к таким мерам.
— Какой же, по-твоему, иной софист или направленные против них доводы частных лиц их одолеют?
— Думаю, такого софиста нет.
— Да, нет. Даже и делать такую попытку было бы крайне безрассудно. Ведь не бывает, не бывало, да, по-моему, и не будет иного, противоположного отношения к добродетели у тех, кто получил воспитание от большинства, то есть человеческое; однако для божественного воспитания, мой друг, мы, согласно пословице, делаем исключение[212]. Надо твердо знать: если что уцелело при таком устройстве государств и все идет как следует, то своей сохранностью, скажешь ты, это все обязано божественному уделу[213] — и ты будешь прав.
— Да, мне кажется, что дело обстоит не иначе.
— Вдобавок убедись еще вот в чем...
— В чем же?
[Софисты потакают мнениям толпы]
— Каждое из этих частных лиц, взимающих плату (большинство называет их софистами и считает, будто их искусство направлено против него), преподает не что иное, как те же самые взгляды большинства и мнения, выражаемые им на собраниях, и называет это мудростью, все равно как если бы кто-нибудь, ухаживая за огромным и сильным зверем, изучил бы его нрав и желания, знал бы, с какой стороны к нему подойти, каким образом можно его трогать, в какую пору и отчего он свирепеет или успокаивается, при каких обстоятельствах привык издавать те или иные звуки и какие посторонние звуки укрощают его либо приводят в ярость: изучив все это путем обхождения с ним и длительного навыка, он называет это мудростью и, как бы составив руководство, обращается к преподаванию, ничего, по правде сказать, не зная относительно взглядов [большинства] и его вожделений — что в них прекрасно или постыдно, схорошо или дурно, справедливо или несправедливо, но обозначая перечисленное соответственно мнениям этого огромного зверя: что тому приятно, он называет благом, что тому тягостно — злом и не имеет никакого иного понятия об этом, но называет справедливым и прекрасным то, что необходимо; а насколько но существу различна природа необходимого и благого, он не видит и не способен показать это другому человеку. И раз он таков, скажи, ради Зевса, не странным ли показался бы он тебе воспитателем?
— Мне — да.
— А чем же отличается от него тот, кто мудростью считает уже и то, если он подметил, что не нравится, а что нравится собранию большинства самых различных людей — будь то в живописи, музыке или даже в политике? Если, общаясь с ними, он выставляет напоказ свои поэтические или иные произведения либо свое служение государству, он делает это большинство своим властелином сильнее, чем это вызывается необходимостью, и тогда в силу так называемой "Диомедовой нужды" [214]он выполняет то, что одобряет большинство. А действительно ли это хорошо или прекрасно — разве слышал ты когда-либо, чтобы кто-то из них отдавал себе в этом отчет и это не вызывало бы смеха?
— Думаю, что и никогда не услышу.
— Так вот, учитывая все это, припомни то, о чем говорили мы раньше: возможно ли, чтобы толпа допускала и признавала существование красоты самой по себе, а не многих красивых вещей или самой сущности каждой вещи, а не множества отдельных вещей?
— Это совсем невозможно.
[Антагонизм философа и толпы]
— Следовательно, толпе не присуще быть философом.
— Нет, не присуще.
— И значит, те, кто занимается философией, неизбежно будут вызывать ее порицание.
— Да, неизбежно.
— И порицание со стороны тех частных лиц, которые, общаясь с чернью, стремятся ей угодить.
— Исходя из этого, в чем ты усматриваешь спасение для философской натуры, чтобы ей не бросать своего занятия и достичь своей цели? Решай на основании того, о чем мы говорили раньше: мы признали, что такой натуре свойственны хорошие способности, памятливость, мужество и возвышенный образ мыслей.
— Да.
— Такой человек с малых лет будет первым среди всех, особенно если и телом он уродился таким, как душой.
— Почему бы ему и не быть!
— А его близкие и сограждане захотят найти ему применение в своих делах, когда он подрастет.
— Как же иначе?
— Значит, они будут припадать к нему с просьбами и оказывать ему почет, чтобы подольститься и заранее заручиться его могущественным покровительством.
— Да, это часто бывает.
— Что же будет делать, по-твоему, подобный человек среди таких людей, особенно если он будет принадлежать к числу граждан великого государства и будет в нем богатым и знатным, а к тому же статным и привлекательным на вид? Не появятся ли у него необычные притязания? Не станет ли он считать себя способным распоряжаться делами и эллинов, и варваров и не занесется ли он высоко, преисполнившись высокомерия и пустой самонадеянности вопреки разуму?
— Все это более чем возможно.
— Если кто-нибудь, несмотря на такое его состояние, спокойно подойдет к нему и скажет ему правду, то есть, что ума у него нет, а не мешало бы его иметь, но что поумнеть можно, если только подчинить себя этой цели — приобретению ума, легко ему будет, по-твоему, выслушать это среди стольких бед?
— Вовсе не легко.
— Если же кто-нибудь, хотя бы один человек, благодаря своей хорошей природе и близости к таким учениям склонится на сторону философии, чувствуя к ней влечение, как, должны мы ожидать, поступят в этом случае ее противники, понимая, что для них потеряна возможность использовать его как союзника? Разве не прибегнут они к любым действиям и к любым доводам, чтобы переубедить его и чтобы его наставник не имел успеха? Разве не будут они строить козни и частным образом, и в общественном порядке, привлекая его к судебной ответственности?
— Это неизбежно.
— Так может ли статься, чтобы такой человек занимался философией?
— Не очень-то!
— Видишь, мы неплохо тогда сказали, что даже сами особенности философской натуры, когда она оказывается в плохих условиях, бывают каким-то образом виной тому, что человек бросает этим заниматься; причиной бывают и так называемые блага — богатство и всякого рода обеспеченность.
— Это было правильно сказано.
— Вот в чем гибель и вот как велика, друг мой, порча лучших натур, предназначенных для благороднейшего занятия! И вообще-то подобные натуры редкость, как мы утверждаем. К их числу относятся и те люди, что причиняют величайшее зло государствам и частным лицам, и те, что творят добро, если их влечет к нему; мелкая же натура никогда не совершит ничего великого ни для частных лиц, ни для государства.
— Сущая правда.
— Когда, таким образом, от философии отпадают те люди, которым всего больше надлежит ею заниматься, она остается одинокой и незавершенной, а сами они ведут жизнь и не подобающую, и не истинную. К философии, раз она осиротела и лишилась тех, кто ей сродни, приступают уже другие лица, вовсе ее нe достойные. Они позорят ее и навлекают на нее упрек в том, за что как раз и порицают ее, по твоим словам, ее хулители, говоря, будто с ней имеют дело люди либо ничего не стоящие, либо же в большинстве своем заслуживающие всего самого худшего.
— Действительно, так об этом и говорят.
— И правильно говорят. Ведь иные людишки чуть увидят, что область эта опустела, а между тем полна громких имен и показной пышности, тотчас же, словно те, кто из темницы убегает в святилище, с радостью делают скачок прочь от ремесла к философии — особенно те, что половчее в своем ничтожном дельце. Хотя философия находится в таком положении, однако сравнительно с любым другим мастерством она все же гораздо больше в чести, что и привлекает к ней многих людей, несовершенных по своей природе: тело у них покалечено ремеслом и производством, да и души их сломлены и изнурены грубым трудом; ведь это неизбежно.
— Да, совсем неизбежно.
— А посмотреть, так чем они отличаются от разбогатевшего кузнеца, лысого и приземистого, который недавно вышел из тюрьмы, помылся в бане, приобрел себе новый плащ и нарядился — ну прямо жених? Да он и собирается жениться на дочери своего господина, воспользовавшись его бедностью и беспомощностью.
— Ничем почти не отличаются.
— Что же может родиться от таких людей? Не будет ли их потомство незаконнорожденным и негодным?
— Это неизбежно.
— Что же? Когда люди, недостойные воспитания, приближаясь к нему, ведут себя недостойно, какие, можем мы ожидать, родятся тогда намерения и мнения? Поистине они не заслуживают называться мудростью, поскольку в них нет ни подлинности, ни мысли.
— Совершенно верно.
— Остается совсем малое число людей, Адимант, достойным образом общающихся с философией[215]: это либо те, кто, подвергшись изгнанию, сохранил как человек, получивший хорошее воспитание, благородство своей натуры — а раз уж не будет гибельных влияний, он, естественно, и не бросит философии, — либо это человек великой души, родившийся в маленьком государстве: делами своего государства он презрительно пренебрежет. Обратится к философии, пожалуй, еще и небольшое число представителей других искусств: обладая хорошими природными задатками, они справедливо пренебрегут своим прежним занятием. Может удержать и такая узда, как у нашего приятеля Феага[216]: у него решительно все клонилось к тому, чтобы отпасть от философии, но присущая ему болезненность удерживает его от общественных дел. О моем собственном случае — божественном знамении[217] — не стоит и упоминать: такого, пожалуй, еще ни с кем раньше не бывало.
Все вошедшие в число этих немногих, отведав философии, узнали, какое это сладостное и блаженное достояние; они довольно видели безумие большинства, а также и то, что в государственных делах никто не совершает, можно сказать, ничего здравого и что там не найти себе союзника, чтобы с ним вместе прийти на помощь правому делу и уцелеть, — напротив, если человек, словно очутившись среди зверей, не пожелает сообща с ними творить несправедливость, ему не под силу будет управиться одному со всеми дикими своими противниками, и, прежде чем он успеет принести пользу государству или своим друзьям, он погибнет без пользы и для себя, и для других. Учтя все это, он сохраняет спокойствие и делает свое дело, словно укрывшись за стеной в непогоду. Видя, что все остальные преисполнились беззакония, он доволен, если проживет здешнюю жизнь чистым от неправды и нечестивых дел, а при исходе жизни отойдет радостно и кротко, уповая на лучшее.
— Значит, он отходит, достигнув немалого!
— Однако все же не до конца достигнув того, что он мог, так как государственный строй был для него неподходящим. При подходящем строе он и сам бы вырос и, сохранив все свое достояние, сберег бы также и общественное.
Так вот насчет философии — из-за чего у нее такая дурная слава (а между тем это несправедливо),—по-моему, уже сказано достаточно, если у тебя нет других замечаний.
— Я ничего не могу к этому добавить. Но какое из существующих теперь государственных устройств ты считаешь для нее подобающим?
[Извращенное государственное устройство губительно действует на философа]
— Нет такого. На это-то я и сетую, что ни одно из нынешних государственных устройств не достойно натуры философа. Такая натура при них извращается и меняет свой облик. Подобно тому как иноземные семена, пересаженные на чуждую им почву, теряют свою силу и приобретают свойство местных растений, так и подобные натуры в настоящее время не осуществляют своих возможностей, получая чуждый им склад. Но стоит такой натуре очутиться в государстве, превосходно устроенном, как и она сама, — вот тогда-то и обнаружится, что она и в самом деле божественна, всё же прочее — другие натуры и другие занятия — не более как человеческое.
Очевидно, после этого ты спросишь, что это за государственный строй.
— Ты не угадал. Я собирался спросить не так, а вот как: другой ли это строй или же тот самый, который мы разбирали, основывая наше государство?
— В общем это он. Ведь и тогда было сказано, что в государстве всегда должна существовать некая часть, придерживающаяся такого же взгляда, как и ты, когда как законодатель устанавливал законы.
— Да, это было сказано.
— Но не было достаточно разъяснено, так как вы, заранее охваченные страхом, решили, что рассмотрение этого вопроса будет длительным и трудным. Впрочем, и все остальное тоже совсем не легко разобрать.
— Что именно?
[Способы избежать неверного применения философии в государстве]
— Каким образом применять философию так, чтобы государство от этого не пострадало? Ведь все великое неустойчиво, а прекрасное, но пословице, действительно трудно[218].
— Однако наше доказательство лишь тогда будет доведено до конца, если и это станет очевидным.
— Препятствием будет служить не отсутствие желания, а разве что недостаток сил. Ты сейчас сам увидишь мое усердие: посмотри, как настойчиво и отважно я решаюсь сказать, что государство должно приниматься за это дело совсем противоположным образом, чем теперь.
— А как?
— В настоящее время, если кто и касается философии, так это подростки, едва вышедшие из детского возраста: прежде чем обзавестись домом и заняться делом, они, едва приступив к труднейшей части философии, бросают ее, в то же время изображая из себя знатоков; труднейшим же я нахожу в ней то, что касается доказательств. Впоследствии, если по совету других — тех, кто занимается философией, — они пожелают стать их слушателями, то считают это великой заслугой, хоть и полагают, что заниматься этим надо лишь между прочим. А к старости они, за немногими исключениями, угасают скорее, чем Гераклитово солнце[219], поскольку никогда уже не загораются снова.
— А как же надо заниматься философией?
— Совершенно иначе. Подростки и мальчики должны получать воспитание и изучать философию соответственно их юному возрасту, непрестанно заботясь своем теле, пока они растут и мужают; философии это будет в помощь. С возрастом, когда начнет совершенствоваться их душа, они должны напряженно ее упражнять. Когда же их сила иссякнет и не по плечу будут им гражданские и воинские обязанности, тогда свконец наступит для них приволье: ничем иным они не будут заниматься, разве что между прочим, коль скоро они намерены вести блаженную жизнь, а скопившись, добавить к прожитой жизни подобающий потусторонний удел.
— Правду сказать, Сократ, ты, по-моему, говоришь увлечением, однако, думаю я, большинство слушателей начиная с Фрасимаха с еще большим увлечением стали бы тебе возражать: ведь ты их ни в чем не убедил.
— Не ссорь меня с Фрасимахом; мы только что стали друзьями да и раньше не были врагами. Я не вставлю неиспробованным ни одного средства, пока мне не удастся убедить и его, и остальных или пока я не принесу им хоть какой-нибудь пользы в той их жизни, когда, вновь родившись, они опять столкнутся с подобными вопросами.
— Ты загадываешь совсем ненадолго!
— Это ничтожный срок т" сравнении с вечностью. А что большинство людей не верит словам другого, это не диво. Ведь они никогда не видали того, о чем мы сейчас говорим, — для них все это какие-то фразы, умышленно подогнанные друг к другу, а не [положения], вытекающие, как сейчас, само собой одно из другого. Да и человека, который был бы равен или подобен самой добродетели, который в пределах возможного достиг бы совершенства в деле и слове и владычествовал бы в государстве подобного рода, они никогда не видали — ни одного, ни многих таких людей. Или, думаешь ты, случалось им видеть?
— Ни в коем случае.
— Да и не довелось им, мой милый, стать довольными слушателями прекрасных и благородных рассуждений, усердно и всеми средствами доискивающихся истины ради познания и ничего общего не имеющих с чванными препирательствами ради славы или из-за соперничества в судах и при личном общении.
— Да, таких рассуждений они не слыхали.
— Вот почему, хотя мы и тогда предвидели это и этого опасались, все же, влекомые истиной, мы говорили, что ни государство, ни его строй, так же как и отдельный человек, не станут никогда совершенными, пока не случится какая-нибудь необходимость, которая заставит этих немногочисленных философов — людей вовсе не дурных, хотя их и называют теперь бесполезными, — принять на себя заботу о государстве, желают ли они того или нет (и государству придется их слушаться); или пока по какому-то божественному наитию не будут охвачены подлинной страстью к подлинной философии сыновья нынешних властителей и царей либо они сами. Считать, что какая-нибудь одна из этих двух возможностей пли они обе — дело неосуществимое, я лично не нахожу никаких оснований. Иначе нас справедливо высмеяли бы за то, что мы занимаемся пустыми пожеланиями. Разве не так?
— Да, так.
[Осуществимость идеального государства]
— Если для людей выдающихся в философии возникала когда-либо в беспредельности минувшего или существует теперь необходимость взять на себя заботу о государстве — в какой-либо варварской местности, далеко, вне нашего кругозора — или если такая необходимость возникнет впоследствии, мы готовы упорно отстаивать взгляд, что такой государственный строй был, есть и будет, коль скоро именно эта Муза оказывается владычицей государства. Осуществление такого строя вполне возможно, и о невозможном мы не говорим. А что это трудно, признаем и мы.
— И я с этим согласен.
— Но ты скажешь, что большинство с этим все-таки несогласно.
— Пожалуй.
— Милый мой, не стоит так уж винить большинство. Оно переменит свое мнение, если ты без резкостей, мягко опровергнешь дурную славу любви к познанию, покажешь, каковы, по-твоему, философы, и определишь их природу и занятие, чтобы большинство по думало, будто ты говоришь о тех, кого оно само считает философами. Если оно так взглянет на них, право же, ты скажешь, что у него составилось уже другое мнение и оно по-другому о них отзывается. Уж не думаешь ли ты, что кто-нибудь станет относиться с раздражением к тому, кто не раздражителен, и с завистью к тому, кто не завистлив? Предвосхищаю твой E ответ и скажу, что, по-моему, столь тяжелый нрав ; встречается у очень немногих людей, большинству же не свойствен.
— Успокойся, я разделяю твой взгляд.
— А согласен ли ты и с тем, что виновниками нерасположения большинства к философии бывают те посторонние лица, которые шумной ватагой вторгаются куда не следует, поносят людей, проявляя к ним враждебность, и все время позволяют себе личные выпады — иначе говоря, ведут себя совершенно неподобающим для философов образом?
— Полностью согласен.
— Между тем, Адимант, тому, кто действительно направил свою мысль на бытие, уже недосуг смотреть вниз, на человеческую суету и, борясь с людьми, преисполняться недоброжелательства и зависти. Видя и созерцая нечто стройное и вечно тождественное, не творящее несправедливости и от нее не страдающее, полное порядка и смысла, он этому подражает и как можно более ему уподобляется. Или ты думаешь, будто есть какое-то средство не подражать тому, чем восхищаешься при общении?
— Это невозможно.
— Общаясь с божественным и упорядоченным, философ также становится упорядоченным и божественным, насколько это в человеческих силах. Оклеветать же можно все на свете.
— И даже очень.
— Так вот, если у философа возникнет необходимость позаботиться о том, чтобы внести в частный и общественный быт людей то, что он там усматривает, и не ограничиваться собственным совершенствованием, думаешь ли ты, что из него выйдет плохой мастер по части рассудительности, справедливости и всей вообще добродетели, полезной народу?
— Совсем неплохой.
— Но если люди поймут, что мы говорим о нем правду, станут ли они негодовать на философов и выражать недоверие нашему утверждению, что никогда, ни в коем случае не будет процветать государство, если его не начертят художники но божественному образцу?
— Раз поймут, то уже не будут негодовать. Но о каком способе начертания ты говоришь?
— Взяв, словно доску, государство и нравы людей, они сперва очистили бы их, что совсем нелегко. Но, как ты знаешь, они с самого начала отличались бы от других тем, что не пожелали бы трогать ни частных лиц, ни государства и не стали бы вводить в государстве законы, пока не получили бы его чистым или сами не сделали бы его таким.
— Это верно.
— После этого, правда ведь, они сделают набросок государственного устройства?
— Как же иначе?
— Затем, думаю я, разрабатывая этот набросок, они пристально будут вглядываться в две вещи: в то, что но природе справедливо, прекрасно, рассудительно и так далее, и в то, каково же все это в людях. Смешивая и сочетая навыки людей, они создадут прообраз человека, определяемый тем, что уже Гомер назвал боговидным и богоподобным свойством, присущим людям[220].
— Это верно.
— И я думаю, кое-что они будут стирать, кое-что рисовать снова, пока не сделают человеческие нравы, насколько это осуществимо, угодными богу.
— Это была бы прекраснейшая картина!
— А тех, кто, по твоим словам, сомкнутым строем шел против нас, разве мы не убедили бы, что именно таков начертатель государственных устройств, которого мы им хвалили раньше, а они негодовали, что мы ему вверили государство? Если бы они послушались нас сейчас, неужели они не смягчились бы?
— Конечно, если они в здравом уме.
— Какие же у них могут быть возражения? Разве только что философы не страстные поклонники истины и бытия?
— Это было бы нелепо.
— Или что философская натура, которую мы разобрали, не родственна наивысшему благу?
— И это звучало бы так же.
— Далее. Если уж не эта, то какая другая натура, коль скоро ей найдется надлежащее применение, будет полностью добродетельной и философской? Может быть, мы скорее в состоянии это утверждать о тех натурах, что мы отвергли?
— Конечно, нет.
— Или их все еще приводят в ярость наши слова, что ни для государства, ни для граждан не будет конца несчастьям, пока владыкой государства не станет племя философов или пока не осуществится на деле тот государственный строй, который мы словесно обрисовали?
— Быть может, это их злит, хотя теперь уже меньше.
— Если ты не против, давай скажем, что они не только меньше злятся, но совсем уже стали кроткими и дали себя убедить, пусть только из стыдливости.
— Я, конечно, не против.
— Итак, будем считать, что в этом мы их убедили. Но кто же станет оспаривать следующее: ведь может лучиться, что среди потомков царей и властителей встретятся философские натуры...
— С этим не будет спорить никто.
— А раз такие натуры встречаются, так ли уж неизбежно предстоит им подвергнуться порче? Что трудно им себя охранить, это и мы признаем. Но разве бесспорно, что во все времена ни одному из всех них никогда не удалось уберечься?
— Вовсе нет.
— Между тем достаточно появиться одному такому лицу, имеющему в своем подчинении государство, и человек этот совершит все то, чему теперь не верят.
— Его одного было бы достаточно.
— Ведь если правитель будет устанавливать законы и обычаи, которые мы разбирали, не исключено, что граждане охотно станут их выполнять.
— Это вовсе не исключено.
— А разве примкнуть к нашим взглядам будет для других чем-то диковинным и невозможным?
— Я лично этого не думаю.
— Между тем мы раньше в достаточной мере, думаю я, разобрали, что предложенное нами — это наилучшее, будь оно только осуществимо.
— Да, мы разобрали это достаточно.
— А теперь у нас так выходит насчет законодательства: всего лучше, если бы осуществилось то, о чем мы говорим, и хотя это трудно, однако не невозможно.
— Выходит так.
— После того как мы насилу покончили с этим вопросом, надо сказать и об остальном. Каким образом и посредством каких наук и занятий получаются люди, на которых зиждется все государственное устройство? В каком возрасте каждый из них приступает к каждому из этих дел?
— Да, об этом надо сказать.
— Я ничего не выгадал, стараясь раньше опустить тягостный вопрос, касающийся обзаведения женами, деторождения и назначения на правительственные должности, — я знал тогда, что полная правда будет неприятна и тяжела; но все равно вышло, что необходимость рассмотрения этого вопроса сейчас нисколько не меньше. Впрочем, что касается жен и детей, это уже выполнено, а вот насчет правителей приходится приниматься за разбор как бы сызнова.
Если ты помнишь, мы говорили, что им должна быть присуща любовь к своему государству, испытанная и в радости, и в горе, и должно быть заметно, что от этого своего правила они не откажутся ни при каких трудностях, опасностях или иных превратностях. Кто здесь окажется слаб, того придется отвергнуть, но тот, кто чистым выйдет из этого испытания, словно золото из огня, того надо поставить правителем, оказывать ему особые почести и присуждать награды как при жизни, так и после кончины. Вот что примерно было сказано, когда наша беседа мимоходом коснулась этого, но тотчас же спряталась из страха возбудить то, что сейчас перед нами возникло.
— Сущая правда; я ведь помню.
— Тогда я, мой друг, не решался сказать то, что теперь решился. Осмелимся же сказать и то, что в качестве самых тщательных стражей следует ставить философов.
— Пусть это будет сказано.
[Еще о природе философа и четырех добродетелях]
— Прими во внимание, что у тебя их, естественно, будет немного: ведь природа их должна быть такой, как мы разобрали, между тем все свойства подобных натур редко встречаются вместе: большей частью они бывают разбросаны.
— Что ты имеешь в виду?
— Способность к познанию, память, остроумие, проницательность и все, что с этим связано, обычно, как ты знаешь, не встречаются все зараз, а люди по-юношески задорные и с блестящим умом не склонны всегда жить размеренно и спокойно; напротив, из-за своей живости они мечутся во все стороны, и все постоянное их покидает.
— Ты прав.
— Если же люди отличаются постоянством нрава и переменчивость им чужда, на их верность можно скорее положиться, и на войне они с трудом поддаются страху, но эти же их свойства сказываются при усвоении знаний: они неподатливы, невосприимчивы и словно находятся в оцепенении, а когда надо над чем-нибудь таким потрудиться, их одолевают сон и зевота.
— Это бывает.
— Между тем мы говорили, что человек должен в полной мере обладать и теми, и этими свойствами, иначе не стоит давать ему столь тщательное воспитание, удостаивать его почестей и вручать ему власть.
— Это верно.
— Но не находишь ли ты, что указанное сочетание редко встречается?
— Да, редко!
— Значит, надо проверять человека в трудностях, опасностях и радостях, о чем мы и говорили раньше. Кроме того, добавим сейчас то, что мы тогда пропустили: надо упражнять его во многих науках, наблюдая, способен ли он воспринять самые высокие познания или он их убоится, подобно тому как робеют люди в случае усилий иного рода.
— Это следует наблюдать. Но какие познания ты называешь высокими?
— Вероятно, ты помнишь, что, различив три вида души[221], мы сделали вывод относительно справедливости, рассудительности, мужества и мудрости, определив, что такое каждое из них.
— Если бы я не помнил, я не был бы вправе слушать дальнейшее.
— А помнишь ли ты то, что было сказано перед этим?
— Что именно?
— Мы как-то говорили, что для наилучшего рассмотрения этих свойств есть другой, более долгий путь, и, если пойти по нему, они станут вполне ясными, но уже и из ранее сказанного можно сделать нужные заключения. Последнее вы признали достаточным, и, таким образом, получились выводы, на мой взгляд, не вполне точные. А удовлетворяют ли они вас, пожалуйста, скажите сами.
— Но мне-то, — отвечал Адимант, — они показались в меру доказательными, да и остальным тоже.
— Но, дорогой мой, мера в таких вещах, если она хоть сколько-нибудь отстает от действительности, уже не будет в надлежащей степени доказательной. Ведь несовершенное не может служить мерой чего бы то ни было. Впрочем, некоторым иной раз уже и это кажется достаточным, а дальнейшие поиски излишними.
— Такое впечатление создается очень у многих из-за их равнодушия.
— Но всего менее должен этому поддаваться страж государства и законов.
— Конечно.
— Значит, мой друг, ему надо идти более долгим путем и не меньше усилий приложить к приобретению знаний, чем к гимнастическим упражнениям, иначе, как мы только что говорили, он никогда не достигнет совершенства в самом важном и наиболее ему нужном знании.
— Да разве не это самое важное и есть что-то важнее справедливости и всего того, что мы разбирали?
— Да, есть нечто более важное, и это следует рассматривать не только в общих чертах, как мы делаем теперь: напротив, там нельзя ничего упустить, все должно быть завершенным. Разве не смешно, что в вещах незначительных прилагают старания, чтобы все вышло как можно точнее и чище, а в самом важном деле будто бы и вовсе не требуется величайшая тщательность!
[Идея (эйдос) блага]
— Конечно, твое замечание ценно. Но что такое это важнейшее знание и о чем оно, как ты считаешь? Или, ты думаешь, тебя отпустят, не задав этого вопроса?
— На это я не слишком рассчитываю — пожалуйста, задавай вопросы и ты. Во всяком случае ты уже нередко об этом слышал, а сейчас ты либо не соображаешь, либо умышленно хочешь снова мне наделать хлопот своим вмешательством; последнее, думаю я, вероятнее. Ты часто уже слышал: идея блага[222] — вот, это самое важное знание; ею обусловлена пригодность и полезность справедливости и всего остального. Ты и сейчас почти наверное знал, что я именно так скажу и вдобавок, что идею эту мы недостаточно знаем. А коль скоро не знаем, то без нее, даже если у нас будет наибольшее количество сведений обо всем остальном, уверяю тебя, ничто не послужит нам на пользу: это вроде того как приобрести себе какую-нибудь вещь, не думая о благе, которое она принесет. Или, ты думаешь, главное дело в том, чтобы приобрести побольше имущества, не думая о том, хорошее ли оно? Может быть, надо понимать все что угодно, а о прекрасном и благом вовсе не помышлять?
— Клянусь Зевсом, я этого не думаю.
— Но ведь ты знаешь, что, по мнению большинства, благо состоит в удовольствии, а для людей более тонких — в понимании? [223]
— Конечно.
— И знаешь, мой Друг, те, кто держится этого взгляда, не в состоянии указать, что представляет собой это понимание, но в конце концов бывают вынуждены сказать, будто оно есть понимание того, что хорошо.
— Это просто смешно.
— Еще бы не смешно, если, упрекая нас в неведении блага, она затем говорят с нами как с ведающими это, называя благом понимание того, что хорошо: как будто нам станет понятно, что они говорят, если они будут часто произносить слово "благо".
— Сущая правда.
— Что же? Те, кто определяет благо как удовольствие, меньше ли исполнены заблуждений? Разве им не приходится признать, что бывают дурные удовольствия?
— И даже очень дурные.
— Выходит, думаю я, что они признают, будто благо и зло — одно и то же[224]. Разве нет?
— Именно так.
— Следовательно, ясно, что во всем этом очень много спорного.
— Конечно.
— Далее. Разве не ясно и это: в качестве справедливого и прекрасного многие выбрали бы то, что кажется им таким, хотя бы оно и не было им на самом деле, и соответственно действовали бы, приобретали и выражали бы свои мнения; что же касается блага, здесь никто не довольствуется обладанием мнимого, но все ищут подлинного блага, а мнимым всякий пренебрегает.
— Безусловно.
— К благу стремится любая душа и ради него все совершает; она предчувствует, что есть нечто такое, но ей трудно и не хватает сил понять, в чем же оно состоит. Она не может на это уверенно опереться, как на все остальное, вот почему она терпит неудачу и в том остальном, что могло бы быть ей на пользу. Неужели мы скажем, что и те лучшие в государстве люди, которым мы готовы все вверить, тоже должны быть в таком помрачении относительно этого важного предмета?
— Ни в коем случае.
— Я думаю, что справедливость и красота, если неизвестно, в каком отношении они суть благо, не найдут для себя достойного стража в лице человека, которому это неведомо. Да, я предвижу, что без этого никто и не может их познать.
— Ты верно предвидишь.
— Между тем государственный строй будет у нас в совершенном порядке только в том случае, если его будет блюсти страж, в этом сведущий.
— Это необходимо. Но ты-то сам, Сократ, считаешь благо знанием или удовольствием? Или чем-то иным, третьим?
— Ну что ты за человек! Мне хорошо известно, да и ты прежде явно показывал, что тебя не могут удовлетворить обычные мнения об этих вещах.
— Мне кажется, Сократ, неправильным, когда чужие взгляды умеют излагать, а свои собственные — нет, несмотря на долгие занятия в этой области.
— Как так? По-твоему, человек вправе говорить о том, чего он не знает, выдавая себя за знающего?
— Вовсе не за знающего, но пусть он изложит, что он думает, именно как свои соображения.
— Как? Разве ты не замечал, что все мнения, не основанные на знании[225], никуда не годятся? Даже лучшие из них и те слепы. Если у людей бывают какие-то верные мнения, не основанные на понимании, то чем они, по-твоему, отличаются от слепых, которые правильно идут по дороге?
— Ничем.
— Ты предпочитаешь наблюдать безобразное, туманное и неясное, хотя есть возможность узнать от других, что и ясно и красиво?
— Ради Зевса, Сократ, — воскликнул Главкон, — не отстраняйся, словно ты уже закончил рассуждение. С нас будет достаточно, если ты разберешь вопрос о благе так, как ты рассматривал справедливость, рассудительность и все остальное.
— Мне же, дорогой мой, этого тем более будет достаточно. Как бы мне только не сплоховать, а то своим нелепым усердием я вызову смех. Но, мои милые, что такое благо само по себе, это мы пока оставим в стороне, потому что, мне кажется, оно выше тех моих мнений, которых можно было достигнуть при нынешнем нашем размахе. А вот о том, что рождается от блага и чрезвычайно на него походит, я охотно поговорил бы, если вам угодно, а если нет, тогда оставим и это.
— Пожалуйста, говори, а о его родителе[226] ты нам расскажешь в дальнейшем.
— Хотелось бы мне быть в состоянии отдать вам целиком этот мой долг, а не только проценты, как теперь. Но взыщите пока хоть проценты, то есть то, что рождается от самого блага. Однако берегитесь, как бы я нечаянно не провел вас, представив неверный счет.
— Мы остережемся по мере сил. Но ты продолжай.
— Все же только заручившись вашим согласием и напомнив вам о том, что мы с вами уже говорили , раньше да и вообще нередко упоминали.
— А именно?
— Мы считаем, что есть много красивых вещей, много благ и так далее, и мы разграничиваем их с помощью определения.
— Да, мы так считаем.
— А также, что есть прекрасное само по себе, благо само по себе и так далее в отношении всех вещей, хотя мы и признаем, что их много. А что такое каждая вещь, мы уже обозначаем соответственно единой идее, одной для каждой вещи.
— Да, это так.
— И мы говорим, что те вещи можно видеть, но не мыслить, идеи же, напротив, можно мыслить, но не видеть.
— Конечно.
— Посредством чего в нас видим мы то, что мы видим?
— Посредством зрения.
— И не правда ли, посредством слуха мы слышим все то, что можно слышать, а посредством остальных чувств мы ощущаем все, что поддается ощущению?
— Ну и что же?
— Обращал ли ты внимание, до какой степени драгоценна эта способность видеть и восприниматься зрением, созданная в наших ощущениях демиургом?
— Нет, не особенно.
— А ты взгляни на это вот как: чтобы слуху слышать, а звуку звучать, требуется ли еще нечто третье, да так, что когда оно отсутствует, ничто не слышится и не звучит?
— Ничего третьего тут не нужно.
— Я думаю, что и для многих остальных ощущений — но не для всех — не требуется ничего подобного. Или ты можешь что-нибудь возразить?
— Нет, не могу.
— А разве ты не замечал, что это требуется для зрения и для всего того, что можно видеть?
— Что ты говоришь?
— Какими бы зоркими и восприимчивыми к цвету ни были у человека глаза, ты ведь знаешь, он ничего не увидит и не различит, если попытается пользоваться своим зрением без наличия чего-то третьего, специально для этого псвоим зрением без наличия чего-то третьего, специально для этого предназначенного.
— Что же это, по-твоему, такое?
— То, что ты называешь светом.
— Ты прав.
— Значит, немаловажным началом связуются друг с другом зрительное ощущение и возможность зрительно восприниматься; их связь ценнее всякой другой, потому что свет драгоценен.
— Еще бы ему не быть!
— Кого же из небесных богов можешь ты признать владычествующим над ним и чей это свет позволяет нашему зрению всего лучше видеть, а предметам— восприниматься зрением?
— Того же бога, что и ты, и все остальные. Ведь ясно, что ты спрашиваешь о Солнце.
— А не находится ли зрение по своей природе вот в каком отношении к этому богу...
— В каком?
— Зрение ни само по себе, ни в том, в чем оно, возникает, — мы называем это глазом — не есть Солнце.
— Конечно, нет.
— Однако из орудий наших ощущений оно самое солнцеобразное.
— Да, самое.
— И та способность, которой обладает зрение, уделена ему Солнцем, как некое истечение.
— Конечно.
— Значит, и Солнце не есть зрение. Хотя оно — причина зрения, но само зрение его видит.
— Да, это так.
— Вот и считай, что я утверждаю это и о том, что порождается благом, — ведь благо произвело его подобным самому себе: чем будет благо в умопостигаемой области по отношению к уму и умопостигаемому, тем в области зримого будет Солнце по отношению к зрению и зрительно постигаемым вещам.
— Как это? Разбери мне подробнее.
— Ты знаешь, когда напрягаются, чтобы разглядеть предметы, озаренные сумеречным сиянием ночи, а не те, цвет которых предстает в свете дня, зрение притупляется, и человека можно принять чуть ли не за слепого, как будто его глаза не в порядке.
— Действительно, это так.
— Между тем те же самые глаза отчетливо видят предметы, освещенные Солнцем: это показывает, что зрение в порядке.
— И что же?
— Считай, что так бывает и с душой: всякий раз, когда она устремляется туда, где сияют истина и бытие, она воспринимает их и познает, а это показывает ее разумность. Когда же она уклоняется в область смешения с мраком, возникновения и уничтожения, она тупеет, становится подверженной мнениям, меняет их так и этак, и кажется, что она лишилась ума.
— Похоже на это.
— Так вот, то, что придает познаваемым вещам истинность, а человека наделяет способностью познавать, это ты и считай идеей блага — причиной знания и познаваемости истины. Как ни прекрасно и то и другое — познание и истина, но если идею блага ты будешь считать чем-то еще более прекрасным, ты будешь прав. Как правильно было считать свет и зрение солнцеобразными, но признать их Солнцем было бы неправильно, так и здесь: правильно считать познание и истину имеющими образ блага, но признать которое-либо из них самим благом было бы неправильно: благо по его свойствам надо ценить еще больше.
— Каким же ты считаешь его несказанно прекрасным, если по твоим словам, от него зависят и познание, и истина, само же оно превосходит их своей красотой! Но конечно, ты понимаешь под этим не удовольствие?
— Не кощунствуй! Лучше вот как рассматривай его образ...
— Как?
— Солнце дает всему, что мы видим, не только возможность быть видимым, но и рождение, рост, а также питание, хотя само оно не есть становление.
— Как же иначе?
— Считай, что и познаваемые вещи могут познаваться лишь благодаря благу; оно же дает им и бытие, и существование, хотя само благо не есть существование, оно — за пределами существования, превышая его достоинством и силой.
Тут Главкон очень забавно воскликнул:
— Аполлон! Как удивительно высоко мы взобрались!
— Ты сам виноват, — сказал я, — ты заставляешь меня излагать мое мнение о благе. — И ты ни в коем случае не бросай этого; не говоря уж о другом, разбери снова это сходство с Солнцем — не пропустил ли ты чего.
— Ну, там у меня многое пропущено.
— Не оставляй в стороне даже мелочей!
— Думаю, их слишком много; впрочем, насколько это сейчас возможно, постараюсь ничего не пропустить.
— Непременно постарайся.
[Мир умопостигаемый и мир видимый]
— Так вот, считай, что есть двое владык, как мы и говорили: один —надо всеми родами и областями умопостигаемого, другой, напротив, надо всем зримым — не хочу называть это небом, чтобы тебе не казалось, будто я как-то мудрю со словами. Усвоил ты эти два вида, зримый и умопостигаемый?
— Усвоил.
— Для сравнения возьми линию, разделенную на два неравных отрезка. Каждый такой отрезок, то есть область зримого и область умопостигаемого, раздели опять таким же путем, причем область зримого ты разделишь по признаку большей или меньшей отчетливости. Тогда один из получившихся там отрезков будет содержать образы. Я называю так прежде всего тени, затем отражения в воде и в плотных, гладких и глянцевитых предметах — одним словом, все подобное этому.
— Понимаю.
— В другой раздел, сходный с этим, ты поместишь находящиеся вокруг нас живые существа, все виды растений, а также все то, что изготовляется.
— Так я это и размещу.
— И разве не согласишься ты признать такое разделение в отношении подлинности и неподлинности: как то, что мы мним, относится к тому, что мы действительно знаем, так подобное относится к уподобляемому.
— Я с этим вполне согласен.
— Рассмотри в свою очередь и разделение области умопостигаемого — по какому признаку надо будет ее делить.
— По какому же?
[Беспредпосылочное начало. Разделы умопостигаемого и видимого.]
— Один раздел умопостигаемого душа вынуждена искать на основании предпосылок, пользуясь образами из получившихся у нас тогда отрезков и устремляясь поэтому не к началу, а к завершению. Между тем другой раздел душа отыскивает, восходя от предпосылки к началу, такой предпосылки не имеющему. Без образов, какие были в первом случае, но при помощи самих идей пролагает она себе путь.[227]
— То, что ты говоришь, я недостаточно понял.
— Тебе легче будет понять, если сперва я скажу вот что: я думаю, ты знаешь, что те, кто занимается геометрией, счетом и тому подобным, предполагают в любом своем исследовании, будто им известно, что такое чет и нечет, фигуры, три вида углов и прочее в том же роде. Это они принимают за исходные положения и не считают нужным отдавать в них отчет ни себе, ни другим, словно это всякому и без того ясно. Исходя из этих положений, они разбирают уже все остальное и последовательно доводят до конца то, что было предметом их рассмотрения.
— Это-то я очень хорошо знаю.
— Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена но на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, которую они начертили. Так и во всем остальном. То же самое относится к произведениям ваяния и живописи: от них может падать тень, и возможны их отражения в воде, но сами они служат лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе как мысленным взором.
— Ты прав.
— Вот об этом виде умопостигаемого я тогда и говорил: душа в своем стремлении к нему бывает вынуждена пользоваться предпосылками и потому не восходит к его началу, так как она не в состоянии выйти за пределы предполагаемого и пользуется лишь образными подобиями, выраженными в низших вещах, особенно в тех, в которых она находит и почитает более отчетливое их выражение.
— Я понимаю: ты говоришь о том, что изучают при помощи геометрии и родственных ей приемов.
— Пойми также, что вторым разделом умопостигаемого я называю то, чего наш разум достигает с помощью диалектической способности. Свои предположения он не выдает за нечто изначальное, напротив, они для него только предположения, как таковые, то есть некие подступы и устремления к началу всего, которое уже не предположительно. Достигнув его и придерживаясь всего, с чем оно связано, он приходит затем к заключению, вовсе не пользуясь ничем чувственным, но лишь самими идеями в их взаимном отношении, и его выводы относятся только к ним.
— Я понимаю, хотя и не в достаточной степени: мне кажется, ты говоришь о сложных вещах. Однако ты хочешь установить, что бытие и все умопостигаемое при помощи диалектики можно созерцать яснее, чем то, что рассматривается с помощью только так называемых наук, которые исходят из предположений. Правда, и такие исследователи бывают вынуждены созерцать область умопостигаемого при помощи рассудка, а не посредством ощущений, но поскольку они рассматривают ее на основании своих предположений, не восходя к первоначалу, то, по-твоему, они и не могут постигнуть ее умом, хотя она вполне умопостигаема, если постичь ее первоначало. Рассудком же ты называешь, по-моему, ту способность, которая встречается у занимающихся геометрией и им подобных. Однако это еще не ум, так как рассудок[228] занимает промежуточное положение между мнением и умом.
— Ты выказал полнейшее понимание. С указаннными четырьмя отрезками соотнеси мне те четыре состояния, что возникают в душе: на высшей ступени — разум, на второй — рассудок, третье место удели вере, а последнее — уподоблению[229], и расположи их соответственно, считая, что насколько то или иное состояние причастно истине, столько же в нем и достоверности.
— Понимаю. Я согласен и расположу их так, как ты говоришь.
КНИГА СЕДЬМАЯ.
[Символ пещеры]
— После этого, — сказал я, — ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию... посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная — глянь-ка — невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.
— Это я себе представляю.
— Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.
— Странный ты рисуешь образ и странных узников!
— Подобных нам. Прежде всего разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?
— Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно?
— А предметы, которые проносят там, за стеной; Не то же ли самое происходит и с ними?
— То есть?
— Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают названия именно тому, что видят?
— Непременно так.
— Далее. Если бы в их темнице отдавалось эхом все, что бы ни произнес любой из проходящих мимо, думаешь ты, они приписали бы эти звуки чему-нибудь иному, а не проходящей тени?
— Клянусь Зевсом, я этого не думаю.
— Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени проносимых мимо предметов.
— Это совершенно неизбежно.
— Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное.
Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх — в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел. раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать! Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь?
— Конечно, он так подумает.
— А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают?
— Да, это так.
— Если же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в гору и не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве он не будет страдать и не возмутится таким насилием? А когда бы он вышел на свет, глаза его настолько были бы поражены сиянием, что он не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности которых ему теперь говорят.
— Да, так сразу он этого бы не смог.
— Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху. Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем — на отражения в воде людей и различных предметов, а уж потом — на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и, его свет.
— Несомненно.
— И наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть уже на самое Солнце, находящееся в его собственной области, и усматривать его свойства, ; не ограничиваясь наблюдением его обманчивого отражения в воде или в других, ему чуждых средах.
— Конечно, ему это станет доступно.
— И тогда уж он сделает вывод, что от Солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем в видимом пространстве и оно же каким-то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере.
— Ясно, что он придет к такому выводу после тех наблюдений.
— Так как же? Вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, разве не сочтет он блаженством перемену своего положения и разве не пожалеет своих друзей?
— И даже очень.
— А если они воздавали там какие-нибудь почести и хвалу друг другу, награждая того, кто отличался наиболее острым зрением при наблюдении текущих мимо предметов и лучше других запоминал, что обычно появлялось сперва, что после, а что и одновременно, и на этом основании предсказывал грядущее, то, как ты думаешь, жаждал бы всего этого тот, кто уже освободился от уз, и разве завидовал бы он тем, кого почитают узники и кто среди них влиятелен? Или он испы тывал бы то, о чем говорит Гомер, то есть сильнейшим образом желал бы
как поденщик, работая в поле,службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный[230]
и скорее терпеть что угодно, только бы не разделять представлений узников и не жить так, как они?
— Я-то думаю, он предпочтет вытерпеть все что угодно, чем жить так.
— Обдумай еще и вот что: если бы такой человек опять спустился туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от света Солнца?
— Конечно.
— А если бы ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, разбирая значение тех теней? Пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут — а на это потребовалось бы немалое время, — разве не казался бы он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в руки?
— Непременно убили бы.
— Так вот, дорогой мой Главкон, это уподобление следует применить ко всему, что было сказано ранее: область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца. Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, — это подъем души в область умопостигаемого. Если ты все это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль — коль скоро ты стремишься ее узнать, — а уж богу ведомо, верна ли она. Итак, вот что мне видится: в том, что познаваемо, идея блага — это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она — причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама — владычица, от которой зависят истина и разумение, и на нее должен взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в общественной жизни.
— Я согласен с тобой, насколько мне это доступно.
— Тогда будь со мной заодно еще вот в чем: не удивляйся, что пришедшие ко всему этому не хотят заниматься человеческими делами; их души всегда стремятся ввысь. Да это и естественно, поскольку соответствует нарисованной выше картине.
— Да, естественно.
[Созерцание божественных вещей (справедливости самой по себе) и вещей человеческих]
— Что же? А удивительно разве, по-твоему, если кто-нибудь, перейдя от божественных созерцании к человеческому убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным? Зрение еще не привыкло, а между тем, прежде чем он привыкнет к окружающему мраку, его заставляют выступать на суде или еще где-нибудь и сражаться по поводу теней справедливости или изображений, отбрасывающих эти тени, так что приходится спорить о них в том духе, как это воспринимают люди, никогда не видавшие самое справедливость.
— Да, в этом нет ничего удивительного.
— Всякий, кто соображает, вспомнил бы, что есть два рода нарушения зрения, то есть по двум причинам: либо когда переходят из света в темноту, либо из темноты — на свет. То же самое происходит и с душой: это можно понять, видя, что душа находится в замешательстве и не способна что-либо разглядеть. Вместо того чтобы бессмысленно смеяться, лучше понаблюдать, пришла ли эта душа из более светлой жизни и потому с непривычки омрачилась, или же, наоборот, перейдя от полного невежества к светлой жизни, она ослеплена ярким сиянием: такое ее состояние и такую жизнь можно счесть блаженством, той же, первой посочувствовать[231]. Если, однако, при взгляде на нее кого-то все-таки разбирает смех, пусть он меньше смеется над ней, чем над той, что явилась сверху, из света.
— Ты очень правильно говоришь.
— Раз это верно, вот как должны мы думать об этих душах: просвещенность — это совсем не то, что утверждают о ней некоторые лица, заявляющие, будто в душе у человека нет знания и они его туда вкладывают, вроде того как вложили бы в слепые глаза зрение.
— Верно, они так утверждают.
— А это наше рассуждение показывает, что у каждого в душе есть такая способность; есть у души и орудие, помогающее каждому обучиться. Но .как глазу невозможно повернуться от мрака к свету иначе чем вместе со всем телом, так же нужно отвратиться всей душой ото всего становящегося: тогда способность человека к познанию сможет выдержать созерцание бытия и того, что в нем всего ярче, а это, как мы утверждаем, и есть благо. Не правда ли?
— Да.
[Искусство обращения человека к созерцанию идей (эйдосов)]
— Как раз здесь и могло бы проявиться искусство обращения — каким образом всего легче и действеннее можно обратить человека: это вовсе не значит вложить в него способность видеть — она у него уже имеется, но неверно направлена, и он смотрит не туда, куда надо. Вот здесь-то и надо приложить силы.
— Видимо, так.
— Некоторые положительные свойства, относимые к душе, очень близки, пожалуй, к таким же свойствам тела: в самом деле, у человека сперва их может и не быть, они развиваются позднее путем упражнения и входят в привычку. Но способность понимания, как видно, гораздо более божественного происхождения; она никогда не теряет своей силы, но в зависимости от направленности бывает то полезной и пригодной, то непригодной и даже вредной. Разве ты не замечал у тех, кого называют хотя и дурными людьми, но умными, как проницательна их душонка и как они насквозь видят то, что им надо? Значит, зрение у них неплохое, но оно вынуждено служить их порочности, и, чем острее они видят, тем больше совершают зла.
— Конечно, я это замечал.
— Однако если сразу же, еще в детстве пресечь природные наклонности такой натуры, которые, словно свинцовые грузила, влекут ее к чревоугодию, лакомству и различным другим наслаждениям и направляют взор души вниз, то, освободившись от всего этого, душа обратилась бы к истине, и те же самые люди стали бы различать там все так же остро, как теперь в том, на что направлен их взор. Это естественно.
[Роль этого искусства в управлении государством]
— Что же? А разве естественно и неизбежно не вытекает из сказанного раньше следующее: для управления государством не годятся как люди непросвещенные и не сведущие в Истине, так и те, кому всю жизнь предоставлено заниматься самоусовершенствованием, — первые потому, что в их жизни нет единой цели, стремясь к которой они должны были бы действовать, что бы они ни совершали в частной или общественной жизни, а вторые — потому, что по доброй воле они не станут действовать, полагая, что уже при жизни переселились на Острова блаженных[232].
— Это верно.
— Раз мы — основатели государства, нашим делом будет заставлять лучшие натуры учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему восхождение; но когда, высоко поднявшись, они в достаточной мере его узрят, мы не позволим им того, что в наше время им разрешается.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы не позволим им оставаться там, на вершине, из нежелания спуститься снова к тем узникам[233], и, худо ли бедно ли, они должны будут разделить с ними труды их и почести.
— Выходит, мы будем несправедливы к этим выдающимся людям и из-за нас они будут жить хуже, чем могли бы.
— Ты опять забыл, мой друг, что закон ставит своей целью не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех Граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно Полезны в той мере, в какой они вообще могут быть полезны для всего общества. Выдающихся людей он включает в государство не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства.
— Правда, я позабыл об этом.
— Заметь Главкон, что мы не будем несправедливы к тем, кто становится у нас философами, напротив, мы предъявим к ним лишь справедливое требование, заставляя их заботиться о других и стоять на страже их интересов. Мы окажем им так: "Во всех других государствах люди, обратившиеся к философии, вправе не принимать участия в государственных делах, потому что люди сделались такими сами собой, вопреки государственному строю, а то, что вырастает само собой, никому не обязано своим питанием, и там не может возникнуть желание возместить по нему расходы. А вас родили мы, для вас же самих и для остальных граждан, подобно тому как у пчел среди их роя бывают вожди и цари. Вы воспитаны лучше и совершеннее, чем те философы, и более их способны заниматься и тем и другим. Поэтому вы должны, каждый в свой черед, спускаться в обитель прочих людей и привыкать созерцать темные стороны жизни. Привыкнув, вы в тысячу раз лучше, чем живущие там, разглядите и распознаете, что представляет собой каждая тень и образ чего она есть, так как вы уже раньше лицезрели правду относительно всего прекрасного, справедливого и доброго. Тогда государство будет у нас с вами устроено уже наяву, а не во сне, как это происходит сейчас в большинстве государств, где идут междоусобные д войны и призрачные сражения за власть, — будто это какое-то великое благо. По правде же дело обстоит вот как: где всего менее стремятся к власти те, кому предстоит править, там государство управляется лучше всего и распри отсутствуют полностью; совсем иначе бывает в государстве, где правящие настроены противоположным образом.
— Безусловно.
— Но ты думаешь, что наши питомцы, слыша это, выйдут из нашего повиновения и не пожелают трудиться, каждый в свой черед, вместе с гражданами, а предпочтут все время пребывать друг с другом в области чистого [бытия]? [234]
— Этого не может быть, потому что мы обращаемся к людям справедливым с нашим справедливым требованием. Но во всяком случае каждый из них пойдет управлять только потому, что это необходимо — в полную противоположность современным правителям в любом государстве.
— Так уж обстоит дело, дорогой мой. Если ты найдешь для тех, кому предстоит править, лучший образ жизни, чем обладание властью, тогда у тебя может осуществиться государство с хорошим государственным строем. Ведь только в таком государстве будут править те, кто на самом деле богат, — не золотом, а тем, чем должен быть богат счастливый: добродетельной и разумной жизнью. Если же бедные и неимущие добиваются доступа к общественным благам, рассчитывая урвать себе оттуда кусок, тогда не быть добру: власть становится чем-то таким, что можно оспаривать, и подобного рода домашняя, внутренняя война губит и участвующих в ней, и остальных граждан.
— Совершенно верно.
— А можешь ты назвать какой-нибудь еще образ жизни, выражающий презрение к государственным должностям, кроме того, что посвящен истинной философии?
— Клянусь Зевсом, нет.
— Однако не следует, чтобы к власти приходили те, кто прямо-таки в нее влюблен. А то с ними будут сражаться соперники в этой любви.
— Несомненно.
— Кого же иного заставишь ты встать на страже государства, как не тех, кто вполне сведущ в деле наилучшего государственного правления, а вместе с тем имеет и другие достоинства и ведет жизнь более добродетельную, чем ведут государственные деятели?
— Никого.
— Хочешь, рассмотрим, каким образом получаются такие люди и с помощью чего можно вывести их наверх, к свету, подобно тому, как, по преданию, некоторые поднялись из Аида к богам?
— Очень хочу!
— Но ведь это не то же самое, что перевернуть черепок[235]; тут надо душу повернуть от некоего сумеречного дня к истинному дню бытия: такое восхождение мы, верно, назовем стремлением к мудрости,
— Конечно.
— Не следует ли нам рассмотреть, какого рода познание обладает этой возможностью?
— Да, это надо сделать.
[Разделы наук, направленных на познание чистого бытия]
— Так какое же познание, Главкон, могло бы увлечь душу от становления к бытию? Но чуть только я задал этот вопрос, мне вот что пришло на ум: разве мы не говорили, что [будущие философы] непременно должны в свои юные годы основательно знакомиться с военным делом?
— Говорили.
— Значит, то познание, которое мы ищем, должно дополняться еще и этим.
— То есть чем?
— Оно не должно быть бесполезным для воинов.
— Конечно, не должно, если только это возможно.
— Как мы уже говорили раньше, их воспитанию служат у нас гимнастические упражнения и мусическое искусство.
— Да, это у нас уже было.
— Между тем гимнастика направлена на то, что может как возникать, так и исчезать, — ведь от нее зависит, прибавляется ли или убавляется крепость тела.
— Понятно.
— А ведь это совсем не то, искомое, познание.
— Нет, не то.
— Но быть может, таково мусическое искусство, которое мы разобрали раньше?
— Но именно оно, если ты помнишь, служило как бы противовесом гимнастике; ведь оно воспитывает нравы стражей: гармония делает их уравновешенными, хоть и не сообщает им знания, а ритм сообщает их действиям последовательность. В речах их также оказываются родственные этим свойства мусического искусства, будь то в произведениях вымышленных или более близких к правде. Но познания, ведущего к тому благу, которое ты теперь ищешь, в мусическом искусстве нет вовсе.
— Ты очень точно напомнил мне: действительно, ничего такого в нем нет, как мы говорили. Но, милый Главкон, в чем могло бы оно содержаться? Ведь все искусства оказались грубоватыми.
— Конечно. Какое же еще остается познание, если отпадают и мусическое искусство, и гимнастика, и все остальные искусства?
— Погоди-ка. Если кроме них мы уже ничем не располагаем, давай возьмем то, что распространяется на них всех.
— Что же это такое?
— Да то общее, чем пользуется любое искусство, а также рассудок и знания; то, что каждый человек должен узнать прежде всего.
— Что же это?
[Счет и число как один из разделов познания чистого бытия]
— Да пустяк: надо различать, что такое один, два и три. В общем я называю это числом и счетом. Разве дело не так обстоит, что любое искусство и знание вынуждено приобщаться к нему?
— Да, именно так.
— А военное дело?
— И для него это совершенно неизбежно.
— Между тем в трагедиях Паламед всякий раз делает так, что Агамемнон оказывается полководцем, вызывающим всеобщий смех. Ведь Паламед — изобретатель чисел — говорит там про себя (обратил ли ты на это внимание?), что это именно он распределил по отрядам войско под Илионом, произвел подсчет кораблей и всего прочего, как будто до того они не были сосчитаны, — видно, Агамемнон не знал даже, сколько у него самого ног, раз он не умел считать! [236]Каким уж там полководцем может он быть, по-твоему?
— Нелепым, если только это действительно было так.
— Признаем ли мы необходимой для полководца эту науку, то есть чтобы он умел вычислять и считать?
— Это крайне необходимо, если он хочет хоть что-нибудь понимать в воинском деле, более того, если он вообще хочет быть человеком.
— Но замечаешь ли ты в этой науке то же, что и я?
— А именно?
— По своей природе она относится, пожалуй, к тому, что ведет человека к размышлению, то есть к тому, что мы с тобой ищем, но только никто не пользуется ею действительно как наукой, увлекающей нас к бытию.
— Что ты имеешь в виду?
— Попытаюсь объяснить свою мысль. Но как я для самого себя устанавливаю различие между тем, что ведет нас к предмету нашего обсуждения, а что нет, это ты посмотри вместе со мной, говоря прямо, с чем ты согласен, а с чем нет, чтобы мы могли таким образом яснее разглядеть, верны ли мои догадки.
— Так указывай же мне путь.
— Я указываю, а ты смотри. Кое-что в наших восприятиях не побуждает наше мышление к дальнейшему исследованию, потому что достаточно определяется самим ощущением; но кое-что решительно требует такого исследования, поскольку ощущение не дает ничего надежного.
— Ясно, что ты говоришь о предметах, видных издалека, как бы в смутной дымке.
— Не очень-то ты схватил мою мысль!
— Но о чем же ты говоришь?
— Не побуждает к исследованию то, что не вызывает одновременно противоположного ощущения, а то, что вызывает такое ощущение, я считаю побуждающим к исследованию, поскольку ощущение обнаруживает одно нисколько не больше, чем другое, ему противоположное, все равно, относится ли это ощущение к предметам, находящимся вблизи или к далеким. Ты поймешь это яснее на следующем примере: вот, скажем, три пальца — мизинец, указательный и средний...
— Ну, да.
— Считай, что я говорю о них как о предметах, рассматриваемых вблизи, но обрати здесь внимание вот на что...
— На что же?
— Каждый из них одинаково является пальцем — в этом отношении между ними нет никакой разницы, все равно, смотришь ли на его середину или край, белый ли он или черный, толстый или тонкий и так далее. Во всем этом душа большинства людей не бывает вынуждена обращаться к мышлению с вопросом: "А что это собственно такое—палец?", потому что зрение никогда не показывало ей, что палец одновременно есть и нечто противоположное пальцу.
— Конечно, не показывало.
— Так что здесь это, естественно, не побуждает к размышлению и не вызывает его.
— Естественно.
— Далее. А большую или меньшую величину пальцев разве можно в достаточной мере определить на глаз и разве для зрения безразлично, какой палец находится посредине, а какой с краю? А на ощупь можно ли в точности определить, толстый ли палец, тонкий ли, мягкий или жесткий? Да и остальные ощущения разве не слабо обнаруживают все это? С каждым из них не так ли бывает: ощущение, назначенное определять жесткость, вынуждено приняться и за определение мягкости и потому извещает душу, что одна и та же вещь ощущается им и как жесткая, и как мягкая.
— Да, так бывает.
— В подобных случаях душа в свою очередь недоумевает, что обозначено этим ощущением как жесткое, когда та же самая вещь названа им мягкой. То же самое и при ощущении легкого и тяжелого: душа не понимает, легкая это вещь или тяжелая, если восприятие обозначает тяжелое как легкое, а легкое как тяжелое.
— Такие сообщения странны для души и нуждаются в рассмотрении.
[Рассуждение и размышление как путь познания чистого бытия]
— Естественно, что при таких обстоятельствах душа привлекает себе на помощь рассуждение и размышление и прежде всего пытается разобраться, об одном ли предмете или о двух разных предметах сообщает ей в том или ином случае ощущение.
— Как же иначе?
— И если выяснится, что это два предмета, то каждый из них окажется и иным, и одним и тем же.
— Да.
— Если каждый из них один, а вместе их два, то эти два будут в мышлении разделены, ибо, если два не разделены, они мыслятся уже не как два, а как одно.
— Верно.
— Ведь зрение, утверждаем мы, воспринимает большое и малое не раздельно, а как нечто слитное, не правда ли?
— Да.
— Для выяснения этого мышление в свою очередь вынуждено рассмотреть большое и малое, но не в их слитности, а в их раздельности: тут полная противоположность зрению.
— Это верно.
— Так вот не из-за этого ли и возникает у нас прежде всего вопрос: что же это собственно такое — большое и малое?
— Именно из-за этого.
— И таким образом, одно мы называем умопостигаемым, а другое — зримым.
— Совершенно верно.
— Так вот как раз это я и пытался теперь сказать:
кое-что побуждает рассудок к деятельности, а кое-что — нет. То, что воздействует на ощущения одновременно со своей противоположностью, я определил как побуждающее, а что таким образом не воздействует, то и не будит мысль.
— Теперь я уже понял, и мне тоже кажется, что это так.
— Далее. К какому из этих двух разрядов относятся единица и число?
— Не соображу.
— А ты сделай вывод из сказанного ранее. Если нечто единичное достаточно хорошо постигается само по себе, будь то зрением, будь то каким-либо иным чувством, то не возникает стремления выяснить его сущность, как я это показал на примере с пальцем. Если же в нем постоянно обнаруживается и какая-то противоположность, так что оно оказывается единицей не более чем ее противоположностью, тогда требуется уже какое-либо суждение: в этом случае душа вынуждена недоумевать, искать, будоражить в самой себе мысль и задавать себе вопрос, что же это такое — единица сама по себе? Таким-то образом познание этой единицы вело бы и побуждало к созерцанию бытия[237].
[Созерцание тождественного]
— Но конечно, не меньше это наблюдается и в том случае, когда мы созерцаем тождественное: одно и то же мы видим и как единое, и как бесконечное множество.
— Раз так бывает с единицей, не то же ли самое и со всяким числом вообще?
— Как же иначе?
— Но ведь арифметика и счет целиком касаются числа?
— Конечно.
— И оказывается, что как раз они-то и ведут к истине.
— Да к тому же превосходным образом.
— Значит, они принадлежат к тем познаниям, которые мы искали. Воину необходимо их усвоить для войскового строя, а философу — для постижения сущности, всякий раз как он вынырнет из области становящегося, иначе ему никогда не стать мыслителем.
— Это так.
— А ведь наш страж — он и воин, и философ.
— Так что же?
[Обращение души от становления к истинному бытию. Искусство счета]
— Эта наука, Главкон, подходит для того, чтобы установить закон и убе дить всех, кто собирается занять высшие должности в государстве, обратиться к искусству счета, причем заниматься им они должны будут не как попало, а до тех пор, пока не придут с помощью самого мышления к созерцанию природы чисел — не ради купли-продажи, о чем заботятся купцы и торговцы, но для военных целей и чтобы облегчить самой душе ее обращение от становления к истинному бытию.
— Прекрасно сказано!
— Действительно, теперь, после разбора искусства счета, я понимаю, как оно тонко и во многом полезно нам для нашей цели, если занимаются им ради познания, а не по-торгашески.
— А чем именно оно полезно?
— Да тем, о чем мы только что говорили: оно усиленно влечет душу ввысь и заставляет рассуждать о числах самих по себе, ни в коем случае не допуская, чтобы кто-нибудь подменял их имеющими число видимыми и осязаемыми телами. Ты ведь знаешь, что те, кто силен в этой науке, осмеют и отвергнут попытку мысленно разделить самое единицу, но если ты все-таки ее раздробишь, они снова умножат части, боясь, как бы единица оказалась не единицей, а многими долями одного.
— Ты совершенно прав.
— Как ты думаешь, Главкон, если спросить их: "Достойнейшие люди, о каких числах вы рассуждаете? Не о тех ли, в которых единица действительно такова, какой вы ее считаете, — то есть всякая единица равна всякой единице, ничуть от нее не отличается и не имеет в себе никаких частей?" — как ты думаешь, что они ответят?
— Да, по-моему, что они говорят о таких числах, которые допустимо лишь мыслить, а иначе с ними никак нельзя обращаться[238].
— Вот ты и видишь, мой друг, что нам и в самом деле необходима эта наука, раз оказывается, что она заставляет душу пользоваться самим мышлением ради самой истины.
— И как умело она это делает!
— Что же? Приходилось ли тебе наблюдать, как люди с природными способностями к счету бывают восприимчивы, можно сказать, ко всем наукам? Даже все те, кто туго соображает, если они обучаются этому и упражняются, то хотя бы они не извлекали из этого для себя никакой иной пользы, все же становятся более восприимчивыми, чем были раньше.
— Да, это так.
— Право, я думаю, ты нелегко и немного найдешь таких предметов, которые представляли бы для обучающегося, даже усердного, больше трудностей, чем этот.
— Конечно, не найду.
— И ради всего этого нельзя оставлять в стороне такую науку, напротив, именно с ее помощью надо воспитывать людей, имеющих прекрасные природные задатки.
— Я с тобой согласен.
— Стало быть, пусть это будет первым нашим допущением. Рассмотрим же и второе, связанное, впрочем, с первым: подходит ли нам это?
— Что именно? Или ты говоришь о геометрии?
— Да, именно.
[Геометрия]
— Поскольку она применяется в военном деле, ясно, что подходит. При устройстве лагерей, занятии местностей, стягивании и развертывании войск и разных других военных построениях как во время сражения, так и в походах, конечно, скажется разница между знатоком геометрии и тем, кто ее не знает.
— Но для этого было бы достаточно какой-то незначительной части геометрии и счета. Надо, однако, рассмотреть преобладающую ее часть, имеющую более широкое применение: направлена ли она к нашей цели, помогает ли она нам созерцать идею блага? Да, помогает, отвечаем мы, душе человека обратиться к той области, в которой заключено величайшее блаженство бытия — а ведь это-то ей и должно увидеть любым способом.
— Ты прав.
— Значит, если геометрия заставляет созерцать бытие, она нам годится, если же становление — тогда нет.
— Действительно, мы так утверждаем.
— Но кто хоть немного знает толк в геометрии, не будет оспаривать, что наука эта полностью противоположна тем словесным выражениям, которые в ходу у занимающихся ею.
— То есть?
— Они выражаются как-то очень забавно и принужденно. Словно они заняты практическим делом и имеют в виду интересы этого дела, они употребляют выражения "построим" четырехугольник, "проведем" линию, "произведем наложение" и так далее: все это так и сыплется из их уст. А между тем все это наука, которой занимаются ради познания.
— Разумеется.
— Не оговорить ли нам еще вот что...
— А именно?
— Это наука, которой занимаются ради познания (вечного бытия, а не того, что возникает и гибнет.
— Хорошая оговорка: действительно, геометрия — это познание вечного бытия.
— Значит, она влечет душу к истине и воздействует на философскую мысль, стремя ее ввысь, между тем как теперь она у нас низменна вопреки должному.
— Да, геометрия очень даже на это воздействует.
— Значит, надо по возможности строже предписать, чтобы граждане Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию: ведь немаловажно даже побочное ее применение.
— Какое?
— То, о чем ты говорил, — в военном деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между человеком причастным к геометрии и непричастным.
— Бесконечная, клянусь Зевсом! — Так примем это как второй, предмет изучения для наших юношей? [239]
— Примем.
[Астрономия]
— Что же? Третьим предметом будет у нас астрономия, как по-твоему?
— По-моему, да, потому что внимательные наблюдения за сменой времен года, месяцев и лет пригодны не только для земледелия и мореплавания, но не меньше и для руководства военными действиями.
— Это у тебя приятная черта: ты, видно, боишься, как бы большинству не показалось, будто ты предписываешь бесполезные науки. Между тем вот что очень важно, хотя поверить этому трудно: в науках очищается и вновь оживает некое орудие души каждого человека, которое другие занятия губят и делают слепым, а между тем сохранить его в целости более ценно, чем иметь тысячу глаз, — ведь только при его помощи можно увидеть истину. Кто с этим согласен, тот решит, что ты говоришь удивительно хорошо, а кто этого никак не ощущает, тот, естественно, будет думать, будто ты несешь вздор, от которого, по их мнению, нет никакой пользы и нет в нем ничего заслуживающего упоминания. Так вот, ты сразу же учти, с каким из этих двух разрядов людей ты беседуешь. Или, может быть, ни с тем ни с другим, но главным образом ради себя самого берешься ты за исследования? Но и тогда ты не должен иметь ничего против, если кто-нибудь другой сумеет извлечь из них для себя пользу.
— Чаще всего я люблю рассуждать вот так, посредством вопросов и ответов, но для самого себя.
— В таком случае дай задний ход[240], потому что мы сейчас неверно назначили следующий после геометрии предмет.
— В чем же мы ошиблись?
— После плоскостей мы взялись за твердые тела, находящиеся в круговращении, а надо бы раньше изучить их самих по себе[241] — ведь правильнее было бы после второго измерения рассмотреть третье: оно касается измерения кубов и всего того, что имеет глубину[242].
— Это так, Сократ, но здесь, кажется, ничего еще не открыли.
— Причина тут двоякая: нет такого государства, .где наука эта была бы в почете, а исследуют ее слабо, так как она трудна. Исследователи нуждаются в руководителе: без него им не сделать открытий. Прежде всего трудно ожидать, чтобы такой руководитель появился, а если даже он и появится, то при нынешнем . положении вещей те, кто исследует эти вещи, не .стали бы его слушать, так как они слишком высокого мнения о себе. Если бы все государство в целом уважало такие занятия и содействовало им, исследователи подчинились бы, и их непрерывные усиленные поиски раскрыли бы свойства изучаемого предмета. Ведь даже и теперь, когда большинство не оказывает почета этим занятиям и препятствует им, да и сами исследователи не отдают себе отчета в их полезности, они все же вопреки всему этому развиваются, настолько они привлекательны. Поэтому не удивительно, что наука эта появилась на свет.
— Действительно, в ней очень много привлекательного. Но скажи мне яснее о том, что ты только что говорил: изучение всего плоскостного ты отнес к геометрии?
— Да.
— А после нее ты взялся за астрономию, но потом отступился.
— Я так спешил поскорее все разобрать, что от этого все получилось медленнее. Далее по порядку шла наука об измерении глубины, но так как с ее изучением дело обстоит до смешного плохо, я перескочил через нее и после геометрии заговорил об астрономии, то есть о вращении тел, имеющих глубину.
— Ты правильно говоришь.
— Итак, четвертым предметом познания мы назовем астрономию — в настоящее время она как-то забыта, но она воспрянет, если ею займется государство.
— Естественно. Ты недавно упрекнул меня, Сократ, в том, что моя похвала астрономии была пошлой, — так вот, теперь я произнесу ей похвалу в твоем духе: ведь, по-моему, всякому ясно, что она заставляет душу взирать ввысь и ведет ее туда, прочь ото всего здешнего.
— Возможно, что всякому это ясно, кроме меня, — мне-то кажется, что это не так.
— А как же?
— Если заниматься астрономией таким образом, как те, кто возводит ее до степени философии, то она даже слишком обращает наши взоры вниз.
— Что ты имеешь в виду?
— Ты великолепно, по-моему, сам про себя решил, что такое наука о вышнем. Пожалуй, ты еще скажешь, будто если кто-нибудь, запрокинув голову, разглядывает узоры на потолке и при этом кое-что распознает, то он видит это при помощи мышления, а не глазами. Возможно, ты думаешь правильно, — я-то ведь простоват и потому не могу считать, что взирать ввысь нашу душу заставляет какая-либо иная наука, кроме той, что изучает бытие и незримое. Глядит ли кто, разинув рот, вверх или же, прищурившись, вниз, когда пытается с помощью ощущений что-либо распознать, все равно, утверждаю я, он никогда этого не постигнет, потому что для подобного рода вещей не существует познания и человек при этом смотрит не вверх, а вниз, хотя бы он и лежал ничком на земле или умел плавать на спине в море.
— Да, поделом мне досталось! Ты прав. Но как, по-твоему, следует изучать астрономию в отличие от того, что делают теперь? В чем польза ее изучения для нашей цели?
— А вот как. Эти узоры на небе[243], украшающие область видимого, надо признать самыми прекрасными и совершенными из подобного рода вещей, но все же они сильно уступают вещам истинным с их перемещениями друг относительно друга, происходящими с подлинной быстротой и медленностью, в истинном количестве и всевозможных истинных формах, причем перемещается всё содержимое. Это постигается разумом и рассудком, но не зрением. Или, по-твоему, именно им?
— Ни в коем случае.
— Значит, небесным узором надо пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия, подобно тому как если бы нам подвернулись чертежи Дедала[244] или какого-нибудь иного мастера либо художника, отлично и старательно вычерченные. Кто сведущ в геометрии, тот, взглянув на них, нашел бы прекрасным их выполнение, но было бы смешно их всерьез рассматривать как источник истинного познания равенства, удвоения или каких-либо иных отношений.
— Еще бы не смешно!
— А разве, по-твоему, не был бы убежден в этом и подлинный астроном, глядя на круговращение звезд? Он нашел бы, что все это устроено как нельзя более прекрасно — ведь так создал демиург и небо и все, что на небе: соотношение ночи и дня, их отношение к месяцу, а месяца — к году, звезд — ко всему этому и друг к другу. Но он, конечно, будет считать нелепым того человека, который полагает, что все это всегда происходит одинаково и ни в чем не бывает никаких отклонений, причем всячески старается добиться здесь истины, между тем как небесные светила имеют тело и воспринимаются с помощью зрения.
— Я согласен с твоими доводами.
— Значит, мы будем изучать астрономию так же, как геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне, раз мы хотим сдействительно освоить астрономию и использовать еще неиспользованное разумное по своей природе начало нашей души.
— Ты намного осложняешь задачу астрономии в сравнении с тем, как ее теперь изучают.
— Я думаю, что и остальные наши предписания будут в таком же роде, если от нас, как от законодателей, ожидается какой-либо толк. Но можешь ли ты напомнить еще о какой-нибудь из подходящих наук?
— Сейчас, так сразу, не могу.
— Я думаю, что движение бывает не одного вида, а нескольких. Указать все их сумеет, быть может, знаток, но и нам представляются два вида...
— Какой же?
— Кроме указанного, еще и другой, ему соответствующий.
— Какой же это?
[Музыка]
— Пожалуй, как глаза наши устремлены к астрономии, так уши — к движению стройных созвучий: эти две науки — словно родные сестры; по крайней мере так утверждают пифагорейцы, и мы с тобой, Главкон, согласимся с ними[245]. Поступим мы так?
— Непременно.
— Предмет это сложный, поэтому мы расспросим их, как они все это объясняют — может быть, они и еще кое-что добавят. Но что бы там ни было, мы будем настаивать на своем.
— А именно?
— Те, кого мы воспитываем, пусть даже не пытаются изучать что-нибудь несовершенное и направленное не к той цели, к которой всегда должно быть направлено все, как мы только что говорили по поводу астрономии. Разве ты не знаешь, что и в отношении гармонии повторяется та же ошибка? Так же как астрономы, люди трудятся там бесплодно: они измеряют и сравнивают воспринимаемые на слух созвучия и звуки.
— Клянусь богами, у них это выходит забавно: что-то они называют "уплотнением" и настораживают уши, словно ловят звуки голоса из соседнего дома; одни говорят, что различают какой-то отзвук посреди, между двумя звуками и что как раз тут находится наименьший промежуток, который надо взять за основу для измерений; другие спорят с ними, уверяя, что здесь нет разницы в звуках, но и те и другие ценят уши выше ума.
— Ты говоришь о тех добрых людях, что не дают струнам покоя и подвергают их пытке, накручивая на колки. Чтобы не затягивать все это, говоря об ударах плектром, о том, как винят струны, отвергают их или кичатся ими, я прерву изображение и скажу, что имел в виду ответы не этих людей, а пифагорейцев, которых мы только что решили расспросить о гармонии. Ведь они поступают совершенно так же, как астрономы: они ищут числа в воспринимаемых на слух созвучиях, но не подымаются до рассмотрения общих вопросов и не выясняют, какие числа созвучны, а какие — нет и почему[246].
— Чудесное это было бы дело — то, о чем ты говоришь!
— Да, действительно полезное для исследования красоты и блага, иначе бесполезно и стараться.
— Безусловно.
[Диалектический метод]
— Я по крайней мере думаю, что если изучение всех разобранных нами предметов доходит до установления их общности и родства и приводит к выводу относительно того, в каком именно отношении они друг к другу близки, то оно будет способствовать достижению поставленной нами цели, так что труд этот окажется небесполезным. В противном же случае он бесполезен.
— Мне тоже так сдается. Но ты говоришь об очень сложном деле, Сократ.
— Ты разумеешь вводную часть или что-нибудь другое? Разве мы не знаем, что все это лишь вступление к тому напеву, который надо усвоить? Ведь не считаешь же ты, что кто в этом силен, тот и искусный диалектик?
— Конечно, нет, клянусь Зевсом! Разве что очень немногие из тех, кого я встречал.
— А кто не в состоянии привести разумный довод или его воспринять, тот никогда не будет знать ничего Из необходимых, по нашему мнению, знаний.
— Да, не иначе.
— Так вот, Главкон, это и есть тот самый напев, который выводит диалектика. Он умопостигаем, а между тем зрительная способность хотела бы его воспроизвести; но ведь ее попытки что-либо разглядеть обращены, как мы говорили, лишь на животных, как таковых, на звезды, как таковые, наконец, на Солнце, как таковое. Когда же кто-нибудь делает попытку рассуждать, он, минуя ощущения, посредством одного лишь разума, устремляется к сущности любого предмета и не отступает, пока при помощи самого мышления не постигнет сущности блага. Так он оказывается на самой вершине умопостигаемого, подобно тому как другой взошел на вершину зримого.
— Совершенно верно.
— Так что же? Не назовешь ли ты этот путь диалектическим?
— И дальше?
— Это будет освобождением от оков, поворотом от теней к образам и свету, подъемом из подземелья к Солнцу. Если же и тогда будет невозможно глядеть на живые существа, растения и на Солнце, все же лучше смотреть на божественные отражения в воде и на тени сущего, чем на тени образов, созданные источником света, который сам не более как тень в сравнении с Солнцем. Взятое в целом, занятие теми науками, о которых мы говорили, дает эту возможность и ведет прекраснейшее начало нашей души ввысь, к созерцанию самого совершенного в существующем, подобно тому как в первом случае самое отчетливое [из ощущений], свойственных нашему телу, направлено на самое яркое в теловидной и зримой области.
— Я допускаю, что это так, хотя допустить это мне кажется очень трудным; с другой стороны, трудно это и не принять. Впрочем (ведь не только сейчас об этом речь, придется еще не раз к этому возвращаться), допустив, что дело обстоит так, как сейчас было сказано, давал перейдем к самому напеву и разберем его таким образом, как мы разбирали это вступление.
Скажи, чем отличается эта способность рассуждать, из каких видов она состоит и каковы ведущие к ней пути? Они, видимо, приводят к цели, достижение которой было бы словно отдохновением для путника и завершением его странствий.
— Милый мой Главкон, у тебя пока еще не хватит сил следовать за мной, хотя с моей стороны нет недостатка в готовности. А ведь ты увидел бы уже не образ того, о чем мы говорим, а самое истину, по крайней мере как она мне представляется. Действительно ли так обстоит или нет — на это не стоит пока напирать. Но вот увидеть нечто подобное непременно надо — на этом следует настаивать. Не так ли?
— И что же дальше?
— Надо настаивать и на том, что только способность рассуждать может показать это человеку, сведущему в разобранных нами теперь науках, иначе же это никак невозможно.
— Стоит утверждать и это.
— Никто не докажет нам, будто можно сделать попытку каким-нибудь иным путем последовательно охватить всё, то есть сущность любой вещи: ведь все другие способы исследования либо имеют отношение к человеческим мнениям и вожделениям, либо направлены на возникновение и сочетание [вещей] или же целиком на поддержание того, что растет и сочетается. Что касается остальных наук, которые, как мы говорили, пытаются постичь хоть что-нибудь из бытия (речь идет о геометрии и тех науках, которые следуют за ней), то им всего лишь снится бытие, а наяву пум невозможно его увидеть, пока они, пользуясь своими предположениями, будут сохранять их незыблемыми и не отдавать себе в них отчета. У кого началом служит то, чего он не знает, а заключение и середина состоят из того, что нельзя сплести воедино, может ли подобного рода несогласованность когда-либо стать знанием?
— Никогда.
— Значит, в этом отношении один лишь диалектический метод придерживается правильного пути[247]: отбрасывая предположения, он подходит к первоначалу в целью его обосновать; он потихоньку высвобождает, словно из какой-то варварской грязи, зарывшийся туда взор нашей души и направляет его ввысь, пользуясь в качестве помощников и попутчиков теми искусствами, которые мы разобрали. По привычке мы не раз называли их науками, но тут требовалось бы другое название, потому что приемы эти не столь очевидны, как наука, хотя и более отчетливы, чем мнение. А сам рассудок мы уже определили прежде. Впрочем, по-моему, нечего спорить о названии, когда предмет рассмотрения столь значителен, как сейчас у нас.
— Да, не стоит, лишь бы только название ясно Выражало, что под ним подразумевается.
[Разделы диалектического метода — познание, рассуждение, вера, уподобление]
— Тогда нас удовлетворят, как и раньше, следующие названия: первый раздел — познание, второй — рассуждение, третий — вера, четвертый — уподобление. Оба последних, вместе взятые, составляют мнение, оба первых — мышление. Мнение относится к становлению, мышление — к сущности. И как сущность относится к становлению, так мышление — к мнению. А как мышление относится к мнению, так познание вносится к вере, а рассуждение — к уподоблению. Разделение же на две области — того, что мы мним, и того, что мы постигаем умом — и соответствие этих обозначений тем предметам, к Которым они относятся, мы оставим с тобой, Главкон, в стороне, чтобы избежать рассуждений, еще во много раз более длинных, чем уже проделанные.
— Но я согласен и с остальным, насколько я в силах за тобой следовать[248].
[Определение диалектики]
— Конечно, ты называешь диалектиком того, кому доступно доказательство сущности каждой вещи. Если кто этого лишен, то насколько он не может дать
отчета ни себе ни другому, настолько же, скажешь ты, у него и ума не хватает для этого.
— Как этого не сказать!
— Точно так же обстоит дело и относительно блага. Кто не в силах с помощью доказательства определить идею блага, выделив ее из всего остального; кто не идет, словно на поле битвы, сквозь все препятствия, стремясь к опровержению, основанному не на мнении, а на понимании сущности; кто не продвигается через все это вперед с непоколебимой уверенностью, — про того, раз он таков, ты скажешь, что ему неведомо ни самое благо, ни какое бы то ни было благо вообще, а если он и прикоснется каким-то путем к призраку блага, то лишь при помощи мнения, а не знания. Такой человек проводит нынешнюю свою жизнь в спячке и сновидениях, и, прежде чем он здесь пробудится, он, придя в Аид, окончательно погрузится в сон.
— Клянусь Зевсом, я решительно стану утверждать все это.
— А своим детям — правда, пока что ты их растишь и воспитываешь лишь мысленно, — если тебе придется растить их на самом деле, ты ведь не позволил бы, пока они бессловесны, как чертежный набросок[249], быть в государстве правителями и распоряжаться важнейшими делами?
— Конечно, нет.
— И ты законом обяжешь их получать преимущественно такое воспитание, которое позволило бы им быть в высшей степени сведущими в деле вопросов и ответов?
— Мы вместе с тобой издадим подобный закон.
— Так не кажется ли тебе, что диалектика будет у нас подобной карнизу, венчающему все знания, и было бы неправильно ставить какое-либо иное знание выше нее: ведь она вершина их всех.
— По-моему, это так.
— Тебе остается только распределить, кому мы ; будем сообщать эти познания и каким образом.
— Очевидно.
[Еще об отборе правителей и их воспитании]
— Помнишь, каких правителей мы отобрали, когда раньше говорили об их выборе?
— Как не помнить!
— Вообще-то считай, что нужно выбирать указанные тогда натуры, то есть отдавать предпочтение самым надежным, мужественным и по возможности самым благообразным; но, кроме того, надо отыскивать не только людей благородных и строгого нрава, но и обладающих также свойствами, подходящими для такого воспитания.
— Кто же это, по-твоему?
— У них, друг мой, должна быть острая восприимчивость к наукам и быстрая сообразительность. Ведь души робеют перед могуществом наук гораздо больше, чем перед гимнастическими упражнениями: эта трудность ближе касается души, она — ее особенность, которую душа не разделяет с телом.
— Это верно.
— Надо искать человека с хорошей памятью, несокрушимо твердого и во всех отношениях трудолюбивого. Иначе какая ему, по-твоему, охота переносить телесные тягости, и в довершение всего еще столько учиться и упражняться?
— Такого нам не найти, разве что это будет исключительно одаренная натура.
— В том-то и состоит ошибка нашего времени и потому-то недооценивают философию, что за нее берутся не так, как она того заслуживает, — об этом мы говорили уже и раньше. Не подлым надо бы людям на нее браться, а благородным.
— То есть как?
— Прежде всего у того, кто за нее берется, не должно хромать трудолюбие, что бывает, когда человек трудолюбив лишь наполовину, а в остальном избегнет трудностей. Это наблюдается, если кто любит гимнастику, охоту и вообще все, что развивает тело, но не любит учиться, исследовать, не любознателен: тогда подобного рода трудности ему ненавистны. Хромым можно назвать и того, чье трудолюбие обращено на трудности, противоположные этим.
— Ты вполне прав.
— Значит, и в том, что касается истины, мы будем считать душу покалеченной точно так же, если она, несмотря на свое отвращение к намеренной лжи (этого она и у себя не выносит, и возмущается ложью других людей), все же снисходительно станет допускать ложь нечаянную и не стесняться, когда ей укажут на невежество, в котором она легкомысленно выпачкалась не хуже свиньи.
— Все это совершенно верно.
— И что касается рассудительности, мужества, великодушия, а также всех других частей добродетели, надо не меньше наблюдать, кто проявляет благородство, а кто — подлость. Не умеющий это различать — будь то частное лицо или государство, — сам того не замечая, привлечет для тех или иных надобностей — в качестве друзей ли или правителей — людей, хромающих на одну ногу и подлых.
— Это действительно часто бывает.
— А нам как раз этого-то и надо избежать. Если . мы подберем людей здравых телом и духом и воспитаем их на возвышенных знаниях и усиленных упражнениях, то самой справедливости не в чем будет нас упрекнуть и мы сохраним в целости и государство, и его строй; а если мы возьмем неподходящих для этого людей, то всё у нас выйдет наоборот и еще больше насмешек обрушится на философию.
— Это был бы позор.
— Конечно. Но видно я уже и сейчас оказался в смешном положении.
— Почему?
— Позабыв, что все это у нас — только забава, я сговорил, напрягаясь изо всех сил. А говоря, я то и дело оглядывался на философию и видел, как ею помыкают. В негодовании на тех, кто тому виной, я неожиданно вспылил и говорил уж слишком всерьез.
— Клянусь Зевсом, у меня как у слушателя не сложилось такого впечатления.
— Зато у меня оно сложилось — как у оратора. Но не забудем вот чего: говоря тогда об отборе, мы выбирали пожилых, а теперь выходит, что это не годится — ведь нельзя верить Солону, будто человек, старея, может многому научиться; напротив, к этому он становится способен еще менее, чем к бегу[250]: именно юношам принадлежат все великие и многочисленные труды.
— Безусловно.
[Возрастная градация воспитания]
— Значит, счет, геометрию и разного рода другие предварительные познания, которые должны предшествовать диалектике, надо преподавать нашим стражам еще в детстве, не делая, однако, принудительной форму обучения.
— То есть?
— Свободнорожденному человеку ни одну науку не следует изучать рабски. Правда, если тело насильно наставляют преодолевать трудности, оно от этого не делается хуже, но насильственно внедренное в душу знание непрочно.
— Это верно.
— Поэтому, друг мой, питай своих детей науками не насильно, а играючи, чтобы ты лучше мог наблюдать природные наклонности каждого.
— То, что ты говоришь, не лишено основания.
— Помнишь, мы говорили: надо брать с собой детей н на войну — конечно, зрителями, на конях, а где безопасно, так и поближе; пусть они отведают крови, словно щенки.
— Помню.
— Кто во всем этом — в трудах, в науках, в опасностях — всегда будет выказывать себя самым находчивым, тех надо занести в особый список.
— В каком возрасте?
— Когда они уже будут уволены от обязательных занятий телесными упражнениями. Ведь в течение этого срока, продолжается ли он два или три года, у них нет возможности заниматься чем-либо другим. Усталость и сон — враги наук. А вместе с тем ведь это немаловажное испытание: каким кто себя выкажет в телесных упражнениях.
— Еще бы!
— По истечении этого срока юноши, отобранные из числа двадцатилетних, будут пользоваться большим почетом сравнительно с остальными, а наукам, порознь спреподававшимся им, когда они были детьми, должен быть сделан общий обзор, чтобы показать их сродство между собою и с природой бытия.
— Знание будет прочным, только когда оно приобретено подобным путем.
— И это самая главная проверка, имеются ли у человека природные данные для занятий диалектикой или нет. Кто способен все обозреть, тот — диалектик, кому же это не под силу, тот — нет.
— Я тоже так думаю.
— Вот тебе и придется подмечать, кто наиболее отличится в этом, кто будет стойким в науках, на войне , и во всем том, что предписано законом. Из этих юношей, когда им исполнится тридцать лет, надо будет опять-таки произвести отбор, окружить их еще большим почетом и подвергнуть испытанию их способность к диалектике, наблюдая, кто из них умеет, не обращая внимания на зрительные и остальные ощущения, подняться до истинного бытия. Но здесь требуется величайшая осторожность, мой друг.
— А собственно, почему?
— Разве ты не замечаешь зла, связанного в наше время с умением рассуждать, — насколько оно распространилось?
— В чем же оно состоит?
— Люди, занимающиеся этим, преисполнены беззакония.
— И в очень сильной степени.
— Удивляет ли тебя их состояние? Заслуживают ли они, по-твоему, снисхождения?
— В каком же главным образом отношении?
— Возьмем такой пример: какой-нибудь подкинутый ребенок вырастает в богатстве, в большой и знатной семье, ему всячески угождают. Став взрослым, он узнаёт, что те, кого он считал своими родителями, ему чужие, а подлинных родителей ему не найти. Можешь ты предугадать, как будет он относиться к тем, кто его балует, и к своим мнимым родителям — сперва в то время, когда он не знал, что он подкидыш, а затем, когда уже это узнает? Или хочешь, я тебе скажу, что я тут усматриваю?
— Хочу.
— Я предвижу, что, пока он не знает истины, он . будет почитать мнимых родственников — мать, отца и всех остальных — больше, чем тех, кто его балует. С его стороны будет меньше пренебрежения к нуждам родственников, меньше беззаконных — Я предвижу, что, пока он не знает истины, он . будет почитать мнимых родственников — мать, отца и всех остальных — больше, чем тех, кто его балует. С его стороны будет меньше пренебрежения к нуждам родственников, меньше беззаконных поступков или выражений по отношению к ним, меньше неповиновения им, чем тем, кто его балует.
— Естественно.
— Когда же он узнает правду, то, думаю я, его почтение и внимательность к мнимым родственникам ослабеет, а к тем, кто его балует, увеличится; он будет слушаться их гораздо больше, чем раньше, жить на сих лад, откровенно примкнув к ним, а о прежнем своем отце и об остальных мнимых родственниках вовсе перестанет заботиться, разве что по натуре он будет исключительно порядочным человеком.
— Все так и бывает, как ты говоришь. Но какое отношение имеет твой пример к людям, причастным к рассуждениям?
[Справедливость воспитывается в человеке с детства]
— А вот какое: относительно того, что справедливо и хорошо, у нас с детских лет имеются взгляды, в которых мы воспитаны под воздействием наших родителей, — мы подчиняемся им и их почитаем.
— Да, это так.,
— Но им противоположны другие навыки, сопряженные с удовольствиями, они ласкают нам душу своей привлекательностью. Правда, люди хоть сколько-нибудь умеренные не поддаются им, послушно почитая заветы отцов.
— Это все так...
— Далее. Когда перед человеком, находящимся в таком положении, встанет Вопрос, вопрошая[251]: "Что такое прекрасное?" — человек ответит так, как привычно усвоил от законодателя, однако дальнейшее рассуждение это опровергнет. При частых и всевозможных опровержениях человек этот падет так низко, что будет придерживаться мнения, будто прекрасное ничуть не более прекрасно, чем безобразно. Так же случится и со справедливостью, с благом и со всем тем, что он особенно почитал. После этого что, по-твоему, станется с его почтительностью и послушанием?
— У него неизбежно уже не будет такого почтения и убежденности.
— Если же он перестанет считать все это ценным и дорогим, как бывало, а истину найти будет не в состоянии, то, спрашивается, к какому же иному образу сод жизни ему естественно обратиться, как не к тому, который ему будет лестен?
— Все другое исключено.
— Так окажется, что он стал нарушителем законов, хотя раньше соблюдал их предписания.
— Да, это неизбежно.
— Значит, подобное состояние естественно для тех, кто причастен к рассуждениям, и, как я говорил прежде, такие люди вполне заслуживают сочувствия.
— И сожаления.
— Значит, чтобы люди тридцатилетнего возраста не вызывали у тебя подобного рода сожаления, надо со всевозможными предосторожностями приступать к рассуждениям.
— Несомненно.
— Разве не будет одной из постоянных мер предосторожности не допускать, чтобы вкус к рассуждениям появлялся смолоду?[252] Я думаю, от тебя не укрылось, что подростки, едва вкусив от таких рассуждений, злоупотребляют ими ради забавы, увлекаясь противоречиями и подражая тем, кто их опровергает, да и сами берутся опровергать других, испытывая удовольствие от того, что своими доводами они, словно щенки, разрывают на части всех, кто им подвернется.
— Да, в этом они не знают удержу.
— После того как они сами опровергнут многих о и многие опровергнут их, они вскорости склоняются к полному отрицанию прежних своих утверждений, а это опорочивает в глазах других людей и их самих да заодно и весь предмет философии.
— Совершенно верно.
— Ну, а кто постарше, тот не захочет принимать участия в подобном бесчинстве; скорее он будет подражать человеку, желающему в беседе дойти до истины, чем тому, кто противоречит ради забавы, в шутку. Он и сам будет сдержан и занятие свое сделает почетным, а не презренным.
— Правильно.
— Разве не относится к мерам предосторожности все то, о чем мы говорили раньше: допускать к отвлеченным рассуждениям лишь упорядоченные и стойкие натуры, а не так, как теперь, когда за это берется кто попало, в том числе совсем неподходящие люди?
— Конечно, это необходимая мера.
— В сравнении с тем, кто развивает свое тело путем гимнастических упражнений, будет ли достаточен вдвое больший срок для овладения искусством рассуждать, если постоянно и напряженно заниматься лишь этим?
— Ты имеешь в виду шесть лет или четыре года?
— Это неважно. Пусть даже пять. После этого они будут у тебя вынуждены вновь спуститься в ту пещеру[253]: их надо будет заставить занять государственные должности — как военные, так и другие, подобающие молодым людям: пусть они никому не уступят и в опытности. Вдобавок надо на всем этом их проверить — устоят ли они перед разнообразными влияниями или же кое в чем поддадутся.
— Сколько времени ты на это отводишь?
— Пятнадцать лет. А когда им будет пятьдесят, то тех из них, кто уцелел и всячески отличился — как на деле, так и в познаниях — пора будет привести к окончательной цели: заставить их устремить ввысь свой духовный взор и взглянуть на то самое, что всему дает свет, а увидев благо само по себе, взять его за образец и упорядочить и государство, и частных лиц, а также самих себя — каждого в свой черед — на весь остаток своей жизни. Большую часть времени они станут проводить в философствовании, а когда наступит черед, будут трудиться над гражданским устройством, занимать государственные должности — не потому, что это нечто прекрасное, а потому, что так необходимо ради государства. Таким образом, они постоянно будут воспитывать людей, подобных им самим, и ставить их стражами государства взамен себя, а сами отойдут на Острова блаженных, чтобы там обитать. Государство на общественный счет соорудит им памятники и будет приносить жертвы как божествам, если это подтвердит Пифия, а если нет, то как счастливым и божественным людям.
— Ты, Сократ, словно ваятель, прекрасно завершил лепку созданных тобою правителей.
— И правительниц, Главкон,—все, что я говорил, касается женщин ничуть не меньше, чем мужчин: правда, конечно, тех женщин, у которых есть на то природные способности.
— Это верно, раз женщины будут во всем участвовать наравне с мужчинами, как мы говорили.
— Что же? Вы согласны, что относительно государства и его устройства мы высказали совсем не пустые пожелания? Конечно, все это трудно, однако как-то возможно, притом не иначе чем было сказано: когда властителями в государстве станут подлинные философы, будет ли их несколько или хотя бы один, нынешними почестями они пренебрегут, считая их низменными и ничего не стоящими, и будут высоко ценить порядочность и ту честь, что с нею связана, но самым великим и необходимым будут считать справедливость; служа ей и умножая ее, устроят они свое государство.
— Но как именно?
— Всех, кому в городе больше десяти лет, они ото-, шлют в деревню, а остальных детей, оградив их от воздействия современных нравов, свойственных родителям, воспитают на свой лад, в тех законах, которые мы разобрали раньше. Таким-то вот образом всего легче и скорее установится тот государственный строй, о котором мы говорили, государство расцветет, а народ, у которого оно возникнет, для себя извлечет великую пользу.
— Да, огромную. А как это могло бы произойти, если когда-нибудь осуществится, ты, Сократ, по-моему, хорошо разъяснил.
— Значит, мы уже достаточно поговорили об этом государстве н о соответствующем ему человеке? Ведь ясно, каким он, по-нашему, должен быть.
— Да, ясно. И поставленный тобою вопрос, кажется мне, получил свое завершение.
КНИГА ВОСЬМАЯ.
— Пусть так. Мы с тобой уже согласились, Главкон, что в образцово устроенном государстве жены должны быть общими, дети — тоже, да и все их воспитание будет общим; точно так же общими будут военные и мирные занятия, а царями надо всем этим должны быть наиболее отличившиеся в философии и в военном деле.
— Да, мы в этом согласились.
— И договорились насчет того, что как только будут назначены правители, они возьмут своих воинов и расселят их по тем жилищам, о которых мы упоминали ранее; ни у кого не будет ничего собственного, но все у всех общее. Кроме жилищ мы уже говорили, если ты помнишь, какое у них там будет имущество.
— Помню, мы держались взгляда, что никто не должен ничего приобретать, как это все делают теперь. За охрану наши стражи, подвизающиеся в военном деле, будут получать от остальных граждан вознаграждение в виде запаса продовольствия на год, а обязанностью их будет заботиться обо всем государстве.
— Ты правильно говоришь. Раз с этим у нас покончено, то, чтобы продолжить наш прежний путь, давай припомним, о чем у нас была речь перед тем, как мы уклонились в сторону.
— Нетрудно припомнить. Ты закончил свое рассуждение об устройстве государства примерно теми же словами, что и сейчас: а именно, что ты считаешь хорошим рассмотренное нами тогда государство и соответствующего ему человека, хотя мог бы указать на государство еще более прекрасное и соответственно на такого человека[254]. Раз подобное государственное устройство правильно, сказал ты, все остальные порочны.
[Четыре вида государственного устройства]
Насколько помню, ты говорил, что имеется четыре вида порочного государственного устройства и что стоило бы в них разобраться, дабы увидеть их порочность воочию; то же самое, сказал ты, касается и соответствующих людей: их всех тоже стоит рассмотреть. Согласившись между собой, мы взяли бы самого лучшего человека и самого худшего и посмотрели бы, правда ли, что наилучший человек — самый счастливый, а наихудший — самый жалкий, или дело обстоит иначе. Когда я задал вопрос, о каких четырех видах государственного устройства ты говоришь, тут нас прервали Полемарх и Адимант и ты вел с ними беседу, пока мы не подошли к этому вопросу.
— Ты совершенно верно припомнил.
— Так вот ты снова и займи подобно борцу то же самое положение[255] и на тот же самый мой вопрос постарайся ответить так, как ты тогда собирался.
— Если только это в моих силах.
— А мне и в самом деле не терпится услышать, о каких это четырех видах государственного устройства ты говорил.
— Услышишь, это нетрудно. Я говорю как раз о тех видах, которые пользуются известностью. Большинство одобряет критско-лакедемонское устройство[256]. На втором месте, менее одобряемая, стоит олигархия[257]: это государственное устройство, преисполненное множества зол. Из нее возникает отличная от нее демократия[258]. Прославленная тирания[259] отлична от них всех — это четвертое и крайнее заболевание государства. Может быть, у тебя есть какая-нибудь иная идея государственного устройства, которая ясно проявлялась бы в каком-либо виде? Ведь наследственная власть [260]и приобретаемая за деньги царская власть[261], а также разные другие, подобные этим государственные устройства занимают среди указанных устройств какое-то промежуточное положение[262] и у варваров встречаются не реже, чем у эллинов.
— Много странного рассказывают об этом.
— Итак, ты знаешь, что у различных людей непременно бывает столько же видов духовного склада, сколько существует видов государственного устройства[263]. Или ты думаешь, что государственные устройства рождаются невесть откуда — от дуба либо от скалы[264], а не от тех нравов, что наблюдаются в государствах и влекут за собой все остальное, так как на их стороне перевес?
— Ни в коем случае, но только от этого.
[Еше о соответствии пяти складов характера пяти видам государственного устройства]
— Значит, раз видов государств пять, то и у различных людей должно быть пять различных устройств души.
— И что же?
— Человека, соответствующего правлению лучших — аристократическому, мы уже разобрали и правильно признали его хорошим и справедливым.
— Да, его мы уже разобрали.
— Теперь нам надо описать и худших, иначе говоря, людей, соперничающих между собой и честолюбивых — соответственно лакедемонскому строю, затем — человека олигархического, демократического и тиранического, чтобы, указав на самого несправедливого, противопоставить его самому справедливому и этим завершить наше рассмотрение вопроса, как относится чистая справедливость к чистой несправедливости с точки зрения счастья или несчастья для ее обладателя. И тогда мы либо поверим Фрасимаху и устремимся к несправедливости, либо придем к тому выводу, который теперь становится уже ясен, и будем соблюдать справедливость.
— Безусловно, надо так сделать.
— Раз мы начали с рассмотрения государственных нравов, а не отдельных лиц, потому что там они более четки, то и теперь возьмем сперва государственный строй, основывающийся на честолюбии (не могу подобрать другого выражения, все равно назовем ли мы его "тимократией" [265]или "тимархией"), и соответственно рассмотрим подобного же рода человека; затем — олигархию и олигархического человека; далее бросим взгляд на демократию и понаблюдаем человека демократического; наконец, отправимся в государство, управляемое тиранически, и посмотрим, что там делается, опять-таки обращая внимание на тиранический склад души. Таким образом, мы постараемся стать достаточно сведущими судьями в намеченных нами вопросах.
— Такое рассмотрение было бы последовательным и основательным.
[Тимократия]
— Ну так давай попытаемся указать, каким способом из аристократического правления может получиться тимократическое. Может быть, это совсем просто, и изменения в государстве обязаны своим происхождением той его части, которая обладает властью, когда внутри нее возникают раздоры? Если же в ней царит согласие, то, хотя бы она была и очень мала, строй остается незыблемым.
— Да, это так.
— Что же именно может, Главкон, пошатнуть наше государство и о чем могут там спорить между собой попечители и правители? Или хочешь, мы с e тобой, как Гомер, обратимся с мольбой к Музам[266], чтобы они нам поведали, как впервые вторгся раздор, и вообразим, что они станут отвечать нам высокопарно, на трагический лад и как будто всерьез, на самом же деле это будет с их стороны лишь шутка, и они будут поддразнивать нас, как детей.
— Что же они нам скажут?
— Что-нибудь в таком роде: "Трудно пошатнуть государство, устроенное подобным образом. Однако раз всему, что возникло, бывает конец, то даже и такой строй не сохранится вечно, но подвергнется разрушению. Означать же это будет следующее: урожай и неурожай бывает не только на то, что произрастает из земли, но и на то, что на ней обитает, — на души и на тела, всякий раз как круговращение приводит к полному завершению определенного цикла: у недолговечных существ этот цикл краток, у долговечных — наоборот. Хотя и мудры те, кого вы воспитали как руководителей государства, однако и они ничуть не больше других людей будут способны установить путем рассуждения, основанного на ощущении, наилучшую пору плодоношения и, напротив, время бесплодия для вашего рода: этого им не постичь, и они станут рожать детей в неурочное время. Для божественного потомства существует кругооборот, охватываемый совершенным числом, а для человеческого есть число[267], в котором — первом из всех — возведение в квадратные и кубические степени, содержащие три промежутка и четыре предела (уподобление, неуподобление, рост и убыль) делает все соизмеримым и выразимым. Из этих чисел четыре трети, сопряженные с пятеркой, после трех увеличении дадут два гармонических сочетания, одно — равностороннее, то есть взятое сотней столько же раз, а другое — с той же длиной, но продолговатое: иначе говоря, число выразимых диаметров пятерки берется сто раз с вычетом каждый раз единицы, а из невыразимых вычитается по двойке и они сто раз берутся кубом тройки. Все в целом это число геометрическое, и оно имеет решающее значение для лучшего или худшего качества рождений. Коль это останется невдомек нашим стражам и они не в пору сведут невест с женихами, то не родятся дети с хорошими природными задатками и со счастливой участью. Прежние стражи назначат своими преемниками лучших из этих детей, но все равно те не будут достойны и чуть лишь займут должности своих отцов, станут нами пренебрегать, несмотря на то что они стражи. Мусические искусства, а вслед за тем и гимнастические они не оценят, как должно; от этого юноши у нас будут менее образованны и из их среды выйдут правители, не слишком способные блюсти и испытывать Гесиодовы поколения, — ведь и у вас они те же, то есть золотое, серебряное, медное и железное[268]. Когда железо примешается к серебру, а медь к золоту, возникнут несоответствия и нелепые отклонения, [269]а это, где бы оно ни случилось, сразу порождает вражду и раздор. Надо признать, что, где бы ни возник раздор, он вечно такой природы".
— Признаться, Музы отвечают нам правильно.
— Это и не мудрено, раз они Музы.
— А что они говорят после этого?
— Если возник раздор, это значит, что каждые два рода увлекали в свою сторону: железный и медный влекли к наживе, приобретению земли и дома, а также золота и серебра, а золотой и серебряный род, не бедные, но, наоборот, по своей природе богатые, вели души к добродетели и древнему устроению. Применяя силу и соперничая друг с другом, они пришли, наконец, к чему-то среднему: согласились установить частную собственность на землю и дома, распределив их между собою, а тех, кого они до той поры охраняли как своих свободных друзей и кормильцев, решили обратить в рабов, сделав из них сельских рабочих и слуг, сами же занялись военным делом и сторожевой службой.
— Эта перемена, по-моему, оттуда и пошла.
— Значит, такой государственный строи — нечто среднее между аристократией и олигархией.
— Несомненно.
— Так совершится этот переход; и каким же будет тогда государственное устройство? По-видимому, отчасти оно будет подражанием предшествовавшему строю, отчасти же — олигархии, раз оно занимает промежуточное положение, но кое-что будет в нем и свое, особенное.
— Да, будет.
— В почитании правителей, в том, что защитники страны будут воздерживаться от земледельческих работ, ремесел и остальных видов наживы, в устройстве совместных трапез, в телесных упражнениях и воинских состязаниях — во всем подобном этот строй будет подражать предшествовавшему.
— Да.
— Там побоятся ставить мудрых людей на государственные должности, потому что там уже нет подобного рода простосердечных и прямых людей, а есть лишь люди смешанного нрава; там будут склоняться на сторону тех, что яростны духом, а также и тех, что г, о попроще — скорее рожденных для войны, чем для мира; там будут в чести военные уловки и ухищрения: ведь это государство будет вечно воевать. Вот каковы будут многочисленные особенности этого строя.
— Да.
— Такого рода люди будут жадны до денег, как это водится при олигархическом строе; в омрачении они, как дикари, почитают золото и серебро, у них заведены кладовые и домашние хранилища, чтобы все это прятать, свои жилища они окружают оградой и там, прямо-таки как в собственном логове, они тратятся, не считаясь с расходами, на женщин и на кого угодно других.
— Совершенно верно.
— Они бережливы, так как деньги у них в чести; свое состояние они скрывают и не прочь пожить на чужой счет. Удовольствиям они предаются втайне, убегая от закона, как дети от строгого отца, — ведь воспитало их насилие, а не убеждение, потому что они пренебрегали подлинной Музой, той, чья область — речи н философия, а телесные упражнения ставили выше мусического искусства.
— Ты говоришь о таком государственном строе, где зло полностью смешалось с добром.
— Действительно, в нем все смешано; одно только там бросается в глаза — соперничество и честолюбие, так как там господствует яростный дух.
— И это очень сильно заметно.
— Подобный государственный строй возникает, не правда ли, именно таким образом и в таком виде. В моем изложении он очерчен лишь в общем и подробности опущены[270], ибо уже и так можно заметить, каким там будет человек, отличающийся справедливостью, или, напротив, очень несправедливый, а рассматривать все правления и все нравы, вовсе ничего не пропуская, было бы делом очень и очень долгим.
— Это верно.
["Тимократический" человек]
— Каким же станет человек в соответствии с этим государственным строем? Как он сложится и каковы будут его черты?
— Я думаю, — сказал Адимант, — что по своему стремлению непременно выдвинуться он будет близок нашему Главкону.
— Это-то возможно, но, по-моему, вот чем его натура отличается от Главконовой... [271]
— Чем?
— Он пожестче, менее образован и, хотя ценит образованность и охотно слушает других, сам, однако, нисколько не владеет словом. С рабами такой человек жесток, хотя их и не презирает, так как достаточно воспитан; в обращении со свободными людьми он учтив, а властям чрезвычайно послушен; будучи властолюбив и честолюбив, он считает, что основанием власти должно быть не умение говорить или что-либо подобное, но военные подвиги и вообще все военное: потому-то он и любит гимнастику и охоту.
— Да, именно такой характер развивается при этом государственном строе.
— В молодости такой человек с презрением относится к деньгам; но чем старше он становится, тем больше он их любит — сказывается его природная наклонность к сребролюбию да и чуждая добродетели примесь, поскольку он покинут своим доблестным стражем.
— Какой же это страж?— спросил Адимант.
— Дар слова в сочетании с образованностью; только присутствие того и другого будет всю жизнь спасительным для добродетели человека, у которого это имеется.
— Прекрасно сказано!
— А этот юноша похож на свое тимократическое государство...
— И даже очень.
— Складывается же его характер приблизительно так: иной раз это взрослый сын хорошего человека, живущего в неважно устроенном государстве и потому избегающего почестей, правительственных должностей, судебных дел и всякой такой суеты; он предпочитает держаться скромнее, лишь бы не иметь хлопот.
— И как же это действует на его сына?
— Прежде всего тот слышит, как сокрушается его мать: ее муж не принадлежит к правителям, и из-за этого она терпит унижения в женском обществе; затем она видит, что муж не особенно заботится о деньгах, не дает отпора оскорбителям ни в судах, ни на собраниях, но беспечно все это сносит; он думает только о себе — это она постоянно замечает, — а ее уважает не слишком, хотя и не оскорбляет. Все это ей тяжело, она говорит сыну, что отец его лишен мужества, что он слишком слаб и так далее, то есть все, что в подобных случаях любят напевать женщины.
— Да, в этом они всегда себе верны.
— Ты знаешь, что у таких людей и слуги иной раз потихоньку говорят детям подобные вещи — якобы из сочувствия, когда видят, что хозяин не возбуждает судебного дела против какого-нибудь своего должника или иного обидчика; в таких случаях слуги внушают хозяйскому сыну примерно следующее: "Вот вырастешь большой, непременно отомсти им за это и будешь тогда настоящим мужчиной, не то что твой отец". Да и вне дома юноша слышит и видит почти то же самое: кто среди граждан делает свое дело, тех называют простаками и не принимают их в расчет, а кто берется не за свое дело, тех уважают и хвалят. Тогда, слыша и видя подобные вещи, юноша, с другой стороны, прислушивается и к тому, что говорит его отец, близко видит, чем тот занимается наперекор окружающим, и вот как то, так и другое на него действует: под влиянием отца в нем развивается и крепнет разумное начало души, а под влиянием остальных людей — вожделеющее и яростное, а так как по своей натуре он неплохой человек, но только попал в дурное общество, то влияния эти толкают его на средний путь, и он допускает в себе господство чего-то среднего — наклонности к соперничеству и ярости: вот почему он становится человеком честолюбивым и стремится выдвинуться.
— Ты вполне объяснил, как складывается его характер.
— Итак, мы имеем второй по порядку государственный строй н соответствующего ему человека.
— Да, второй.
— Так не упомянуть ли нам теперь выражение Эсхила: "Приставлен муж иной к иному граду", [272]или же, согласно нашему предположению, сперва рассмотрим само государство?
— Лучше, конечно так.
[Олигархия]
— Следующим после этого государственным строем была бы, я так думаю, олигархия.
— Как же она устанавливается?
— Это строй, основывающийся на имущественном цензе; у власти стоят там богатые, а бедняки не участвуют в правлении.
— Понимаю.
— Надо ли сперва остановиться на том, как тимократия переходит в олигархию?
— Да, конечно.
— Но ведь и слепому ясно, как совершается этот переход.
— Как?
— Скопление золота в кладовых у частных лиц губит тимократию; они прежде всего выискивают, на что бы его употребить, и для этого перетолковывают законы, мало считаясь с ними: так поступают и сами богачи, и их жены.
— Естественно.
— Затем, наблюдая, в чем кто преуспевает, и соревнуясь друг с другом, они уподобляют себе и все население.
— Это также естественно.
— Чем больше они ценят дальнейшее продвижение по пути наживы, тем меньше почитают они добродетель. Разве не в таком соотношении находятся богатство и добродетель, что положи их на разные чаши весов, и одно всегда будет перевешивать другое?
— Конечно.
— Раз в государстве почитают богатство и богачей, значит, там меньше ценятся добродетель и ее обладатели.
— Очевидно.
— А люди всегда предаются тому, что считают ценным, и пренебрегают тем, что не ценится.
— Это так.
— Кончается это тем, что вместо стремления выдвинуться и удостоиться почестей развивается наклонность к стяжательству и наживе и получают одобрение богачи — ими восхищаются, их назначают на государственные должности, а бедняк там не пользуется почетом.
— Конечно.
— Установление имущественного ценза становится законом и нормой олигархического строя: чем более этот строй олигархичен, тем выше ценз; чем менее олигархичен, тем ценз ниже. Заранее объявляется, что к власти не допускаются те, у кого нет установленного имущественного ценза. Такого рода государственный строй держится применением вооруженной силы или же был еще прежде установлен путем запугивания. Разве это не верно?
— Да, верно.
— Короче говоря, так он и устанавливается.
— Да. Но какова его направленность и в чем состоит та порочность, которая, как мы сказали, ему свойственна?
— Главный порок — это норма, на которой он основан. Посуди сам: если кормчих на кораблях назначать согласно имущественному цензу, а бедняка, будь он и больше способен к управлению кораблем, не допускать...
— Никуда бы не годилось такое кораблевождение!
— Так разве не то же самое и в любом деле, где требуется управление?
— Я думаю, то же самое.
— За исключением государства? Или в государстве так же?
— Еще гораздо больше, поскольку управлять им крайне трудно, а значение этого дела огромно.
— Так вот уже это было бы первым крупным недостатком олигархии.
— По-видимому.
— А разве не так важно следующее...
— Что именно?
— Да то, что подобного рода государство неизбежно не будет единым, а в нем как бы будут два государства: одно — государство бедняков, другое — богачей. Хотя они и будут населять одну и ту же местность, однако станут вечно злоумышлять друг против друга.
— Клянусь Зевсом, этот порок не менее важен.
— Но нехорошо еще и то, что они, пожалуй, не смогут вести какую бы то ни было войну, так как неизбежно получилось бы, что олигархи, дав оружие в руки толпы, боялись бы ее больше, чем неприятеля, либо, отказавшись от вооружения толпы, выказали бы себя подлинными олигархами даже в самом деле сражения. Вдобавок они не пожелали бы тратиться на войну, так как держатся за деньги.
— Это нехорошо.
— Так как же? Ведь мы уже и раньше не одобрили, что при таком государственном строе одни и те же лица будут и землю обрабатывать, и деньги наживать, и нести военную службу, то есть заниматься всем сразу. Или, по-твоему, это правильно?
— Ни в коем случае.
— Посмотри, ни при таком ли именно строе разовьется величайшее из всех этих зол?
— Какое именно?
— Возможность продать все свое имущество — оно станет собственностью другого, — а продавши, продолжать жить в этом же государстве, не принадлежа ни к одному из его сословий, то есть не будучи ни дельцом, ни ремесленником, ни всадником, ни гоплитом, но тем, кого называют бедняками и неимущими.
— Такой строй словно создан для этого!
— При олигархиях ничто не препятствует такому положению, иначе не были бы в них одни черезмерно богатыми, а другие совсем бедными.
— Верно.
— Взгляни еще вот на что: когда богатый человек расходует свои средства, приносит ли это хоть какую-нибудь пользу подобному государству в том смысле, как мы только что говорили? Или это лишь видимость, будто он принадлежит к тем, кто правит, а по правде говоря, он в государстве и не правитель, и не подданный, а попросту растратчик готового?
— Да, это лишь видимость, а на деле он не что иное, как расточитель.
— Если ты не возражаешь, мы скажем, что как появившийся в сотах трутень — болезнь для роя, так и подобный человек в своем доме — болезнь для государства.
— Конечно, Сократ.
— И не правда ли, Адимант, всех летающих трутней бог сотворил без жала, а вот из тех, что ходят пешком, он одним не дал жала, зато других наделил ужаснейшим. Те, у кого жала нет, весь свой век — бедняки, а из наделенных жалом выходят те, кого кличут преступниками.
— Сущая правда.
— Значит, ясно, что, где бы ты ни увидел бедняков в государстве, там укрываются и те, что воруют, срезают кошельки, оскверняют храмы и творят много других злых дел.
— Это ясно.
— Так что же? Разве ты не замечаешь бедняков в олигархических государствах?
— Да там чуть ли не все бедны, за исключением правителей.
— Так не вправе ли мы думать, что там, с другой стороны, много и преступников, снабженных жалом и лишь насильственно сдерживаемых стараниями властей?
— Конечно, мы можем так думать.
— Не признать ли нам, что такими люди становятся там по необразованности, вызванной дурным воспитанием и скверным государственным строем?
— Да, будем считать именно так.
— Вот каково олигархическое государство и сколько в нем зол (а возможно, что и еще больше).
— Да, все это примерно так.
— Пусть же этим завершится наш разбор того строя, который называют олигархией: власть в нем основана на имущественном цензе.
["Олигархический" человек]
Вслед за тем давай рассмотрим и соответствующего человека — как он складывается и каковы его свойства.
— Конечно, это надо рассмотреть.
— Его переход от тимократического склада к олигархическому совершается главным образом вот как...
— Как?
— Родившийся у него сын сперва старается подражать отцу, идет по его следам, а потом видит, что отец во всем том, что у него есть, потерпел крушение, столкнувшись неожиданно с государством, словно с подводной скалой: это может случиться, если отец был стратегом или занимал другую какую-либо высокую .должность, а затем попал под суд по навету клеветников и был приговорен к смертной казни, к изгнанию или к лишению гражданских прав и всего имущества...
— Естественно.
— Увидев все это, мой друг, пострадав и потеряв состояние, даже испугавшись, думаю я, за свою голову, сон в глубине души свергает с престола честолюбие и присущий ему прежде яростный дух. Присмирев из-за бедности, он ударяется в стяжательство, в крайнюю бережливость и своим трудом понемногу копит деньги. Что ж, разве, думаешь ты, такой человек не возведет на тот трон свою алчность и корыстолюбие и не сотворит себе из них Великого царя в тиаре и ожерельях, с коротким мечом за поясом?
— По-моему, да.
— А у ног этого царя, прямо на земле, он там и сям рассадит в качестве его рабов разумность и яростный дух. Он не допустит никаких иных соображений, имея в виду лишь умножение своих скромных средств. Кроме богатства и богачей, ничто не будет вызывать у него восторга и почитания, а его честолюбие будет направлено лишь на стяжательство и на все то, что к этому ведет.
— Ни одна перемена не происходит у юноши с такой быстротой и силой, как превращение любви к почестям в любовь к деньгам.
— Разве это не пример того, каким бывает человек при олигархическом строе?
— По крайней мере это пример извращения того типа человека, который соответствовал строю, предшествовавшему олигархии.
— Так давай рассмотрим, соответствует ли ей этот человек.
— Давай.
— Прежде всего сходство здесь в том, что он чрезвычайно ценит деньги.
— Конечно.
— Он бережлив и деятелен, удовлетворяет лишь самые насущные свои желания, не допуская других трат и подавляя прочие вожделения как пустые.
— Безусловно.
— Ходит он замухрышкой, из всего извлекая прибыль и делая накопления; таких людей толпа одобряет. Разве черты его не напоминают подобный же государственный строй?
— По-моему, да. По крайней мере деньги чрезвычайно почитают и подобное государство, и такой человек.
— И я думаю, раз уж он такой, он не обращал внимания на свое воспитание.
— Наверное. А то бы он не поставил слепого хорегом и не оказывал бы ему особых почестей[273].
— Хорошо. Посмотри еще вот что: разве мы не признаем, что у него из-за недостатка воспитания появляются наклонности трутня — отчасти нищенские, отчасти преступные, хотя он всячески их и сдерживает из предосторожности?
— Конечно.
— А знаешь, на что тебе надо взглянуть, чтобы заметить преступность таких людей?
— На что?
— На то, как они опекают сирот или вообще получают полную возможность поступать вопреки справедливости.
— Верно.
— Разве отсюда не ясно, что в других деловых отношениях такой человек, пользуясь доброй славой, поскольку его считают справедливым, с помощью остатков порядочности насильно сдерживает другие свои дурные наклонности, хотя он и не убежден, что так будет лучше; он укрощает их не по разумным соображениям, а в силу необходимости, из страха, потому Что дрожит за судьбу своего имущества.
— Конечно.
— И, клянусь Зевсом, ты у многих из этих людей обнаружишь наклонности трутней, когда дело идет об издержках за чужой счет.
— Несомненно, эти наклонности у них очень сильны.
— Значит, такой человек раздираем внутренней борьбой, его единство нарушено, он раздвоен: одни вожделения берут верх над другими — по большей части лучшие над худшими.
— Да, так бывает.
— По-моему, такой человек все же приличнее многих, хотя подлинная добродетель душевной гармонии и невозмутимости весьма от него далека.
— Да, мне тоже так кажется.
— И конечно, его бережливость будет препятствовать ему выступить за свой счет, когда граждане будут соревноваться в чем-либо ради победы или ради удовлетворения благородного честолюбия: он не желает тратить деньги ради таких состязаний и славы, боясь пробудить в себе наклонность к расточительству и сделать ее своим союзником в честолюбивых устремлениях. Воюет он поистине олигархически, с малой затратой собственных средств и потому большей частью терпит поражение, но зато остается богатым.
— И даже очень.
— Так будет ли у нас еще сомнение в том, что человека бережливого, дельца можно сопоставить с олигархическим государством?
— Нет, ничуть.
— После этого, как видно, надо рассмотреть демократию — каким образом она возникает, а возникнув, какие имеет особенности, — чтобы познакомиться в свою очередь со свойствами человека подобного склада и вынести о нем свое суждение.
— Так по крайней мере мы продвинулись бы вперед по избранному нами пути.
— Олигархия переходит в демократию примерно следующим образом: причина здесь в ненасытной погоне за предполагаемым благом, состоящим якобы в том, что надо быть как можно богаче.
— Как ты это понимаешь?
— Да ведь при олигархии правители, стоящие у власти, будучи богатыми, не захотят ограничивать законом распущенность молодых людей и запрещать им расточать и губить свое состояние; напротив, правители будут скупать их имущество или давать им под проценты ссуду, чтобы самим стать еще богаче и могущественнее.
— Это у них — самое главное.
— А разве не ясно, что гражданам такого государства невозможно и почитать богатство, и вместе с тем обладать рассудительностью — тут неизбежно либо то, либо другое будет у них в пренебрежении.
— Это достаточно ясно.
— В олигархических государствах не обращают внимания на распущенность, даже допускают ее, так что и людям вполне благородным иной раз не избежать там бедности.
— Конечно.
— В таком государстве эти люди, думаю я, сидят без дела, но зато у них есть и жало[274], и оружие; одни из них кругом в долгах, другие лишились гражданских прав, а иных постигло и то и другое; они полны ненависти к тем, кто владеет теперь их имуществом, а также и к прочим и замышляют переворот.
— Да, все это так.
— Между тем дельцы, поглощенные своими делами, по-видимому, не замечают таких людей; они приглядываются к остальным и своими денежными ссудами наносят раны тем, кто податлив; взимая проценты, во много раз превышающие первоначальный долг, они разводят в государстве множество трутней и нищих.
— И еще какое множество!
— А когда в государстве вспыхнет такого рода зло, они не пожелают его тушить с помощью запрета распоряжаться своим имуществом кто как желает и не прибегнут к приему, который устраняет всю эту беду согласно другому закону...
— Какому это?
— Тому, который следует за уже упомянутым и заставляет граждан стремиться к добродетели. Ведь если предписать, чтобы большую часть добровольных сделок граждане заключали на свой страх и риск, стремление к наживе не отличалось бы таким бесстыдством и в государстве меньше было бы зол, подобных только что нами указанным.
— И даже намного меньше.
— В наше время из-за подобных вещей правители именно так настроили подвластных им граждан. Что же касается самих правителей и их окружения, то молодежь у них избалованная, ленивая телом и духом и слабая; у нее нет выдержки ни в страданиях, ни в удовольствиях, и вообще она бездеятельна.
— Как же иначе?
— Самим же им, кроме наживы, ни до чего нет дела, а о добродетели они радеют ничуть не больше, чем бедняки.
— Да, ничуть.
— Вот каково состояние и правящих, и подвластных. Между тем они бывают бок о бок друг с другом и в путешествиях, и при любых других видах общения: на праздничных зрелищах, в военных походах, на одном и том же корабле, в одном и том же войске; наконец, и посреди опасностей они находятся вместе, и ни в одном из этих обстоятельств бедняки не оказываются презренными в глазах богатых. Наоборот, нередко бывает, что человек неимущий, весь высохший, опаленный солнцем, оказавшись во время боя рядом с богачом, выросшим в тенистой прохладе и нагулявшим себе за чужой счет жирок, видит, как тот задыхается и совсем растерялся. Разве, по-твоему, этому бедняку не придет на мысль, что подобного рода люди богаты лишь благодаря малодушию бедняков, и разве при встрече без посторонних глаз с таким же бедняком не скажет e он ему, что господа-то наши — никчемные люди?
— Я уверен, что бедняки так и делают.
— Подобно тому как для нарушения равновесия болезненного тела достаточно малейшего толчка извне, чтобы ему расхвораться, — а иной раз неурядица в нем бывает и без внешних причин, — так и государство, находящееся в подобном состоянии, заболевает[275] и воюет само с собой по малейшему поводу, причем некоторые его граждане опираются на помощь со стороны какого-либо олигархического государства, а другие — на помощь демократического; впрочем, иной раз междоусобица возникает и без постороннего вмешательства.
— И даже очень часто.
[Демократия]
— Демократия, на мой взгляд, осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников уничтожат, иных изгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей частью по жребию.
— Да, именно так устанавливается демократия, происходит ли это силой оружия или же потому, что ее противники, устрашившись, постепенно отступят.
— Как же людям при ней живется? И каков этот государственный строй? Ведь ясно, что он отразится и на человеке, который тоже приобретет демократические черты.
— Да, это ясно.
— Прежде всего это будут люди свободные: в государстве появится полная свобода и откровенность и возможность делать что хочешь.
— Говорят, что так.
— А где это разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь по своему вкусу.
— Да, это ясно.
— Я думаю, что при таком государственном строе люди будут очень различны.
— Конечно.
— Казалось бы, это самый лучший государственный строй. Словно ткань, испещренная всеми цветами, так и этот строй, испещренный разнообразными нравами, может показаться всего прекраснее. Вероятно, многие подобно детям и женщинам, любующимся всем пестрым, решат, что он лучше всех.
— Конечно.
— При нем удобно, друг мой, избрать государственное устройство.
— Что ты имеешь в виду?
— Да ведь вследствие возможности делать что хочешь он заключает в себе все роды государственных устройств. Пожалуй, если у кого появится желание, как у нас с тобой, основать государство, ему необходимо будет отправиться туда, где есть демократия, и уже там, словно попав на рынок, где торгуют всевозможными правлениями, выбрать то, которое ему нравится, а сделав выбор, основать свое государство.
— Вероятно, там не будет недостатка в образчиках.
— В демократическом государстве нет никакой надобности принимать участие в управлении, даже если ты к этому и способен; не обязательно и подчиняться, если ты не желаешь, или воевать, когда другие воюют, Или соблюдать подобно другим условия мира, если ты мира не жаждешь. И опять-таки, если какой-нибудь закон запрещает тебе управлять либо судить, ты все же можешь управлять и судить, если это тебе придет в голову. Разве не чудесна на первый взгляд и не соблазнительна подобная жизнь?
— Пожалуй, но лишь ненадолго.
— Далее. Разве не великолепно там милосердие в отношении некоторых осужденных? Или ты не видел, как при таком государственном строе люди, приговоренные к смерти или к изгнанию, тем не менее остаются и продолжают вращаться в обществе: словно никому до него нет дела и никто его не замечает, разгуливает такой человек прямо как полубог.
— Да, и таких бывает много.
— Эта снисходительность вовсе не мелкая подробность демократического строя; напротив, в этом сказывается презрение ко всему тому, что мы считали важным, когда основывали наше государство. Если у человека, говорили мы, не выдающаяся натура, он никогда не станет добродетельным; то же самое если с малолетства — в играх и в своих занятиях — он не соприкасается с прекрасным. Между тем демократический строй, высокомерно поправ все это, нисколько не озабочен тем, от каких кто занятий переходит к государственной деятельности. Человеку оказывается почет, лишь бы он обнаруживал свое расположение к толпе.
— Да, весьма благородная снисходительность!
— Эти и подобные им свойства присущи демократии — строю, не имеющему должного управления, но приятному и разнообразному. При нем существует своеобразное равенство — уравнивающее равных и неравных.
— Нам хорошо знакомо — то, о чем ты говоришь.
["Демократический" человек]
— Взгляни же, как эти свойства отразятся на отдельной личности. Или, может быть, надо сперва рассмотреть, как в ней складываются эти черты, подобно тому как мы рассматривали сам государственный строй?
— Да, это надо сделать.
— Не будет ли это происходить вот как: у бережливого представителя олигархического строя, о котором мы говорили, родится сын и будет воспитываться, я думаю, в нравах своего отца.
— Так что же?
— Он тоже будет усилием воли подавлять в себе те вожделения, что ведут к расточительству, а не к наживе: их можно назвать лишенными необходимости.
— Ясно.
— Хочешь, чтобы избежать неясности в нашей беседе, сперва определим, какие вожделения необходимы, а какие нет?
— Хочу.
— Те вожделения, от которых мы не в состоянии избавиться, можно было бы по справедливости назвать нe необходимыми, а также и те, удовлетворение которых приносит нам пользу: подчиняться как тем, так и другим неизбежно уже по самой нашей природе. Разве не так?
— Конечно, так.
— Значит, об этих наклонностях мы вправе будем сказать, что они неизбежны.
— Да, вправе.
— Что же? А те, от которых человек может избавиться, если приложит старания с юных лет, и которые вдобавок не приносят ничего хорошего, а некоторые из них, наоборот, ведут к дурному? Назвав их лишенными необходимости, мы дали бы верное обозначение.
— Да, вполне верное.
— Не взять ли нам сперва примеры тех и других вожделений и не посмотреть ли, каковы они, чтобы дать затем общий их образец?
— Да, это нужно сделать.
— Потребность в питании, то есть в хлебе и в приправе, не является ли необходимостью для того, чтобы быть здоровым и хорошо себя чувствовать?
— Думаю, что да.
— Потребность в хлебе необходима в двух отношениях, поскольку она и на пользу нам, и не может прекратиться, пока человек живет.
— Да.
— Потребность же в приправе необходима постольку, поскольку приправа полезна для хорошего самочувствия.
— Конечно.
— А как обстоит с тем, что сверх этого, то есть с вожделением к иной, избыточной пище? Если это вожделение обуздывать с малолетства и отвращать от него путем воспитания, то большинство может от него избавиться: ведь оно вредно для тела, вредно и для души, так как не развивает ни разума, ни рассудительности. Правильно было бы назвать его лишенным необходимости.
— Да, более чем правильно.
— И не назвать ли нам эти вожделения разорительными, а те, другие, прибыльными, потому что они помогают работе?
— Да, конечно.
— Так же точно скажем мы о любовных и прочих подобных же вожделениях.
— Да, именно так.
— А тот, кого мы теперь назвали трутнем, весь преисполнен таких лишенных необходимости желаний и вожделений, под властью которых он находится, тогда как человеком бережливым, олигархического типа, владеют лишь необходимые вожделения.
— Ну конечно.
— Так вот, вернемся к тому, как из олигархического человека получается демократический. Мне кажется, что большей частью это происходит следующим образом...
— А именно?
— Когда юноша, выросший, как мы только что говорили, без должного воспитания и в обстановке бережливости, вдруг отведает меда трутней и попадет в общество опасных и лютых зверей, которые способны доставить ему всевозможные наслаждения, самые пестрые и разнообразные, это-то и будет у него, поверь мне, началом перехода от олигархического типа к демократическому.
— Да, совершенно неизбежно.
— Как в государстве происходит переворот, когда некоторой части его граждан оказывается помощь извне вследствие сходства взглядов, так и юноша меняется, когда некоторой части его вожделений помогает извне тот вид вожделений, который им родствен и подобен.
— Да, несомненно.
— И я думаю, что в случае, когда в противовес этому что-то помогает его олигархическому началу, будь то уговоры или порицания отца либо остальных членов семьи, в нем возникает возмущение и противоборство ему, а также борьба с самим собою.
— Конечно.
— Иной раз, по-моему, демократическое начало уступает олигархическому, часть вожделений отмирает, иные изгоняются, в душе юноши появляется какая-то стыдливость, и все опять приходит в порядок.
— Это случается иногда.
— Но затем, думаю я, другие вожделения, родственные изгнанным, потихоньку развиваясь, вследствие неумелости отца как воспитателя становятся многочисленными и сильными.
— Обычно так и бывает.
— Они влекут юношу к его прежнему окружению, и от этого тайного общения рождается множество других вожделений.
— Конечно.
— В конце же концов, по-моему, они, заметив, что акрополь его души пуст, захватывают его у юноши, ибо пет там ни знаний, ни хороших навыков, ни правдивых речей — всех этих лучших защитников и стражей рассудка людей, любезных богам.
— Несомненно.
— Вместо них, думаю я, на него совершат набег ложные мнения и хвастливые речи и займут у юноши эту крепость.
— Безусловно.
— И вот он снова вернется к тем лотофагам[276] и открыто поселится там. Если же его родные двинут войско на выручку бережливого начала его души, то его хвастливые речи запрут в нем ворота царской стены, не впустят союзного войска, не примут даже послов, то есть разумных доводов людей постарше и поумнее, хотя бы то были всего лишь частные лица; в битве с бережливым началом они одержат верх и с бесчестием, как изгнанницу, вытолкнут вон стыдливость, обозвав ее глупостью, а рассудительность назовут недостатком мужества и выбросят ее, закидав грязью[277]. В убеждении, что умеренность и порядок в расходовании средств — это деревенское невежество и черта низменная, они удалят их из своих пределов, опираясь на множество бесполезных прихотей.
— Да, это-то уж непременно.
— Опорожнив и очистив душу юноши, уже захваченную ими и посвященную в великие таинства, они затем низведут туда, с большим блеском, в сопровождении многочисленного хора, наглость, разнузданность и распутство, увенчивая их венками и прославляя в смягченных выражениях: наглость они будут называть просвещенностью, разнузданность — свободою, распутство — великолепием, бесстыдство — мужеством. Разве не именно так человек, воспитанный в границах необходимых вожделений, уже в юные годы переходит к развязному потаканию вожделениям, лишенным необходимости и бесполезным?
— Это совершенно очевидно.
— Потом в жизни такого юноши, думаю я, трата денег, усилий и досуга на необходимые удовольствия станет ничуть не больше, чем на лишенные необходимости. Но если, на его счастье, вакхическое неистовство не будет у него чрезмерным, а к тому же он станет немного постарше и главное смятение отойдет уже в прошлое, он отчасти вернется к своим изгнанным было вожделениям, не полностью станет отдаваться тем, которые вторглись, и в его жизни установится какое-то равновесие желаний: всякий раз он будет подчиняться тому из них, которое ему словно досталось по жребию, пока не удовлетворит его полностью, а уж затем другому желанию, причем ни одного он не отвергнет, но все будет питать поровну.
— Конечно.
— И все же он не примет верного рассуждения, не допустит его в свою крепость, если кто-нибудь ему скажет, что одни удовольствия бывают следствием хороших, прекрасных вожделений, а другие — дурных и что одни вожделения надо развивать и уважать, другие же — пресекать и подчинять. В ответ он будет отрицательно качать головой и говорить, что все вожделения одинаковы и заслуживают равного уважения.
— Подобного рода люди именно так и поступают.
— Изо дня в день такой человек живет, угождая первому налетевшему на него желанию: то он пьянствует под звуки флейт, то вдруг пьет одну только воду и изнуряет себя, то увлекается телесными упражнениями; а бывает, что нападает на него лень, и тогда ни до чего ему нет охоты. Порой он проводит время в беседах, кажущихся философскими. Часто занимают его общественные дела: внезапно он вскакивает, и что придется ему в это время сказать, то он и выполняет. Увлечется он людьми военными — туда его и несет, а если дельцами, то тогда в эту сторону. В его жизни нет порядка, в ней не царит необходимость: приятной, вольной и блаженной называет он эту жизнь и так все время ею и пользуется.
— Ты отлично показал уклад жизни человека, которому все безразлично.
— Я нахожу, что этот человек так же разнообразен, многолик, прекрасен и пестр, как его государство. Немало мужчин и женщин позавидовали бы жизни, в которой совмещается множество образчиков государственных укладов и нравов.
— Да, это так.
— Что ж? Допустим ли мы, что подобного рода человек соответствует демократическому строю и потому мы вправе назвать его демократическим?
— Допустим.
— Но самое дивное государственное устройство и самого дивного человека нам еще остается разобрать: это — тирания и тиран.
— Вот именно.
[Тирания]
— Ну, так давай рассмотрим, милый друг, каким образом возникает тирания. Что она получается из демократии, это-то, пожалуй, ясно.
— Ясно.
— Как из олигархии возникла демократия, не так же ли и из демократии получается тирания?
— То есть?
— Благо, выдвинутое как конечная цель — в результате чего и установилась олигархия, — было богатство, не так ли?
— Да.
— А ненасытное стремление к богатству и пренебрежение всем, кроме наживы, погубили олигархию.
— Правда.
— Так вот, и то, что определяет как благо демократия и к чему она ненасытно стремится, именно это ее и разрушает.
— Что же она, по-твоему, определяет как благо?
— Свободу. В демократическом государстве только и слышишь, как свобода прекрасна и что лишь в таком государстве стоит жить тому, кто свободен по своей природе.
— Да, подобное изречение часто повторяется.
— Так вот, как я только что и начал говорить, такое ненасытное стремление к одному и пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготовляет нужду в тирании.
— Как это?
— Когда во главе государства, где демократический строй и жажда свободы, доведется встать дурным виночерпиям, государство это сверх должного опьяняется победой в неразбавленном виде, а своих должностных лиц карает, если те недостаточно снисходительны и не предоставляют всем полной свободы, и обвиняет их в мерзком олигархическом уклоне.
— Да, так оно и бывает.
— Граждан, послушных властям, там смешивают с грязью как ничего не стоящих добровольных рабов, зато правители, похожие на подвластных, и подвластные, похожие на правителей, там восхваляются и уважаются как в частном, так и в общественном обиходе. Разве в таком государстве не распространится неизбежно на все свобода?
— Как же иначе?
— Она проникнет, мой друг, и в частные дома, а в конце концов неповиновение привьется даже животным.
— Как это понимать?
— Да, например, отец привыкает уподобляться ребенку и страшиться своих сыновей, а сын — значить больше отца; там не станут почитать и бояться родителей (все под предлогом свободы!), переселенец уравняется с коренным гражданином, а гражданин — с переселенцем; то же самое будет происходить и с чужеземцами.
— Да, бывает и так.
— А кроме того, разные другие мелочи: при таком порядке вещей учитель боится школьников и заискивает перед ними, а школьники ни во что не ставят своих учителей и наставников. Вообще молодые начинают подражать взрослым и состязаться с ними в рассуждениях и в делах, а старшие, приспособляясь к молодым и подражая им, то и дело острят и балагурят, чтобы не казаться неприятными и властными.
— Очень верно подмечено.
— Но крайняя свобода для народа такого государства состоит в том, что купленные рабы и рабыни ничуть не менее свободны, чем их покупатели. Да, мы едва не забыли сказать, какое равноправие и свобода существуют там у женщин по отношению к мужчинам и у мужчин по отношению к женщинам.
— По выражению Эсхила, "мы скажем то, что на устах теперь".[278]
— Вот именно, я тоже так говорю. А насколько здесь свободнее, чем в других местах, участь животных, подвластных человеку, — этому никто не поверил бы, пока бы сам не увидел. Прямо-таки по пословице: "Собаки — это хозяйки", [279]лошади и ослы привыкли здесь выступать важно и с полной свободой, напирая на встречных, если те не уступают им дороги! Так-то вот и все остальное преисполняется свободой.
— Ты мне словно пересказываешь мой же собственный сон: я ведь и сам часто терплю от них, когда езжу в деревню.
— Если собрать все это вместе, самым главным будет, как ты понимаешь, то, что душа граждан делается Крайне чувствительной, даже по мелочам: все принудительное вызывает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат они, как ты знаешь, тем, что перестанут считаться даже с законами — писаными или Неписаными, — чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем Be было над ними власти.
— Я это хорошо знаю.
— Так вот, мой друг, именно из этого правления, такого прекрасного и по-юношески дерзкого, и вырастает, как мне кажется, тирания.
— Действительно, оно дерзкое. Что же, однако, дальше?
— Та же болезнь, что развилась в олигархии и ее погубила, еще больше и сильнее развивается здесь — из-за своеволия — и порабощает демократию. В самом деле, все чрезмерное обычно вызывает резкое изменение в противоположную сторону, будь то состояние погоды, растений или тела. Не меньше наблюдается это и в государственных устройствах.
— Естественно.
— Ведь черезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для государства обращается не по что иное, как в чрезмерное рабство.
— Оно и естественно.
— Так вот, тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство.
— Это не лишено основания.
— Но, думаю я, ты не об этом спрашивал, а о том, какая болезнь, встречающаяся в олигархии, так же точно подтачивает демократию и порабощает ее.
— Ты верно говоришь.
— Этой болезнью я считал появление особого рода людей, праздных и расточительных, под предводительством отчаянных смельчаков, за которыми тянутся и не столь смелые: мы их уподобили трутням, часть которых имеет жало, а часть его лишена.
— Это правильно.
— Оба этих разряда, чуть появятся, вносят расстройство в любой государственный строй, как воспаление и желчь — в тело. И хорошему врачу, и государственному законодателю надо заранее принимать против них меры не менее, чем опытному пчеловоду, — главным образом, чтобы не допустить зарождения трутней, — но, если уж они появятся, надо вырезать вместе с ними и соты.
— Клянусь Зевсом, это уж непременно.
— Чтобы нам было виднее то, что мы хотим различить, сделаем следующее...
— А именно?
[Три "части" демократического государства: трутни, богачи и народ]
— Разделим мысленно демократическое государство на три части — да это и в действительности так обстоит. Одну часть составят подобного рода трутни: они возникают здесь хоть и вследствие своеволия, но не меньше, чем при олигархическом строе.
— Это так.
— Но здесь они много ядовитее, чем там.
— Почему?
— Там они не в почете, наоборот, их отстраняют от занимаемых должностей, и потому им не на чем набить себе руку и набрать силу. А при демократии они, за редкими исключениями, чуть ли не стоят во главе: самые ядовитые из трутней произносят речи и действуют, а остальные усаживаются поближе к помосту, жужжат и не допускают, чтобы кто-нибудь говорил иначе. Выходит, что при таком государственном строе всем, за исключением немногого, распоряжаются подобные люди.
— Конечно.
— Из состава толпы всегда выделяется и другая часть...
— Какая?
— Из дельцов самыми богатыми большей частью становятся самые упорядоченные по своей природе.
— Естественно.
— С них-то трутням всего удобнее собрать побольше меду.
— Как же его и возьмешь с тех, у кого его мало?
— Таких богачей обычно называют сотами трутней.
— Да, пожалуй.
— Третий разряд составляет народ — те, что трудятся своими руками, чужды делячества, да и имущества у них немного. Они всего многочисленнее и при демократическом строе всего влиятельнее, особенно когда соберутся вместе.
— Да, но у них нет желания делать это часто, если им не достается их доля меда.
— А разве они не всегда в доле, поскольку власти имеют возможность отнять собственность у имущих и раздать ее народу, оставив, правда, большую часть себе?
— Таким-то способом они всегда получат свою долю.
— А те, у кого отбирают имущество, бывают вынуждены защищаться, выступать в народном собрании и вообще действовать насколько это возможно.
— Конечно.
— И хотя бы они и не стремились к перевороту, кое-кто все равно обвинит их в кознях против народа и в стремлении к олигархии.
— И что же?
— В конце концов, когда они видят, что народ, обманутый клеветниками, готов не со зла, а по неведению расправиться с ними, тогда они волей-неволей становятся уже действительными приверженцами олигархии. Они тут не при чем: просто тот самый трутень ужалил их и от этого в них зародилось такое зло.
— Вот именно.
— Начинаются обвинения, судебные разбирательства, тяжбы.
— Конечно.
— А разве народ не привык особенно отличать кого-то одного, ухаживать за ним и его возвеличивать?
— Конечно, привык.
— Значит, уж это-то ясно, что, когда появляется тиран, он вырастает именно из этого корня, то есть как ставленник народа[280].
— Да, совершенно ясно.
"Тиранический" человек
— С чего же начинается превращение такого ставленника в тирана? Впрочем, ясно, что это происходит, когда он начинает делать то же самое, что в том сказании, которое передают относительно святилища Зевса Ликейского в Аркадии.
— А что именно?
— Говорят, что, кто отведал человеческих внутренностей, мелко нарезанных вместе с мясом жертвенных животных, тому не избежать стать волком. Или ты не слыхал такого предания?
— Слыхал.
— Разве не то же и с представителем народа? Имея в руках чрезвычайно послушную толпу, разве он воздержится от крови своих соплеменников? Напротив, как это обычно бывает, он станет привлекать их к суду по несправедливым обвинениям и осквернит себя, отнимая у человека жизнь: своими нечестивыми устами и языком он будет смаковать убийство родичей. Карая изгнанием и приговаривая к страшной казни, он между тем будет сулить отмену задолженности и передел земли. После всего этого разве не суждено такому человеку неизбежно одно из двух: либо погибнуть от руки своих врагов, либо же стать тираном и превратиться из человека в волка?
— Да, это ему неизбежно суждено.
— Он — тот, кто подымает восстание против обладающих собственностью.
— Да, он таков.
— Если он потерпел неудачу, подвергся изгнанию, а потом вернулся — назло своим врагам, — то возвращается он уже как законченный тиран.
— Это ясно.
— Если же те, кто его изгнал, не будут в состоянии его свалить снова и предать казни, очернив в глазах граждан, то они замышляют его тайное убийство.
— Обычно так и бывает.
— Отсюда это общеизвестное требование со стороны тиранов: чуть только они достигнут такой власти, они велят народу назначить им телохранителей, чтобы народный заступник был невредим.
— Это уж непременно.
— И народ, конечно, дает их ему, потому что дорожит его жизнью, за себя же пока вполне спокоен.
— Безусловно.
— А когда увидит это человек, имеющий деньги, вместе с деньгами и основание ненавидеть народ, он тотчас же, мой друг, как гласило прорицание Крезу,
...к берегам песчанистым Герма Без оглядки бежит, не стыдясь прослыть малодушным.[281]
— Во второй раз ему и не довелось бы стыдиться.
— Если бы его захватили, он был бы казнен.
— Непременно.
— А тот, народный ставленник, ясно, не покоится "величествен... на пространстве великом", [282]но, повергнув многих других, прямо стоит на колеснице своего государства уже не как представитель народа, а как совершенный тиран.
— Еще бы.
— Разбирать ли нам, в чем счастье этого человека того государства, в котором появляется подобного рода смертный?
— Конечно, надо разобрать.
— В первые дни, вообще в первое время он приветливо улыбается всем, кто бы ему ни встретился, а о себе утверждает, что он вовсе не тиран; он дает много себе утверждает, что он вовсе не тиран; он дает много обещаний частным лицам и обществу; он освобождает людей от долгов и раздает землю народу и своей свите. Так притворяется он милостивым ко всем и кротким.
— Это неизбежно.
— Когда же он примирится кое с кем из своих врагов, а иных уничтожит, так что они перестанут его беспокоить, я думаю, первой его задачей будет постоянно вовлекать граждан в какие-то войны, чтобы народ испытывал нужду в предводителе...
— Это естественно.
— ...да и для того, чтобы из-за налогов люди обеднели и перебивались со дня на день, меньше злоумышляя против него.
— Это ясно.
— А если он заподозрит кого-нибудь в вольных мыслях и в отрицании его правления, то таких людей он уничтожит под предлогом, будто они предались неприятелю. Ради всего этого тирану необходимо постоянно будоражить всех посредством войны.
— Да, необходимо.
— Но такие действия сделают его все более и более ненавистным для граждан.
— Конечно.
— Между тем и некоторые из влиятельных лиц, способствовавших его возвышению, станут открыто, да и в разговорах между собой выражать ему свое недовольство всем происходящим — по крайней мере, те, что посмелее.
— Вероятно.
— Чтобы сохранить за собою власть, тирану придется их всех уничтожить, так что в конце концов не останется никого ни из друзей, ни из врагов, кто бы на что-то годился.
— Ясно.
— Значит, тирану надо зорко следить за тем, кто мужествен, кто великодушен, кто разумен, кто богат. Благополучие тирана основано на том, что он поневоле враждебен всем этим людям и строит против них козни, пока не очистит от них государство.
— Дивное очищение, нечего сказать!
— Да, оно противоположно тому, что применяют врачи: те удаляют из тела все наихудшее, оставляя самое лучшее, здесь же дело обстоит наоборот.
— По-видимому, для тирана это необходимо, если . он хочет сохранить власть.
— Он связан блаженной необходимостью либо обитать вместе с толпой негодяев, притом тех, кто его ненавидит, либо проститься с жизнью.
— Да, связан.
— И не правда ли, чем более он становится ненавистен гражданам своими этими действиями, тем больше требуется ему верных телохранителей?
— Конечно.
— А кто ему верен? Откуда их взять?
— Их налетит сколько угодно, стоит лишь заплатить.
— Клянусь собакой, мне кажется, ты опять заговорил о каких-то трутнях, о чужеземном сброде.
— Это тебе верно кажется.
— Что же? Разве тиран не захочет иметь местных телохранителей?
— Каким образом?
— Он отберет у граждан рабов, освободит их и сделает своими копейщиками.
— В самом деле, к тому же они будут и самыми верными.
— Блаженным же существом назовешь ты тирана, раз подобного рода люди — его верные друзья, а прежних, подлинных, он погубил!
— Он принужден довольствоваться такими.
— Эти его сподвижники будут им восхищаться, его общество составят эти новые граждане, тогда как люди порядочные будут ненавидеть и избегать его.
— Несомненно.
— Недаром, видно, мудреное дело — сочинять трагедии, а ведь в этом особенно отличился Эврипид.
— Что ты имеешь в виду?
— Да ведь у него есть выражение, полное глубокого смысла:
Тираны мудры ведь, общаясь с мудрыми[283].
Он считает — это ясно, — что тиран общается с мудрецами.
— И как он до небес превозносит тираническую власть[284] и многое другое в этом деле — он и остальные поэты!
— Поэтому, раз уж трагические поэты такие мудрецы, пусть они и нас, и всех тех, кто разделяет наши Взгляды на общественное устройство, извинят, если мы не примем их в наше государство именно из-за того, что они так прославляют тираническую власть.
— Я-то думаю, они нас извинят, по крайней мере те, кто из них поучтивее.
— Обходя другие государства, собирая густую толпу, подрядив исполнителей с прекрасными, сильными, впечатляющими голосами, они привлекают граждан к тирании и демократии.
— Да, и при этом очень стараются.
— Мало того, они получают вознаграждение и им оказываются почести всего более, как это и естественно, со стороны тиранов, а на втором месте и от демократии. Но чем выше взбираются они к вершинам государственной власти, тем больше слабеет их почет, словно ему не хватает дыхания идти дальше.
— Действительно это так.
— Но мы с тобой сейчас отклонились, давай вернемся снова к этому войску тирана, столь многочисленному, великолепному, пестрому, всегда меняющему свой состав, и посмотрим, на какие средства оно содержится.
— Очевидно, тиран тратит на него храмовые средства, если они имеются в государстве, и, пока их изъятием можно будет покрывать расходы, он уменьшает обложение населения налогами.
— А когда эти средства иссякнут?
— Ясно, что тогда он будет содержать и самого себя, и своих сподвижников и сподвижниц уже на отцовские средства.
— Понимаю: раз народ породил тирана, народу же и кормить его и его сподвижников.
— Это тирану совершенно необходимо.
— Как это ты говоришь? А если народ в негодовании скажет, что взрослый сын не вправе кормиться за счет отца, скорей уж, наоборот, отец за счет сына, и что отец не для того родил сына и поставил его на ноги, чтобы самому, когда тот подрастет, попасть в рабство к своим же собственным рабам и кормить и сына, и рабов, и всякое отребье? Напротив, раз представитель народа так выдвинулся, народ мог бы рассчитывать освободиться от богачей и от так называемых достойных[285] людей; теперь же народ велит и ему, и его сподвижникам покинуть пределы государства: так отец выгоняет из дому сына вместе с его пьяной ватагой.
— Народ тогда узнает, клянусь Зевсом, что за тварь он породил, да еще и любовно вырастил; он убедится, насколько мощны те, кого он пытается выгнать своими слабыми силами.
— Что ты говоришь? Тиран посмеет насильничать над своим отцом и, если тот не отступится, прибегнет даже к побоям?
— Да, он отнимет оружие у своего отца.
— Значит, тиран — отцеубийца и плохой кормилец для престарелых; по-видимому, общепризнано, что таково свойство тиранической власти. По пословице, "избегая дыма, угодишь в огонь": [286]так и народ из подчинения свободным людям попадает в услужение к деспотической власти и свою неумеренную свободу меняет на самое тяжкое и горькое рабство — рабство у рабов.
— Это именно так и бывает.
— Что же? Можно ли без преувеличения сказать, что мы достаточно разобрали, как из демократии получается тирания и каковы ее особенности?
— Вполне достаточно.
КНИГА ДЕВЯТАЯ.
— Остается рассмотреть самого человека при тираническом строе, иначе говоря, как он развивается из человека демократического, каковы его свойства и что у него за жизнь — бедственная или, напротив, счастливая.
— Да, пока он остался у нас без рассмотрения.
— Знаешь ли, что мне еще желательно?
— Что?
[Анализ вожделений]
—По-моему, мы недостаточно разобрали вожделения — в чем они состоят и сколько их. А раз этого не хватает, не будет полной ясности и в том исследовании, которое мы предпринимаем.[287]
— Стало быть, уместно разобрать это сейчас.
— Конечно. Посмотри, что мне хочется здесь выяснить: из тех удовольствий и вожделений, которые лишены необходимости, некоторые представляются мне противозаконными. Они, пожалуй, присущи всякому человеку, но, обуздываемые законами и лучшими вожделениями, либо вовсе исчезают у некоторых людей, либо ослабевают, и их остается мало. Однако есть си такие люди, у которых они становятся и сильнее, и многочисленнее.
— О каких вожделениях ты говоришь?
[Вожделения, пробуждающиеся во время сна]
— О тех, что пробуждаются во время сна когда дремлет главное, разумное и кроткое, начало души, зато начало дикое, звероподобное под влиянием сытости и хмеля вздымается на дыбы, отгоняет от себя сон и ищет, как бы это удовлетворить свой норов. Тебе известно, что в таком состоянии оно отваживается на все, откинув всякий стыд и разум. Если ему вздумается, оно не остановится даже перед попыткой сойтись с своей собственной матерью, да и с кем попало из людей, богов или зверей; оно осквернит себя каким угодно кровопролитием и не воздержится ни от какой пищи. Одним словом, ему все нипочем в его бесстыдстве и безрассудстве.
— Сущая правда.
— Когда же человек соблюдает себя в здоровой воздержности, он, отходя ко сну, пробуждает свое разумное начало, потчует его прекрасными доводами и рассуждениями и таким образом воздействует на свою совесть. Вожделеющее же начало он хоть и не заглушает вовсе, но и не удовлетворяет его до пресыщения: пусть оно успокоится и не тревожит своими радостями и скорбями благороднейшее в человеке; пусть это последнее без помехи, само по себе, в совершенной своей чистоте стремится к исследованию и ощущению того, что ему еще не известно, будь то прошлое, настоящее или будущее. Точно так же человек укротит и яростное свое начало, для того чтобы не отходить ко сну взволнованным и разгневанным. Успокоив эти два вида свойственных ему начал и приведя в действие третий вид — тот, которому присуща разумность, — человек предается отдыху. Ты знаешь, что при таких условиях он скорее всего соприкоснется с истиной и меньше всего будут ему мерещиться во сне всякие беззаконные видения.
— Я совершенно с тобой согласен.
— Но мы слишком отклонились в сторону, говоря об этом. Мы хотели убедиться лишь вот в чем: какой-то страшный, беззаконный и дикий вид желаний таится внутри каждого человека, даже в тех из нас, что кажутся вполне умеренными: это-то и обнаруживается в сновидениях'. Суди сам, дело ли я говорю и допускаешь ли ты это.
— Конечно, допускаю.
— Так припомни, как мы обрисовали человека, ставшего демократом. Он чуть ли не с рождения, во всяком случае с малых лет, воспитывался бережливым отцом, который почитал лишь стяжательские вожделения и никакого почета не оказывал тем желаниям, без которых, по его мнению, можно обойтись и которые, как он считал, возникают лишь для забавы и красоты. Не так ли?
— Да, так.
— Общаясь с более изысканными людьми, преисполненными вожделений, которые мы только что разбирали, юноша втягивается в их образ жизни и всяческую разнузданность, потому что ему отвратительна отцовская скупость. Но по своей природе он лучше тех, кто его портит, поэтому он останавливается как бы посредине между обоими этими подходами к жизни: его тянет и в ту, и в другую сторону. Вкушая, как он считает, умеренно от обеих этих жизней, он живет не низменной жизнью и не беззаконной и превращается из человека олигархического в демократа.
— О подобного рода человеке составилось, да и до сих пор держится именно такое мнение.
[Тирания и незаконные вожделения. Образ тирана (продолжение)]
— Предположим опять-таки, что у этого человека, когда он станет постарше, будет молодой сын, воспитанный в нравах своего отца.
— Предположим.
— Предположи еще, что и с ним произойдет то же самое, что с его отцом: его станет тянуть ко всяческому беззаконию, которое его совратители называют полнейшей свободой. Отец и все остальные его близкие поддерживают в нем склонность соблюдать середину, но его совратители этому противодействуют. Когда же эти искусные чародеи и творцы тиранов не надеются как-либо иначе завладеть юношей, они ухитряются внушить ему какую-нибудь страсть, руководящую вожделениями к праздности и к растрате накопленного; такая страсть — прямо-таки огромный крылатый трутень. Или, по-твоему, это нечто иное?
— По моему, именно так.
— Вокруг этой страсти ходят ходуном прочие вожделения, за которыми тянется поток благовонных курений и мазей, венков, вин, безудержных наслаждений, обычных при такого рода общениях. До крайности раздув и вскормив жало похоти, эти вожделения снабжают им трутня, и тогда этот защитник души, охваченный неистовством, жалит. И если он захватит в юноше какое-нибудь мнение или желание, притязающее на порядочность и не лишенное еще стыдливости, он убивает их, выталкивает вон, пока тот совсем не очистится от рассудительности и не преисполнится нахлынувшим на него неистовством.
— Ты описываешь появление вылитого тирана.
— А разве не из-за всего этого и тому подобного Эрот[288] искони зовется тираном?
— Пожалуй.
— Да и у пьяного в голове, мой друг, разве происходит не то же, что у тирана?
— Видимо, так.
— Ну, а кто тронулся в уме и неистовствует, тот надеется справиться не то что с людьми, но даже с богами.
— Действительно.
— Человек, мой друг, становится полным тираном тогда, когда он пьян, или слишком влюбчив, или же сошел с ума от разлития черной желчи, — а все это из-за того, что либо такова его натура, либо привычки, либо то и другое.
— Совершенно верно.
— Видно, вот так и рождается подобный человек. Ну, а как же он живет?
— Есть шутливая поговорка: "Это и ты мне скажешь".[289]
— Скажу. По-моему, после этого пойдут у них празднества, шествия всей ватагой, пирушки, заведутся подружки, ну и так далее: ведь тиран-Эрот, обитающий в их душе, будет править всем, что в ней есть.
— Это неизбежно.
— С каждым днем и с каждой ночью будет расцветать много ужаснейших вожделений, предъявляющих непомерные требования.
— Да, их расцветет много.
— Значит, доходы, если какие и были, скоро иссякнут.
— Конечно.
— А за этим последуют заклады имущества и сокращение средств.
— И что же?
— Когда все истощится, тогда рой раздувшихся вожделений, угнездившихся в этих людях, начнет жужжать, и люди, словно гонимые стрекалом различных желаний, а особенно Эротом (ведь он ведет за собой все желания, словно телохранителей), станут жалить, высматривая, у кого что есть и что можно отнять с помощью обмана или насилия.
— Да, конечно.
— У них настоятельная потребность грабить, иначе придется терпеть невыносимые муки и страдания.
— Да, это неизбежно.
— Все возрастая, стремление такого человека к удовольствиям превосходит его прежние прихоти и их обездоливает; точно так же он сам начинает притязать на превосходство перед своим отцом и матерью, поскольку он их моложе, и, издержав свою долю, он будет присваивать и тратить отцовские деньги.
— И что же дальше?
— Если родители не допустят этого, разве он не попытается первым делом обокрасть их и обмануть?
— Непременно.
— А если бы это было ему невозможно, разве он не ограбил бы их, прибегнув к насилию?
— Я думаю, да.
— А если старики окажут сопротивление и вступят с ним в борьбу, разве он пощадит их и остережется поступков, свойственных тиранам?
— Я не поручусь за участь родителей такого человека.
— Но, ради Зевса, Адимант, неужели из-за какой-то новой своей подружки, без которой он мог бы и обойтись, он станет бить любимую с детства мать? Или ради цветущего юноши, с которым он только что подружился, хотя и без этого можно бы обойтись, он подымет руку на своего родного отца, пусть престарелого и отцветшего, но самого давнишнего из своих друзей? Неужели этот человек отдаст, по-твоему, своих родителей в рабство подобным людям, введя их в свой дом?
— Отдаст, клянусь Зевсом.
— Великое же счастье родить сына с тираническими наклонностями! [290]
— Да, величайшее!
— А что же с ним будет, когда истощатся у него и отцовские, и материнские средства, а между тем в нем скопился целый рой прихотей? Не заставит ли его это сначала покуситься на стены чужого дома либо на плащ запоздалого ночного прохожего, а затем дочиста ограбить какой-нибудь храм? Во всех этих поступках прежние его мнения о том, что прекрасно, а что гадко, усвоенные им с детских лет и считавшиеся правильными, покорятся власти недавно выпущенных на волю желании, сопровождающих Эрота и им возглавляемых. Раньше, пока человек подчинялся обычаям, законам и своему отцу и внутренне ощущал себя демократом, эти желания высвобождались у него лишь в сновидениях; теперь же, когда его тиранит Эрот, человек навсегда становится таким, каким изредка бывал во сне, — ему не удержаться ни от убийства, ни от обжорства, ни от проступка, как бы ужасно все это ни было: посреди всяческого безначалия и беззакония в нем тиранически живет Эрот. Как единоличный властитель, он доведет объятого им человека, словно подвластное ему государство, до всевозможной дерзости, чтобы любой ценой удовлетворить и себя, и сопровождающую его буйную ватагу, составившуюся из всех тех вожделений, что нахлынули на человека отчасти извне, из его дурного окружения, отчасти же изнутри, от бывших в нем самом такого же рода вожделений, которые он теперь распустил, дав им волю. Разве не такова жизнь подобного человека?
— Да, такова.
— Когда подобного рода людей в государстве немного, а все прочие мыслят здраво, те уезжают в чужие земли, служат там телохранителями какого-нибудь тирана или в наемных войсках, если где идет война. Когда же подобные вожделения проявляются у них в мирных условиях, то и у себя на родине они творят много зла, хотя и по мелочам.
— Что ты имеешь в виду?
— Да то, что они совершают кражи, подкапываются под стены, отрезают кошельки, раздевают прохожих, святотатствуют, продают людей в рабство. Бывает, что они занимаются и доносами, если владеют словом, а то и выступают с ложными показаниями или берут взятки.
— Нечего сказать, по мелочам! Так ведь ты выразился о причиняемом ими зле, когда таких людей немного?
— Да, по мелочам, потому что сравнительно с великим злом это действительно мелочи: ведь в смысле вреда и несчастья для государства все это лишено, как говорится, того размаха, каким отличается тиран. Когда в государстве наберется много таких людей и их последователей и они ощутят свою многочисленность, то как раз из их среды и рождается тиран, чему способствует безрассудство народа. Это будет тот из них, кто сам в себе, то есть в своей душе, носит самого великого и отъявленного тирана.
— Естественно, ведь такой человек и будет самым большим тираном.
— Если ему уступят без сопротивления; если же государство не допустит этого, тогда, как в недавно упомянутом примере у него поднялась рука на родных мать и отца, точно так же поступит он и со своей родиной, лишь только окажется в состоянии: он покарает ее тем, что введет в нее своих новых сподвижников; в рабстве у них будет содержаться и воспитываться некогда милая ему "родина-мать", [291]как говорят критяне, то есть его отечество. Вот конечная цель вожделений подобного человека.
— Она состоит именно в этом.
— Подобного рода люди таковы и в частной жизни, еще прежде, чем станут у власти. С кем бы они ни вступали в общение, они требуют лести и полной готовности к услугам, а когда сами в чем-нибудь нуждаются, тогда так и льнут к человеку, без стеснения делая вид, будто с ним близки, но чуть добьются своего — они опять чужие.
— Это очень верно подмечено.
— Значит, за всю свою жизнь они ни разу ни с кем не бывали друзьями; они вечно либо господствуют, либо находятся в рабстве: тираническая натура никогда не отведывала ни свободы, ни подлинной дружбы.
— Конечно.
— Разве не правильно было бы назвать таких людей не заслуживающими доверия?
— Как же иначе!
— Да и в высшей степени несправедливыми, если в нашей беседе мы правильно сделали раньше вывод относительно того, в чем заключается справедливость.
— Конечно, мы сделали его правильно.
— Итак, о крайне дурном человеке давай мы в общих чертах скажем так: это человек, который и наяву таков, как в тех сновидениях, что мы разбирали.
— Совершенно верно.
— А таким становится тот, кто при своих природных тиранических склонностях достигает единоличной власти, и, чем дольше он обладает такой властью, тем более он становится таким.
— Это уж обязательно, — сказал Главкон, в свою очередь вступая в беседу.
[Тираническая душа несчастна]
—Так вот, разве не окажется самым несчастным человеком тот, кто является отъявленным негодяем? И чем дальше и больше была бы в его руках власть, тем больше и на более долгий срок он был бы таким в действительности, хотя большинство представляет это себе по-разному.
— Нет, это необходимо обстоит именно так.
— А также и в отношении сходства: человек тиранический соответствует тиранически управляемому государству, а демократ — государству демократическому. И в остальных случаях то же самое?
— Как же иначе?
— И как государство относится к государству в смысле добродетели и благополучия, так и человек относится к человеку?
— Не иначе.
— А как, в смысле добродетели, относится государство с тираническим строем к государству, управляемому царем, которое мы разбирали раньше?
— Они совершенно противоположны друг другу: одно из них — самое благородное, другое — самое низкое.
— Я не стану спрашивать, какое из них ты считаешь каким, — это и без того ясно. Но в смысле процветания или, наоборот, бедности ты так же решаешь или иначе? Нас не должно поражать зрелище тирана, отдельно взятого или окруженного немногочисленной свитой, нам надо рассмотреть все государство в целом, 'войти в него, во все вникнуть и, присмотревшись, уже тогда высказывать о нем свое мнение.
— Твое требование правильно. Однако всякому ясно, что нет более жалкого государства, чем управляемое тиранически, и более благополучного, чем то, в котором правят цари.
— А если и применительно к отдельным людям я потребовал бы того же самого, разве мое требование не было бы правильным? Я считаю, что о них может судить лишь тот, кто способен рассматривать человека, вникая мысленно в его нрав, а не глядеть, как ребенок, только на внешность и поражаться всему тому, что у тиранов придумывается для представительства, чтобы произвести впечатление на посторонних: надо уметь в этом разбираться. Мне думается, всем нам следовало бы прислушаться к отзывам того, кто действительно имел возможность составить себе суждение, то есть кто проживал бы в одном доме с тираном, наблюдал бы его домашний обиход и его отношение к членам семьи: тогда тиран предстал бы перед нами в наиболее обнаженном виде, без этих пышных одеяний, словно для постановки трагедии. То же самое и когда положение в государстве принимает опасный оборот: кто наблюдал все это, пусть бы сообщил нам, как обстоит у тирана дело в смысле благополучия либо несчастья сравнительно с остальными людьми.
— И это твое требование было бы в высшей степени правильным.
— Хочешь, мы предположим, что принадлежим к числу тех, кто может так судить, или что мы уже встретились с подобного рода людьми? Тогда у нас было бы кому отвечать на наши вопросы.
— Конечно, хочу.
— Ну так подойди к рассмотрению этого вопроса вот каким образом: припомни, в чем сходство между государством и отдельным человеком, и по очереди бери ту или иную черту, указывая, каково при этом состояние того и другого.
— А именно как это делать?
— Прежде всего, если начать с государства: свободным или рабским ты назовешь государство с тираническим строем?
— Как нельзя более рабским.
— Однако ж ты видишь, что там есть господа и свободные люди.
— Да, вижу, но их совсем мало, а все государство в целом, да и самое в нем порядочное находится в позорном и бедственном рабстве.
— Раз отдельный [тиранический] человек подобен такому же государству, то и в нем необходимо должен быть тот же порядок: душа его преисполнена рабством и низостью, те же ее части, которые были наиболее порядочными, находятся в подчинении, а господствует лишь малая ее часть, самая порочная и неистовая.
— Это неизбежно.
— Что же, назовешь ли ты такую душу рабской или свободной?
— Я-то назову ее рабской.
— А ведь рабское и тиранически управляемое государство всего менее делает то, что хочет.
— Конечно.
— Значит, и тиранически управляемая душа всего менее будет делать что ей вздумается, если говорить о душе в целом. Всегда подстрекаемая и насилуемая яростным слепнем, она будет полна смятения и раскаяния.
— Несомненно.
— Богатым или бедным бывает по необходимости тиранически управляемое государство?
— Бедным.
— Значит, и тиранически управляемой душе приходится неизбежно быть всегда бедной и неудовлетворенной.
— Да, это так.
— Что же? Разве такое государство и такой человек не преисполнены неизбежно страха?
— И даже очень.
— Где еще, в каком государстве, по-твоему, больше горя, стонов, плача, страданий?
— Нигде.
— А думаешь ли ты, что всего этого больше у кого-нибудь другого, чем у человека тиранического, неистовствующего из-за своих вожделений и страстей?
— Конечно, у него этих переживаний больше, чем у любого.
— Глядя на все это и тому подобное, я думаю, ты решил, что такое государство — самое жалкое из государств?
— А разве это неверно?
— Даже очень верно. Но что ты скажешь о человеке с тираническими наклонностями, если заметишь в нем то же самое?
— Он много несчастливее всех остальных.
— Вот это ты уже говоришь неверно.
— Как так?
— Я думаю, что вовсе не он всех несчастнее.
— А кто же?
— Еще несчастнее его покажется тебе, пожалуй, вот какой человек...
— Какой?
— Да тот, кому при его тиранических наклонностях не удастся прожить весь свой век частным лицом, раз уж его постигнет такая беда, что какое-нибудь стечение обстоятельств позволит ему стать тираном.
— Из того, о чем у нас раньше шла речь, я заключаю, что ты прав.
— Да, но в таких вопросах нельзя довольствоваться общими соображениями, а нужно таким же способом, как раньше, исследовать все досконально. Ведь тут исследование касается самого главного — хорошей и дурной жизни.
— Совершенно верно.
— Посмотри же, дело ли я говорю. При рассмотрении этого вопроса надо, по-моему, исходить из следующего...
— Из чего именно?
— Да из того, в каком положении находится любой из богатых граждан, владелец многих рабов. Эти люди очень похожи на тиранов тем, что им подвластны многие: тут разница только в том, что тирану подвластно больше народа.
— Да, в этом вся разница.
— Как ты знаешь, такие люди живут спокойно и не боятся своей челяди.
— С чего же им бояться?
— Да не с чего. Но понимаешь ли ты, что этому причиной?
— Да то, что любому из частных лиц приходит на помощь все государство.
— Вот именно. Ну, а если кто из богов возьмет такого человека, имеющего пятьдесят или больше рабов, и перенесет его в пустыню вместе с женой, детьми, челядью и со всем имуществом — туда, где не найдется свободнорожденных людей, чтобы оказать ему помощь, — сколько бы у него, по-твоему, возникло разных опасений, страхов за себя, за детей и за жену, как бы их всех не погубила челядь?
— По-моему, он всегда был бы в страхе.
— Разве не стал бы он заискивать кое перед кем из своих рабов, не давал бы разные обещания, не начал бы отпускать их на волю без всякой надобности? Он сам оказался бы льстецом у своей прислуги.
— Это для него неизбежно: иначе он погибнет.
— Ну, а если вокруг него бог поселит множество соседей, однако таких, что они не выносят притязаний человека на господство и, если уж им подвернется такой человек, карают его крайними мерами?
— Тогда он и вовсе попадет в беду, раз его кругом сторожат одни лишь враги.
— А разве не в такой тюрьме содержится тот тиран, чью натуру мы разбирали? Ведь он полон множества разных страстей и страхов; со своей алчной душой только он один во всем государстве не смеет ни выехать куда-либо, ни пойти взглянуть на то, до чего охотники все свободнорожденные люди; большей частью он, словно женщина, живет затворником в своем доме и завидует остальным гражданам, когда кто-нибудь уезжает в чужие земли и может увидеть что-то хорошее.
[Осуществление тиранических наклонностей — еще худшее зло для человека, чем их подавление]
— Это бывает именно так.
— Вдобавок ко всем этим бедам еще хуже придется тому, кто внутренне плохо устроен, то есть человеку с тираническими наклонностями (ты недавно признал его самым несчастным), если он не проведет всю свою жизнь как частное лицо, а будет вынужден каким-то случаем действительно стать тираном и, не умея справиться с самим собой, попытается править другими. Это вроде того, как если бы человек слабого здоровья, не справляющийся со своими болезнями, проводил свою жизнь не в уединении, а, напротив, был бы вынужден бороться и состязаться с сильными и крепкими людьми.
— Между ними полнейшее сходство, Сократ, ты совершенно прав.
— Так не правда ли, дорогой мой Главкон, такое состояние — это, безусловно, несчастье, и жизнь того, кто сделался тираном, еще тяжелее жизни, которую ты признал самой тяжкой для человека?
— Да, это очевидно.
— Значит, хотя иной с этим и не согласится, но, по правде говоря, кто подлинно тиран, тот подлинно раб величайшей угодливости и рабства, вынужденный льстить самым дурным людям. Ему не удовлетворить своих вожделений, очень многого ему крайне недостает, он оказывается поистине бедняком, если кто умеет охватить взглядом всю его душу. Всю свою жизнь он полон страха, он содрогается и мучается, коль скоро он сходен со строем того государства, которым управляет. А сходство между ними ведь есть, не правда ли?
— И притом большое.
— Кроме того, мы отметим в этом человеке те черты, о которых мы уже говорили раньше: власть неизбежно делает его завистливым, вероломным, несправедливым, недружелюбным и нечестивым; он поддерживает и питает всяческое зло; все это постепенно разовьется в нем еще больше; он будет чрезвычайно несчастен и такими же сделает своих близких.
— Никто из людей со здравым смыслом не станет . этого оспаривать.
[Градация пяти складов души по степени счастья]
— Так подойди же! В таком случае у нас словно уже имеется судья по всем этим вопросам. Итак, выноси решение: кто, по-твоему, займет первое место по счастью, кто — второе и так далее из пяти представителей — царского строя, тимократии, олигархии, демократии и тирании?
— Решение вынести нетрудно: в смысле добродетели и порока, счастья и его противоположности я ставлю их в том же порядке, в каком они выступали перед нами подобно театральным хорам[292].
— Так давай наймем глашатая! Или я сам объявлю, что сын Аристона вынес решение считать самым счастливым самого добродетельного и справедливого человека, а таким будет человек наиболее царственный, властвующий над самим собой; самым несчастным он считает самого порочного и несправедливого, а таким будет тот, кто и сам для себя худший тиран, да еще и до крайности тиранит свое государство.
— Пусть у тебя так и будет объявлено!
— А не добавить ли мне еще, что все это независимо от того, останутся ли эти их свойства тайной для всех людей и богов?
— Добавь и это.
— Пусть так! Пусть это будет нашим первым доказательством. Другим должно быть вот какое, если только оно убедительно...
— Что же это за доказательство?
[Соответствие трех начал человеческой души трем сословиям государства и трем видам удовольствий]
— Раз государство подразделяется на три сословия, то и в душе каждого отдельного человека можно различить три начала[293]. Здесь, мне кажется, возможно еще одно доказательство.
— Какое же?
— Следующее: раз в душе имеются три начала, им, на мой взгляд, соответствуют три вида удовольствий, каждому началу свой. Точно так же подразделяются вожделения и власть над ними.
— Что ты имеешь в виду?
— Мы говорили, что одно начало — это то, посредством которого человек познает, другое — посредством которого он распаляется, третьему же, из-за его многообразия, мы не смогли подыскать какого-нибудь одного, присущего ему, обозначения и потому назвали его по тому признаку, который в нем выражен наиболее резко: мы нарекли его вожделеющим — из-за необычайной силы вожделений к еде, питью, любовным утехам и всему тому, что с этим связано. Сюда относится и сребролюбие, потому что для удовлетворения таких вожделений очень нужны деньги.
— Да, мы правильно это назвали.
— Если бы мы даже про наслаждение и любовь этого начала сказали, что они направлены на выгоду, мы всего более выразили бы таким образом одну из его главных особенностей, так что нам всякий раз было бы ясно, о какой части души идет речь; и, если бы мы назвали это начало сребролюбивым и корыстолюбивым, разве не было бы правильным такое наименование?
— Мне-то кажется, что да.
— Дальше. Не скажем ли мы, что яростный дух всегда и всецело устремлен на то, чтобы взять верх над кем-нибудь, победить и прославиться?
— Безусловно.
— Так что, если мы назовем его честолюбивым и склонным к соперничеству, это будет уместно?
— В высшей степени.
— Ну, а то начало, посредством которого мы познаем? Всякому ясно, что оно всегда и полностью направлено на познание истины, то есть того, в чем она состоит, а о деньгах и молве заботится всего менее.
— Даже совсем не заботится.
— Назвав его познавательным и философским, мы обозначили бы его подходящим образом?
— Конечно.
— Но у одних людей правит в душе одно начало, а у других — другое; это уж как придется.
— Да, это так.
— Поэтому давай прежде всего скажем, что есть три рода людей: одни — философы, другие — честолюбцы, третьи — сребролюбцы.
— Конечно.
— И что есть три вида удовольствий соответственно каждому из этих видов людей.
— Несомненно.
— А знаешь, если у тебя явится желание спросить поочередно этих трех людей, какая жизнь всего приятнее, каждый из них будет особенно хвалить свою. Делец скажет, что в сравнении с наживой удовольствие от почета или знаний ничего не стоит, разве что и из этого можно извлечь доход.
— Верно.
— А честолюбец? Разве он не считает, что удовольствия, доставляемые деньгами, — это нечто пошлое, а с другой стороны, удовольствие от знаний, поскольку наука не приносит почета, — это просто дым?
— Да, он так считает.
— Чем же, думаем мы, считает философ все прочие удовольствия сравнительно с познанием истины — в чем она состоит — и постоянным расширением своих знаний в этой области? Разве он не находит, что все прочее очень далеко от удовольствия? Да и в других удовольствиях он ничуть не нуждается, разве что их уж нельзя избежать: поэтому-то он и называет их необходимыми.
— Это следует хорошо знать.
— А когда под сомнение берутся удовольствия и даже сам образ жизни каждого из трех видов людей — не с точки зрения того, чье существование прекраснее или постыднее, лучше или хуже, а просто спор идет о том, что приятнее и в чем меньше страданий, — как нам узнать, кто из них всего более прав?
— На это я затрудняюсь ответить.
— А ты взгляни вот как: на чем должно основываться суждение, чтобы оно было верным? Разве не на опыте, на разуме и на доказательстве? Или есть лучшее мерило, чем это?
— Нет, конечно.
— Так посмотри: из этих трех человек кто всего опытнее в тех удовольствиях, о которых мы говорили? У корыстолюбца ли больше опыта в удовольствии от познания, когда человек постигает самое истину, какова она, или же философ опытнее в удовольствии от корысти?
— Философ намного превосходит корыстолюбца; ведь ему неизбежно пришлось отведать того и другого с самого детства, тогда как корыстолюбцу, даже если он по своим природным задаткам способен постигнуть сущее, нет необходимости отведать этого удовольствия и убедиться на опыте, как оно сладостно; более того, пусть бы он и стремился к этому, для него это нелегко.
— Стало быть, философ намного превосходит корыстолюбца опытностью в том и другом удовольствии.
— Конечно, намного.
— А как насчет честолюбца? Более ли неопытен философ в удовольствии, получаемом от почета, чем тот — в удовольствии от разумения?
— Но ведь почетом пользуется каждый, если достиг своей цели. Многие почитают богатого человека, мужественного или мудрого, так что в удовольствии от почета все имеют опыт и знают, что это такое. А какое удовольствие доставляет созерцание бытия, этого никому, кроме философа, вкусить не дано.
— Значит, из тех трех его суждение благодаря его опытности будет наилучшим.
— Несомненно.
— И лишь один он будет обладать опытностью в сочетании с разумом.
— Конечно.
— Но и то орудие, посредством которого можно судить, принадлежит не корыстолюбцу и не честолюбцу, а философу.
— Какое орудие?
— Мы сказали, что судить надо при помощи доказательств, не так ли?
— Да.
— Доказательства — это и есть преимущественно орудие философа.
— Безусловно.
— Если то, что подлежит суду, судить на основании богатства или корысти, тогда похвала либо порицание со стороны корыстолюбца непременно были бы самыми верными суждениями.
— Наверняка.
— А если судить на основании почета, победы, мужества, тогда, не правда ли, верными были бы суждения честолюбца, склонного к соперничеству?
— Это ясно.
— А если судить с помощью опыта и доказательства?
— То, что одобряет человек, любящий мудрость и доказательство, непременно должно быть самым верным.
— Итак, поскольку имеются три вида удовольствии, значит, то из них, что соответствует познающей части души, будет наиболее полным, и, в ком из нас эта часть преобладает, у того и жизнь будет всего приятнее.
— Как же ей и не быть? Недаром так расценивает свою жизнь человек разумный — главный судья в этом деле.
— А какой жизни и каким удовольствиям отведет наш судья второе место?
— Ясно, что удовольствиям человека воинственного и честолюбивого — они ближе к первым, чем удовольствия приобретателя.
— По-видимому, на последнем месте стоят удовольствия корыстолюбца.
— Конечно.
— Итак, вот прошли подряд как бы два состязания и дважды вышел победителем человек справедливый, а несправедливый проиграл. Теперь пойдет третье состязание[294], олимпийское, в честь Олимпийского Зевса: заметь, что у всех, кроме человека разумного, удовольствия не вполне подлинны, скорее они напоминают теневой набросок; так, помнится, я слышал от кого-то из знатоков, — а ведь это означало бы уже полнейшее поражение.
— Еще бы! Но что ты имеешь в виду?
[Удовольствие и страдание. Отличие подлинного удовольствия от простого прекращения страданий]
— Я это найду, если ты мне поможешь своими ответами.
— Задавай же вопросы.
— Скажи-ка, не говорим ли мы, что страдание противоположно удовольствию?
— Конечно.
— А бывает ли что-нибудь ни радостным, ни печальным?
— Бывает.
— Посредине между этими двумя состояниями будет какое-то спокойствие души в отношении того и другого? Или ты это называешь иначе?
— Нет, так.
— Ты помнишь слова больных — что они говорят, когда хворают?
— А именно?
— Они говорят: нет ничего приятнее, чем быть здоровым. Но до болезни они не замечали, насколько это приятно.
— Да, помню.
— И если человек страдает от какой-либо боли, ты слышал, как говорят, что приятнее всего, когда боль прекращается?
— Слышал.
— И во многих подобных же случаях ты замечаешь, я думаю, что люди, когда у них горе, мечтают не о радостях, как о высшем удовольствии, а о том, чтобы не было горя и наступил бы покой.
— Покой становится тогда, пожалуй, желанным и приятным.
— А когда человек лишается какой-нибудь радости, покой после удовольствия будет печален.
— Пожалуй.
— Стало быть, то, что, как мы сейчас сказали, занимает середину между двумя крайностями, то есть покой, бывает и тем и другим, и страданием и удовольствием.
— По-видимому.
— А разве возможно, не будучи ни тем ни другим, оказаться и тем и другим?
— По-моему, нет.
— И удовольствие, возникающее в душе, и страдание — оба они суть какое-то движение. Или нет?
— Да, это так.
— А то, что не есть ни удовольствие, ни страдание, разве не оказалось только что посредине между ними? Это — покой.
— Да, он оказался посредине.
— Так может ли это быть верным — считать удовольствием отсутствие страдания, а страданием — отсутствие удовольствия?
— Ни в коем случае.
— Следовательно, этого на самом деле не бывает, оно лишь таким представляется: покой только тогда и будет удовольствием, если его сопоставить со страданием, и, наоборот, он будет страданием в сравнении с удовольствием. Но с подлинным удовольствием эта игра воображения не имеет ничего общего: в ней нет ровно ничего здравого, это одно наваждение.
— Наше рассуждение это показывает.
— Рассмотри же те удовольствия, которым не предшествует страдание, а то ты, может быть, думаешь, будто ныне самой природой устроено так, что удовольствие — это прекращение страдания, а страдание — прекращение удовольствия.
— Где же существуют такие удовольствия и в чем они состоят?
— Их много, и притом разных, но особенно, если хочешь это понять, Возьми удовольствия, связанные с обонянием[295]: мы испытываем их вдруг, без всякого предварительного страдания, а когда эти удовольствия прекращаются, они не оставляют по себе никаких мучений.
— Сущая правда.
— Стало быть, мы не поверим тому, будто прекращение страдания — это удовольствие, а прекращение удовольствия — страдание.
— Не поверим.
— Однако так называемые удовольствия, испытываемые душой при помощи тела, — а таких чуть ли не большинство, и они едва ли не самые сильные, — как раз и относятся к этому виду, иначе говоря, они возникают как прекращение страданий.
— Это правда.
— Не так же ли точно обстоит дело и с предчувствием будущих удовольствий и страданий, иначе говоря, когда мы заранее испытываем радость или страдаем?
— Да, именно так.
— Знаешь, что это такое и на что это очень похоже?
— На что?
— Считаешь ли ты, что в природе действительно есть верх, низ и середина?
— Считаю, конечно.
— Так вот, если кого-нибудь переносят снизу к середине, не думает ли он, по-твоему, что поднимается вверх, а не куда-нибудь еще? А остановившись посредине и оглядываясь, откуда он сюда попал, не считает ли он, что находится наверху, а не где-нибудь еще, — ведь он не видел пока подлинного верха?
— Клянусь Зевсом, по-моему, такой человек не может думать иначе.
— Но если бы он понесся обратно, он считал бы, что несется вниз, и правильно бы считал.
— Конечно.
— С ним бы происходило все это потому, что у него нет опыта в том, что такое действительно верх, середина и низ.
— Это ясно.
[Без знания истины невозможно отличить подлинное удовольствие от мнимого]
— Удивишься ли ты, если люди, не ведающие истины относительно многих других вещей, не имеют здравых мнений об этом? Насчет удовольствия, страдания и промежуточного состояния люди настроены так, что, когда их относит в сторону страдания, они судят верно и подлинно страдают, но, когда они переходят от страдания к промежуточному состоянию, они очень склонны думать, будто это способствует удовлетворению и радости. Можно подумать, что они глядят на серое, сравнивая его с черным и не зная белого, — так заблуждаются они, сравнивая страдание с его отсутствием и не имея опыта в удовольствии.
— Клянусь Зевсом, меня это не удивило бы, скорее уж если бы дело обстояло иначе.
— Вдумайся вот во что: голод, жажда и тому подобное — разве это не ощущение состояния пустоты в нашем теле?
— Ну и что же?
— А незнание и непонимание — разве это не состояние пустоты в душе?
— И даже очень.
— Подобную пустоту человек заполнил бы, приняв пищу или поумнев.
— Конечно.
— А что было бы подлиннее: заполнение более действительным или менее действительным бытием?
— Ясно, что более действительным.
— А какие роды [вещей] считаешь ты более причастными чистому бытию? Будут ли это такие вещи, как, например, хлеб, напитки, приправы, всевозможная пища, или же это будет какой-то вид истинного мнения, знания, ума, вообще всяческого совершенства? Суди об этом вот как: то, что причастно вечно тождественному, подлинному и бессмертному, само тождественно и возникает в тождественном, не находишь ли ты более действительным, чем то, что причастно вечно изменчивому и смертному, само таково и в таком же и возникает?
— Вечно тождественное много действительнее.
— А сущность не-тождественного разве более причастна бытию, чем познанию?
— Вовсе нет.
— Что же? А истине она больше причастна?
— Тоже нет.
— Если же она меньше причастна истине, то не меньше ли и бытию?
— Непременно.
— Значит, всякого рода попечение о теле меньше причастно истине и бытию, чем попечение о душе?
— Гораздо меньше.
— Не думаешь ли ты, что то же самое относится к самому телу сравнительно с душой?
— По-моему, да.
— Значит, то, что заполняется более действительным и само более действительно, в самом деле заполняется больше, чем то, что заполняется менее действительным и само менее действительно?
— Как же иначе?
— Раз бывает приятно, когда тебя наполняет что-нибудь подходящее по своей природе, то и действительное наполнение чем-то более действительным заставляло бы более действительно и подлинно радоваться подлинному удовольствию, между тем как добавление менее действительного наполняло бы менее подлинно и прочно и доставляло бы менее достоверное и подлинное удовольствие.
— Это совершенно неизбежно.
— Значит, у кого нет опыта в рассудительности и добродетели, кто вечно проводит время в пирушках и других подобных увеселениях, того, естественно, относит вниз, а потом опять к середине, и вот так они блуждают всю жизнь. Им не выйти за эти пределы: ведь они никогда не взирали на подлинно возвышенное и не возносились к нему, не наполнялись в действительности действительным, не вкушали надежного и чистого удовольствия; подобно скоту они всегда смотрят вниз, склонив голову к земле... и к столам: они пасутся, обжираясь и совокупляясь, и из-за жадности ко всему этому лягают друг друга, бодаясь железными рогами, забивая друг друга насмерть копытами — все из-за ненасытности, так как они не заполняют ничем действительным ни своего действительного начала, ни своей утробы[296].
— Великолепно,— сказал Главкон,— словно прорицатель, изображаешь ты, Сократ, жизнь большинства.
— И разве не неизбежно примешиваются к удовольствиям страдания? Хотя это только призрачные образы подлинного удовольствия, при сопоставлении с ним оказывающиеся более бледными по краскам, тем не менее они производят сильное впечатление, приводят людей в неистовство, внушают безумцам страстную в них влюбленность и служат предметом раздора: так, по утверждению Стесихора, сражались под Троей мужи лишь за призрак Елены, не ведая правды[297].
— Да, это непременно должно было быть чем-то подобным.
— Что же? Разве не вызывается нечто подобное и яростным началом нашей души? Человек творит то же самое либо из зависти — вследствие честолюбия, либо прибегает к насилию из-за соперничества, либо впадает в гнев из-за своего тяжелого нрава, когда бессмысленно и неразумно преследует лишь одно: насытиться почестями, победой, яростью.
— И в этом случае все это неизбежно.
— Так что же? Отважимся ли мы сказать, что даже там, где господствуют вожделения, направленные на корыстолюбие и соперничество, если они сопутствуют познанию и разуму и вместе с ними преследуют удовольствия, проверяемые разумным началом, они все же разрешатся в самых подлинных удовольствиях, поскольку подлинные удовольствия доступны людям, добивающимся истины? Это были бы соответствующие удовольствия, ибо что для кого-нибудь есть наилучшее, то ему всего более и соответствует.
— Да, соответствует всего более.
[Самые подлинные удовольствия — у души, следующей за философским началом]
— Стало быть, если вся душа в целом следует за своим философским началом и не бывает раздираема противоречиями, то для каждой ее части возможно не только делать все остальное по справедливости, но и находить в этом свои особые удовольствия, самые лучшие и по мере сил самые истинные.
— Совершенно верно.
— А когда возьмет верх какое-нибудь другое начало, то для него будет невозможно отыскать присущее ему удовольствие, да и остальные части будут вынуждены стремиться к чуждому им и не истинному.
— Это так.
— И чем дальше отойти от философии и разума, тем больше это будет происходить.
— Да, намного больше.
[Два полюса: тиранические и царственные вожделения и удовольствия]
— А всего дальше отходит от разума то, что отклоняется от закона и порядка.
— Это ясно.
— Уже было выяснено, что всего дальше отстоят от разума любовные и тиранические вожделения.
— Да, всего дальше.
— А всего ближе к нему вожделения царственные и упорядоченные.
— Да.
— Всего дальше, я думаю, отойдет от подлинного и собственного своего удовольствия тиран, а всего ближе к нему будет царь.
— Неизбежно.
— Значит, тиран будет вести жизнь, совсем лишенную удовольствий, а у царя их будет много.
— Да, и это совсем неизбежно.
— А знаешь, во сколько раз меньше удовольствий в жизни тирана, чем у царя?
— Скажи мне, пожалуйста, ты.
— Существуют, как видно, три вида удовольствий: один из них — подлинный, два — ложных. Тиран, избегая закона и разума, перешел в запредельную область ложных удовольствий. Там он и живет, и телохранителями ему служат какие-то рабские удовольствия. Во сколько раз умалились его удовольствия, не так-то легко сказать, разве что вот как...
— Как?
— После олигархического человека тиран стоит на третьем месте, а посредине между ними будет находиться демократ.
— Да.
— И сравнительно с подлинным удовольствием у тирана, считая от олигарха, получится уже третье призрачное его подобие, если верно все сказанное нами раньше.
— Да, это так.
— Между тем человек олигархический и сам-то стоит на третьем месте от человека царственного, если мы будем считать последнего тождественным человеку аристократическому.
— Да, на третьем.
— Значит, трижды три раза — вот во сколько раз меньше, чем подлинное, удовольствие тирана.
— По-видимому.
— Значит, это призрачное подобие было бы [квадратной] плоскостью, выражающей размер удовольствия тирана.
— Верно.
— А если взять вторую и третью степень, станет ясно, каким будет расстояние, отделяющее тирана [от царя].
— По крайней мере ясно тому, кто умеет вычислять.
— Если же кто в обратном порядке станет определять, насколько отстоит царь от тирана в смысле подлинности удовольствия, то, доведя умножение до конца, он найдет, что царь живет в семьсот двадцать девять раз приятнее, а тиран во столько же раз тягостнее.
— Ты сделал поразительное вычисление! Вот как велика разница между этими двумя людьми, то есть между человеком справедливым и несправедливым, в отношении к удовольствию и страданию.
— Однако это число верно и вдобавок оно подходит к [их] жизням, поскольку с ними находятся в соответствии сутки, месяцы и годы[298].
— Да, в соответствии.
— Если даже в смысле удовольствия хороший и справедливый человек стоит настолько выше человека подлого и несправедливого, то насколько же выше будет он по благообразию своей жизни, по красоте и . добродетели!
— Клянусь Зевсом, бесконечно выше.
[Недостаточность показной справедливости]
— Хорошо. А теперь, раз мы заго ворили об этом, давай вернемся к тому, что было сказано раньше и что привело нас к этому вопросу. Тогда говорилось, что человеку, полностью несправедливому, выгодно быть несправедливым при условий, что его считают справедливым. Не так ли было сказано?
— Да, так.
— Давай же теперь обсудим это утверждение, раз мы пришли к согласию насчет значения справедливой и несправедливой деятельности.
— Как же мы будем это обсуждать?
— Мы создадим некое словесное подобие души, чтобы тот, кто тогда это утверждал, увидел, что он, собственно, говорит[299].
— Каким же будет это подобие?
— Чем-нибудь вроде древних чудовищ — Химеры, Скиллы, Кербера, — какими уродились они согласно сказаниям. Да и о многих других существах говорят, что в них срослось несколько разных образов[300].
— Да, говорят.
— Так вот, создай образ зверя, многоликого и многоголового. Эти лики — домашних и диких зверей — расположены у него кругом, он может их изменять и производить все это из самого себя.
— Тут потребовался бы искусный ваятель! Впрочем, поскольку гораздо легче лепить из слов, чем из воска или других подобных вещей, допустим, что такой образ уже создан.
— И еще создай образ льва[301] и образ человека, причем первый будет намного большим, а второй будет уступать ему по величине.
— Это легче: они уже готовы.
— Хоть здесь и три образа, но ты объедини их так, чтобы они крепко срослись друг с другом.
— Готово, они скреплены.
— Теперь придай им снаружи, вокруг, единый облик — облик человека, так чтобы все это выглядело как одно живое существо, иначе говоря, как человек, по крайней мере для того, кто не в состоянии рассмотреть, что находится там, внутри, и видит только внешнюю оболочку.
— Готово и это.
— В ответ тому, кто утверждает, будто такому человеку полезно творить несправедливость, а действовать по справедливости невыгодно, мы скажем, что тем самым, собственно говоря, утверждается, будто полезно откармливать многоликого зверя, делать мощным и его, и льва, и все, что ко льву относится, а человека морить голодом, ослаблять, чтобы те могли тащить его куда им вздумается, и он не был бы в состоянии приучить их к взаимной дружбе, а вынужден был бы предоставить им грызться между собой, драться и пожирать друг друга.
— Именно такой смысл заключался бы в утверждении того, кто одобряет несправедливость.
— В свою очередь тот, кто признает полезность справедливости, тем самым утверждает, что нужно делать и говорить все то, при помощи чего внутренний человек сумеет совладать с тем [составным] человеком и как хозяин возьмет на себя попечение об этой многоголовой твари, взращивая и облагораживая то, что в ней есть кроткого, и препятствуя развитию ее диких свойств. Он заключит союз со львом и сообща с ним будет заботиться обо всех частях, заставляя их быть дружными между собою и с ним самим. Вот как бы он их растил.
— Конечно, именно это утверждает тот, кто хвалит справедливость.
— Как ни поверни, выходит, что говорит правду тот, кто прославляет справедливость, а кто хвалит несправедливость, тот лжет. Рассматривать ли это с точки зрения удовольствия, доброй славы или пользы, всегда будет прав тот, кто одобряет справедливость, а тот, кто ее бранит, ровно ничего не смыслит — лишь бы ему браниться.
— По-моему, этот человек ни в чем не разбирается.
— Мы станем кротко убеждать его — ведь не по , доброй же воле он ошибается — и зададим ему такой вопрос: "Чудак, не таким же ли образом возникли общепринятые взгляды на прекрасное и постыдное? Когда звероподобную сторону своей натуры подчиняют человеческой — вернее, пожалуй, божественной, — это прекрасно, когда же кротость порабощается дикостью, это постыдно и безобразно". Согласится он, как ты думаешь?
— Да, если последует моему совету.
— Исходя из этого рассуждения, принесет ли кому-нибудь пользу обладание золотом, полученным несправедливым путем? Ведь при этом происходит примерно вот что: золото он возьмет, но одновременно с этим поработит наилучшую свою часть самой скверной. если если за золото человек отдаст сына или дочь в рабство, да еще людям злым и диким, этим он ничего не выгадает, даже если получит за это очень много. Коль скоро он безжалостно порабощает самую божественную свою часть, подчиняя ее самой безбожной и гнусной, разве это не жалкий человек и разве полученная им мзда не ведет его к еще более ужасной гибели, чем Эрифилу[302], обретшую ожерелье ценой души своего мужа?
— Конечно, он еще много несчастнее, отвечу я тебе вместо твоего собеседника, — сказал Главкон.
— А как по-твоему, не потому ли с давних пор осуждали невоздержность, что она сверх всякой меры дает волю в невоздержном человеке той страшной, огромной и многообразной твари?
— Конечно, поэтому.
— А самодовольство и брюзгливость порицаются не тогда ли, когда усиливается и без меры напрягается та сторона человека, которая имеет сходство со львом или со змеей?
— Несомненно.
— Изнеженность и вялость осуждаются из-за расслабленности и распущенности, из-за того, что они вселяют в человека робость.
— Безусловно.
— Низкая угодливость вызывается тем, что как раз яростное начало души человек подчиняет тому неуемному, как толпа, зверю, который из алчности к деньгам и ненасытности смолоду приучается помыкать этим своим началом, превращаясь из льва в обезьяну.
— Конечно, это именно так.
— Почему, как ты думаешь, ставятся человеку в упрек занятия ремеслами и ручным трудом? Укажем ли мы какую-нибудь иную причину, или здесь дело н том, что, когда у человека лучшая его часть ослаблена, так что ему не под силу справиться с теми тварями, которые находятся у него внутри, он способен лишь угождать им? Как их ублажать — вот единственное, в чем он знает толк.
— Видимо, да.
— Для того чтобы и такой человек управлялся началом, подобным тому, каким управляются лучшие люди, мы скажем, что ему надлежит быть рабом лучшего человека, в котором господствующее начало — божественное. Не во вред себе должен быть в подчинении раб, как это думал Фрасимах[303] относительно всех подвластных; напротив, всякому человеку лучше быть под властью божественного и разумного начала, особенно если имеешь его в себе как нечто свое; если же этого нет, тогда пусть оно воздействует извне, чтобы по мере сил между всеми нами было сходство и дружба и мы все управлялись бы одним и тем же началом.
— Это верно.
— Да и закон, поскольку он союзник всех граждан государства, показывает, что он ставит себе такую же цель. То же и наша власть над детьми: мы не даем им воли до тех пор, пока не научим их, словно некое государство, какому-то распорядку и, развивая в себе лучшее начало, не поставим его стражем и правителем над таким же началом у них: после этого мы отпускаем их на свободу.
— Это очевидно.
— Так каким же образом, Главкон, и на каком основании могли бы мы сказать, будто полезно поступать несправедливо, быть невоздержным и делать гадости? От этого человек будет только хуже, хотя бы он и приобрел много денег и в других отношениях стал бы могущественным.
— Такого основания нет.
— А какая польза для несправедливого человека, если его поступки останутся втайне и он не будет привлечен к ответственности? Разве тот, кто утаился, не делается от этого еще хуже? У человека, который не скрывается и подвергается наказанию, звероподобное начало его души унимается и укрощается, а кроткое высвобождается, и вся его душа в целом, направленная теперь уже в лучшую сторону, проникается рассудительностью и справедливостью наряду с разумностью, причем становится настолько же более ценной, чем тело — хотя бы и развивающее свою силу, красоту и здоровье, — насколько вообще ценнее тела душа.
— В этом нет никакого сомнения.
— И не правда ли, человек разумный построит свою жизнь, направив все свои усилия именно на это? Он будет прежде всего ценить те познания, которые делают его душу такой, а прочими пренебрежет.
— Это ясно.
— Далее. Он не подчинит состояние своего тела и его питание звероподобному и бессмысленному удовольствию, обратив в эту сторону все свое существование. Даже на здоровье он не будет обращать особого внимания, не поставит себе целью непременно быть сильным, здоровым, красивым, если это не будет способствовать рассудительности. Он обнаружит способность наладить гармонию своего тела ради гармонической согласованности души.
— Непременно, раз он хочет быть поистине просвещенным и сведущим.
— И в обладании имуществом у него также будет порядок и согласованность? Большинство людей превозносит богатство, но разве он поддастся этому и станет беспредельно его увеличивать, так что и конца не будет беде?
— Не думаю.
— Он будет соблюдать свой внутренний строй и будет начеку — как бы там что ни нарушилось из-за изобилия или, наоборот, недостатка имущества: так станет он управлять своими доходами и расходами.
— Несомненно.
— Но и в том, что касается почестей, он будет учитывать то же самое: он не отклонит их и даже охотно отведает, если найдет, что они делают его добродетельнее, но, если они нарушат достигнутое им состояние согласованности, он будет избегать их и в частной, и в общественной жизни.
— Раз он заботится об этом, значит, он не захочет заниматься государственными делами.
— Клянусь собакой, очень даже захочет, но только в своем государстве, а у себя на родине, может быть, и нет, разве уж определит так божественная судьба.
— Понимаю: ты говоришь о государстве, устройство которого мы только что разобрали, то есть о том, которое находится лишь в области рассуждений, потому что на земле, я думаю, его нигде нет.
— Но быть может, есть на небе[304] его образец, доступный каждому желающему: глядя на него, человек задумается над тем, как бы это устроить самого себя. А есть ли такое государство на земле и будет ли оно — это совсем неважно. Человек этот занялся бы делами такого — и только такого — государства.
— Да, так и следует.
КНИГА ДЕСЯТАЯ.
[Еще раз о месте поэзии в идеальном государстве]
— Право же, я и по многим другим признакам замечаю, что мы всего правильнее устроили наше государство: говорю я это, особенно имея в виду поэзию.
— Что же ты об этом думаешь?
— Ее никоим образом нельзя допускать, поскольку она подражательна. Это, по-моему, стало теперь еще яснее —после разбора порознь каждого вида души.
— Как ты это понимаешь?
— Говоря между нами, — вы ведь не донесете на меня ни творцам трагедий, ни всем остальным подражателям — все это прямо-таки язва для ума слушателей, раз у них нет средства узнать, что это, собственно, такое.
— В каком смысле ты это говоришь?
— Придется это сказать, хотя какая-то любовь к Гомеру[305] и уважение к нему, владеющие мною с детства, препятствуют мне говорить. Похоже, что он — первый наставник и вождь всех этих великолепных трагедийных поэтов. Однако нельзя ценить человека больше, чем истину, вот и приходится сказать то, что я говорю.
— Конечно.
— Так слушай же, а главное, отвечай.
— Спрашивай.
— Можешь ли ты мне вообще определить, что такое подражание? Сам-то я как-то не очень понимаю, в чем оно состоит.
— Значит, и мне не сообразить.
— Нисколько не удивительно: ведь часто, прежде чем разглядят зоркие, это удается сделать людям подслеповатым.
— Бывает. Но в твоем присутствии я не решился бы ничего сказать, даже если бы мне это и прояснилось. Ты уж рассматривай сам.
[Искусство как подражание подражанию идее (эйдосу)]
— Хочешь, мы начнем разбор отсюда, с помощью обычного нашего метода: для каждого множества вещей, обозначаемых одним именем, мы обычно устанавливаем только один определенный вид. Понимаешь?
— Понимаю.
— Возьмем и теперь какое тебе угодно множество. Ну, если хочешь, например, кроватей и столов на свете множество...
— Конечно.
— Но идей этих предметов только две — одна для кровати и одна для стола.
— Да.
— И обычно мы говорим, что мастер изготовляет ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею: один делает кровати, другой столы, нужные нам, и то же самое и в остальных случаях. Но никто из мастеров не создает самое идею. Разве он это может?
— Никоим образом.
— Но смотри, назовешь ли ты мастером еще и такого человека...
— Какого?
— Того, кто создает все, что делает в отдельности каждый из ремесленников.
— Ты говоришь о человеке на редкость искусном.
— Это еще что! Вот чему ты, пожалуй, поразишься: тот самый мастер не только способен изготовлять разные вещи, но он творит все, что произрастает на земле, производит на свет все живые существа, в том числе и самого себя, а вдобавок землю, небо, богов и все, что на небе, а также все, что под землей, в Аиде.
— О поразительном искуснике ты рассказываешь.
— Ты не веришь? Скажи-ка, по-твоему, совсем не бывает таких мастеров или же можно как-то стать творцом всего этого, но лишь одним определенным способом? Разве ты не замечаешь, что ты и сам был бы способен каким-то образом сделать все это?
— Но каким именно?
— Это нетрудное дело, и выполняется оно часто и быстро. Если тебе хочется поскорее, возьми зеркало и води им в разные стороны — сейчас же у тебя получится и Солнце, и все, что на небе, и земля, и ты сам, и остальные живые существа, а также предметы, растения и все, о чем только что шла речь.
— Да, но все это будет одна лишь видимость, а не подлинно сущие вещи.
— Прекрасно. Ты должным образом приступаешь к этому рассуждению. К числу таких мастеров относится, думаю я, и живописец? Или нет?
— Почему же нет?
— Но по-моему, ты скажешь, что он не на самом деле производит то, что производит, хотя в некотором роде и живописец производит кровать. Разве нет?
— Да, но у него это только видимость.
— А что же плотник? Разве ты не говорил сейчас, что он производит не идею [кровати] — она-то, считаем мы, и была бы кроватью, как таковой, — а только некую кровать?
— Да, я говорил это.
— Раз он делает не то, что есть, он не сделает подлинно сущего; он сделает только подобное, но не само существующее. И если бы кто признал изделие плотника или любого другого ремесленника совершенной сущностью, он едва ли был бы прав.
— По крайней мере не такого мнения были бы те, кто привык заниматься подобного рода рассуждениями.
— Значит, мы не станем удивляться, если его изделие будет каким-то смутным подобием подлинника?
— Не станем.
— Хочешь, исходя из этого, мы поищем, каким будет этот подражатель?
— Пожалуйста.
— Так вот, эти самые кровати бывают троякими: одна существует в самой природе, и ее мы признали бы, думаю я, произведением бога. Или, может быть, кого-то другого?
— Нет, я думаю, только его.
— Другая — это произведение плотника.
— Да.
— Третья — произведение живописца, не так ли?
— Допустим.
— Живописец, плотник, бог — вот три создателя этих трех видов кровати.
— Да, их трое.
— Бог, потому ли, что не захотел или в силу необходимости, требовавшей, чтобы в природе была завершена только одна кровать, сделал, таким образом, лишь одну-единственную — она-то и есть кровать, как таковая, а двух подобных, либо больше, не было создано богом и не будет в природе.
— Почему же?
— Потому что, если бы он сделал их всего две, все равно оказалось бы, что это одна, и именно та, вид которой имели бы они обе: это была бы та единственная кровать, кровать, как таковая, а двух кроватей бы не было.
— Это верно.
— Я думаю, что бог, зная это, хотел быть действительным творцом действительно существующей кровати, но не какой-то кровати и не каким-то мастером по кроватям. Поэтому-то он и произвел одну кровать, единственную по своей природе.
— Похоже, что это так.
— Хочешь, мы назовем его творцом этой вещи или чем-то другим, подобным?
— Это было бы справедливо, потому что и эту вещь, и все остальное он создал согласно природе.
— А как же нам назвать плотника? Не мастером ли по кроватям?
— Да.
— А живописца — тоже мастером и творцом этих вещей?
— Ни в коем случае.
— Что же он тогда такое в этом отношении, как ты скажешь?
— Вот что, мне кажется, было бы для него наиболее подходящим именем: он подражатель творениям мастеров.
— Хорошо. Значит, подражателем ты называешь того, кто порождает произведения, стоящие на третьем месте от сущности?
— Конечно.
— Значит, таким будет и творец трагедий: раз он подражатель, он, естественно, стоит на третьем месте от царя и от истины[306]; точно так же и все остальные подражатели.
— Пожалуй.
— Итак, относительно подражателей мы с тобой согласны. Скажи мне насчет живописца вот еще что: как, по-твоему, пытается ли он воспроизвести все то, что содержится в природе, или же он подражает творениям мастеров?
— Творениям мастеров.
— Таким ли, каковы эти творения на самом деле или какими они кажутся? Это ведь ты тоже должен разграничить.
— А как ты это понимаешь?
— Вот как: ложе, если смотреть на него сбоку, или прямо, или еще с какой-нибудь стороны, отличается ли от самого себя? Или же здесь нет никакого отличия, а оно лишь кажется иным, и то же самое происходит и с другими вещами?
— Да, то же самое. Оно только кажется иным, а отличия здесь нет никакого.
— Вот это ты и рассмотри. Какую задачу ставит перед собой каждый раз живопись? Стремится ли она воспроизвести действительное бытие или только кажимость? Иначе говоря, живопись — это воспроизведение призраков или действительности?
— Призраков.
— Значит, подражательное искусство далеко от действительности. Поэтому-то, сдается мне, оно и может воспроизводить все, что угодно: ведь оно только чуть-чуть касается любой вещи, да и тогда выходит лишь призрачное ее отображение. Например, художник нарисует нам сапожника, плотника, других мастеров, но сам-то он ничего не понимает в этих ремеслах. Однако если он хороший художник, то, нарисовав плотника и издали показав это детям или людям не очень умным, он может ввести их в заблуждение, и они примут это за настоящего плотника.
— Конечно.
— Но я считаю, мой друг, что такого взгляда надо придерживаться относительно всех подобных вещей. Если кто-нибудь станет нам рассказывать, что ему встретился человек, умеющий делать решительно все , лучше любого другого и сведущий во всем, что бы кто в отдельности ни знал, надо возразить такому рассказчику, что сам-то он, видно, простоват, раз дал себя провести какому-то шарлатану и подражателю, которого при встрече принял за великого мудреца, так как не смог отличить знание от невежества и подражания.
— Совершенно верно.
[Критика эпоса и трагедии]
— Итак, после этого надо рассмотреть трагедию и ее зачинателя — Гомера, потому что мы слышали от некоторых людей, будто трагическим поэтам знакомы все искусства, все человеческие дела — добродетельные и подлые, а вдобавок еще и дела божественные. Ведь хорошему поэту, чтобы его творчество было прекрасно, необходимо знать то, чего он касается, иначе он не сможет творить. Следует рассмотреть, обманывались ли люди, встречая этих подражателей, замечали ли они, глядя на их творения, что такие вещи втрое отстоят от подлинного бытия и легко выполнимы для того, кто не знает истины: ведь тут творят призраки, а не подлинно сущее. Или, может быть, люди правы, и хорошие поэты в самом деле знают то, о чем, по мнению большинства, они так хорошо говорят.
— Да, это очень даже заслуживает исследования.
— А если бы кто-нибудь был в состоянии творить и то и другое — и подлинник, и его подобие, — думаешь ли ты, что такой человек старательно стал бы делать одни подобия и считал бы это лучшим и самым главным в своей жизни?
— Не думаю.
— Если бы он поистине был сведущ в том, чему подражает, тогда, думаю я, все его усилия были бы направлены на созидание, а не на подражание. Он постарался бы оставить по себе в качестве памятника много прекрасных произведений и скорее предпочел бы, чтобы ему воспевали хвалу, чем самому прославлять других.
— Я думаю! Ведь это принесло бы ому больше и чести, и пользы.
— Насчет всяких прочих дел мы не потребуем отчета у Гомера или у кого-либо еще из поэтов; мы не спросим их, были ли они врачами или только подражателями языку врачей. И существует ли на свете предание, чтобы хоть один из поэтов — древних или же новых — вернул кому-то здоровье, как это делая Асклепий, или чтобы поэт оставил по себе учеников по части врачевания, какими были потомки Асклепия? [307]Не станем мы их спрашивать и о разных других искусствах — оставим это в покое. Но когда Гомер пытается говорить о самом великом и прекрасном — о войнах, о руководстве военными действиями, об управлении государствами, о воспитании людей, — тогда мы вправе полюбопытствовать и задать ему такой вопрос: "Дорогой Гомер, если ты в смысле совершенства стоишь не на третьем месте от подлинного, если ты творишь не только подобие, что было бы, по нашему определению, лишь подражанием, то, занимая второе место, ты был в состоянии знать, какие занятия делают людей лучше или хуже, в частном ли или в общественном обиходе: вот ты и скажи нам, какое из государств получило благодаря тебе лучшее устройство, подобно тому как это было с Лакедемоном благодаря Ликургу и со многими крупными и малыми государствами — благодаря многим другим законодателям? Какое государство признаёт тебя своим благим законодателем, которому оно всем обязано? Италия и Сицилия считают таким Харонда, мы — Солона[308], а тебя кто?" Сумеет Гомер назвать какое-либо государство?
— Не думаю, — отвечал Главкон, — об этом не говорят даже Гомериды.
— Ну, а упоминается ли хоть какая-нибудь война во времена Гомера, удачная потому, что он был военачальником или советчиком?
— Никакой такой войны не было.
— А рассказывают ли о разных замысловатых изобретениях — в искусствах или других родах деятельности, — где Гомер выказал бы себя искусным на деле, как люди передают о милетце Фалесе и о скифе Анахарсисе? [309]
— Ни в чем подобном Гомер не выделялся.
— Но если не в государственных делах, то, быть может, говорят, что в частном обиходе Гомер, когда он еще был в живых, руководил чьим-либо воспитанием и эти люди ценили общение с ним и передали потомкам некий гомеровский путь жизни, подобно тому как за это особенно ценили Пифагора[310], а его последователи даже и до сих пор называют свой образ жизни пифагорейским и явно выделяются среди остальных людей?
— Ничего такого о Гомере не рассказывают, Сократ. Ведь Креофил, который был, возможно, близким человеком Гомеру, по своей невоспитанности покажется еще смешнее своего имени[311], если правда то, что рассказывают о Гомере: ведь говорят, что Гомером совершенно пренебрегали при его жизни.
— Да, так рассказывают. Но подумай, Главкон, если бы Гомер действительно был в состоянии воспитывать людей и делать их лучшими, руководствуясь в этом деле знанием, а не подражанием, неужели он не приобрел бы множества приверженцев, не почитался бы и не ценился бы ими? Абдерит Протагор, Продик-кеосец и очень многие другие при частном общении могут внушить окружающим, будто те не сумеют справиться ни со своими домашними делами, ни с государственными, если не пойдут в обучение: за эту премудрость ученики так их любят, что чуть ли не носят на своих головах[312]. Неужели же Гомеру, если бы он был способен содействовать человеческой добродетели, да и Гесиоду [313]люди предоставили бы вести жизнь бродячих певцов, а не дорожили бы ими больше, чем золотом, и не заставили бы их обосноваться оседло, причем если бы те не согласились, разве не следовали бы за ними неотступно их современники, куда бы они ни двинулись, чтобы у них учиться?
— Мне представляется, Сократ, что ты говоришь сущую правду.
[Поэт творит призраки, а не подлинное бытие]
— Так не установим ли мы, что все поэты, начиная с Гомера, воспроизводят лишь призраки добродетели и всего остального, что служит предметом их творчества, но истины не касаются? Это как в только что приведенном нами примере: 601живописец нарисует сапожника, который покажется настоящим сапожником, а между тем этот живописец ничего не смыслит в сапожном деле; да и зрители его картины тоже — они судят лишь по краскам и очертаниям.
— Конечно.
— То же самое, думаю я, мы скажем и о поэте: с помощью слов и различных выражений он передает оттенки тех или иных искусств и ремесел, хотя ничего в них не смыслит, а умеет лишь подражать, так что другим людям, таким же несведущим, кажется под впечатлением его слов, что это очень хорошо сказано, — говорит ли поэт в размеренных, складных стихах о сапожном деле, или о военных походах, или о чем бы то ни было другом, — так велико какое-то природное очарование всего этого. Но если лишить творения поэтов всех красок мусического искусства, тогда, думаю я, ты знаешь, как они будут выглядеть сами по себе, в таком обнаженном виде; вероятно, ты это наблюдал.
— Да.
— Разве они не похожи на лица хоть и молодые, но некрасивые, так как видно, что в них нет ни кровинки?
— Очень похожи.
— Ну так обрати внимание вот на что: тот, кто творит призраки, — подражатель, — как мы утверждаем, нисколько не разбирается в подлинном бытии, но знает одну только кажимость. Разве не так?
— Да, так.
— Пусть сказанное не остается у нас сказанным лишь наполовину: давай рассмотрим это с достаточной полнотой.
— Я тебя слушаю.
— Мы говорим, что живописец может нарисовать поводья и уздечку...
— Да.
— А изготовят их шорник и кузнец.
— Конечно.
— Разве живописец знает, какими должны быть поводья и уздечка? Это знают даже не те, кто их изготовил, то есть кузнец и шорник, а лишь тот, кто умеет ими пользоваться, то есть наездник.
— Совершенно верно.
— Не так ли бывает, скажем мы, и со всеми вещами?
— А именно?
— Применительно к каждой вещи умение может быть трояким: умение ею пользоваться, умение ее изготовить и умение ее изобразить.
— Да
— А качество, красота и правильность любой утвари, живого существа или действия соотносятся не с чем иным, как с тем применением, ради которого что-либо сделано или возникло от природы.
— Это так.
— Значит, пользующийся какой-либо вещью, безусловно, будет обладать наибольшим опытом и может указать тому, кто делает эту вещь, на достоинства и недостатки его работы, испытанные в деле. Например, флейтист сообщает мастеру флейт, какие именно флейты удобнее для игры на них, указывает, какие флейты надо делать, и тот следует его совету.
— Конечно.
— Кто сведущ, тот отмечает достоинства и недостатки флейт, а кто ему верит, тот так и будет их делать.
— Да.
— Значит, относительно достоинств и недостатков одного и того же предмета создатель его приобретет правильную уверенность, общаясь с человеком сведущим и волей-неволей выслушивая его указания; но знанием будет обладать лишь тот, кто этим предметом пользуется.
— Несомненно.
— А подражатель? На опыте ли приобретет он знание о предметах, которые он рисует: хороши ли они и правильны ли, или у него составится верное мнение о них благодаря необходимости общаться с человеком сведущим и выполнять его указания насчет того, как надо рисовать?
— У подражателя не будет ни того ни другого.
— Стало быть, относительно достоинств и недостатков тех предметов, которые он изображает, у подражателя не будет ни знания, ни правильного мнения.
— По-видимому, нет.
— Прелестным же и искусным творцом будет такой подражатель!
— Ну, не слишком-то это прелестно!
— Но он все-таки будет изображать предметы, хотя ни об одном из них не будет знать, в каком отношении он хорош или плох. Поэтому, естественно, он изображает прекрасным то, что кажется таким невежественному большинству.
— Что же иное ему и изображать?
— На этот счет мы с тобой пришли, очевидно, к полному согласию: о том предмете, который он изображает, подражатель не знает ничего стоящего; его творчество — просто забава, а не серьезное занятие. А кто причастен к трагической поэзии — будь то ямбические или эпические стихи, — все они подражатели по преимуществу.
— Несомненно.
— Но, ради Зевса, такое подражание не относится ли к чему-то, стоящему на третьем месте после подлинного? [314]Или ты мыслишь это иначе?
— Нет, именно так.
— А воздействие, которым обладает подражание, направлено на какую из сторон человека?
— О каком воздействии ты говоришь?
— Вот о каком: одна и та же величина вблизи или издалека кажется неодинаковой — из-за нашего зрения.
— Да, неодинаковой.
— То же самое и с изломанностью и прямизной предметов, смотря по тому, разглядывать ли их в воде или нет, и с их вогнутостью и выпуклостью, обусловленной обманом зрения из-за их окраски: ясно, что вся эта сбивчивость присуща нашей душе, и на такое состояние нашей природы как раз и опирается живопись со всеми ее чарами[315], да и фокусы и множество разных подобных уловок.
— Правда.
[Поэзия не поддается критериям истинности — измерению, счету и взвешиванию]
— Зато измерение, счет и взвешивание оказались здесь самыми услужливыми помощниками, так что в нас берет верх не то, что кажется большим, меньшим, многочисленным или тяжелым, а то, что в нас считает, измеряет и взвешивает.
— Конечно.
— А ведь все это — дело разумного начала нашей души.
— Да, это его дело.
— Посредством частых измерений это начало обнаружило, что некоторые предметы больше, другие меньше, третьи равны друг другу — в полную противоположность тому, какими они в то же самое время кажутся нам на вид.
— Да.
— А мы утверждали, что одно и то же начало не может одновременно иметь противоположные суждения об одном и том же предмете.
— И правильно утверждали.
— Следовательно, то начало нашей души, которое судит вопреки [подлинным] размерам [предметов], не тождественно с тем ее началом, которое судит согласно этим размерам.
— Да, не тождественно.
— Между тем то, что в нас доверяет измерению и рассуждению, было бы наилучшим началом души.
— Конечно.
— А то, что всему этому противится, было бы одним из наших скверных начал.
— Это неизбежно.
— Как раз к этому выводу я и клонил, утверждая, что живопись — и вообще подражательное искусство — творит произведения, далекие от действительности, и имеет дело с началом нашей души, далеким от разумности; поэтому такое искусство и не может быть сподвижником и другом всего того, что здраво и истинно.
— Это поистине так.
— Стало быть, подражательное искусство, будучи и само по себе низменным, от совокупления с низменным и порождает низменное.
— Естественно.
— Касается ли это только подражания зрительного или также и воспринимаемого на слух — того, которое мы называем поэзией?
— Видимо, и этого тоже.
— Не будем доверять видимости только на основании живописи, но разберемся в том духовном начале человека, с которым имеет дело подражательное искусство поэзии, и посмотрим, легкомысленное ли это начало или серьезное.
— Да, в этом надо разобраться.
[Подражательная поэзия нарушает душевную гармонию]
— Мы вот как поставим вопрос: подражательная поэзия изображает людей действующими вынужденно либо добровольно, причем на основании своей деятельности люди считают, что поступили либо хорошо, либо плохо, и во всех этих обстоятельствах они либо скорбят, либо радуются. Или она изображает еще что-нибудь, кроме этого?
— Нет, больше ничего.
— А разве во всех этих обстоятельствах человек остается невозмутимым Или как в отношении зрительно воспринимаемых предметов, когда у него получалась распря с самим собой и об одном и том же одновременно возникали противоположные мнения, так и в действиях у человека бывает такая же распря и внутренняя борьба? Впрочем, припоминаю, что теперь у нас вовсе нет надобности это доказывать: в предшествовавших рассуждениях все это было нами достаточно доказано, а именно что душа наша кишит тысячами таких одновременно возникающих противоречий.
— Это верно.
— Да, верно, но, по-моему, необходимо теперь разобрать то, что мы тогда пропустили.
— А что именно?
— Мы где-то там говорили, что настоящий человек легче, чем остальные, переносит какое-нибудь постигшее его несчастье — потерю сына или утрату чего-либо, чем он особенно дорожит.
— Конечно.
— А теперь мы рассмотрим вот что: разве такой человек вовсе не будет горевать (ведь это немыслимо!) или же он будет как-то умереннее в своей скорби?
— Вернее последнее.
— Скажи мне о нем еще вот что: бороться со своей скорбью и сопротивляться ей он будет, по-твоему, больше тогда, когда он на виду у людей, подобных ему, или когда он окажется в одиночестве, наедине с самим собой?
— На виду он будет гораздо сдержаннее.
— В одиночестве, думаю я, он не вытерпит, чтобы не разрыдаться, а если бы кто это слышал, он устыдился бы. Да и много другого он сделает, чего не хотел бы видеть в других.
— Так и бывает.
— И не правда ли, то, что побуждает его противиться горю, это — разум и обычай, а то, что влечет к скорби, это — само страдание?
— Правда.
— Раз по одному и тому же поводу у человека одновременно возникают противоположные стремления, необходимо сказать, что в человеке есть два каких-то различных начала.
— Конечно.
— Одно из них послушно следует руководству обычая.
— Каким образом?
— Обычай, между прочим, говорит, что в несчастьях самое лучшее — по возможности сохранять спокойствие и не возмущаться: ведь еще не ясна хорошая и плохая их сторона, и, сколько ни горюй, это тебя ничуть не продвинет вперед, да и ничто из человеческих дел не заслуживает особых страданий, а скорбь будет очень мешать тому, что важнее всего при подобных обстоятельствах.
— Чему именно она будет мешать, по-твоему?
— Тому, чтобы разобраться в случившемся и, раз уж это, словно при игре в кости, выпало нам на долю, распорядиться соответственно своими делами, разумно выбрав наилучшую возможность, и не уподобляться детям, которые, когда ушибутся, держатся за ушибленное место и только и делают что ревут. Нет, мы должны приучать душу как можно скорее обращаться к врачеванию и возмещать потерянное и больное, заглушая лечением скорбный плач.
— Да, всего правильнее было бы так относиться к несчастьям.
— Самое лучшее начало нашей души охотно будет следовать этим разумным соображениям.
— Это ясно.
— А то начало, что ведет нас к памяти о страдании, к сетованиям и никогда этим не утоляется, мы будем считать неразумным, бездеятельным, подстать трусости.
— Да, будем считать именно так.
[Яростное начало души легче поддается воспроизведению, чем разумное]
— Негодующее начало души часто поддается разнообразному воспроиз ведению, а вот рассудительный и спокойный нрав человека, который никогда не выходит из себя, нелегко воспроизвести, и, если уж он воспроизведен, людям бывает трудно его заметить и понять, особенно на всенародных празднествах или в театрах, где собираются самые разные люди: ведь для них это было бы воспроизведением чуждого им состояния.
— Да, безусловно, чуждого.
— Ясно, что подражательный поэт по своей природе не имеет отношения к разумному началу души и не для его удовлетворения укрепляет свое искусство, когда хочет достичь успеха у толпы. Он обращается к негодующему и переменчивому нраву, который хорошо поддается воспроизведению.
— Да, это ясно.
— Значит, мы были бы вправе взять такого поэта да и поместить его в один ряд с живописцем, на которого он похож, так как творит негодное с точки зрения истины: он имеет дело с тем же началом души, что и живописец, то есть далеко не с самым лучшим, и этим ему уподобляется. Таким образом, мы по праву не приняли бы его в будущее благоустроенное государство, раз он пробуждает, питает и укрепляет худшую сторону души и губит ее разумное начало: это все равно что предать государство во власть людей негодных, а кто поприличнее, тех истребить; то же самое, скажем мы, делает и подражательный поэт: он внедряет в душу каждого человека в отдельности плохой государственный строй, потакая неразумному началу души, которое не различает, что больше, а что сменьше, и одно и то же считает иногда великим, а иногда малым, создавая поэтому образы, очень далеко отстоящие от действительности.
— Безусловно.
[Подражательная поэзия портит нравы и подлежит изгнанию из государства]
— Однако мы еще не предъявили поэзии самого главного обвинения: она обладает способностью портить даже настоящих людей, разве что очень немногие составят исключение; вот в чем весь ужас.
— Раз она и это творит, дальше идти уже некуда!
— Выслушай и суди сам: мы — даже и лучшие из нас, — слушая, как Гомер или кто иной из творцов трагедий изображает кого-либо из героев охваченным скорбью и произносящим длиннейшую речь, полную сетований, а других заставляет петь и в отчаянии бить себя в грудь, испытываем, как тебе известно, удовольствие и, поддаваясь этому впечатлению, следим за переживаниями героя, страдая с ним вместе и принимая все это всерьез. Мы хвалим и считаем хорошим того поэта, который настроит нас по возможности именно так.
— Это я знаю. Как же иначе?
— А когда с кем-нибудь из нас приключится собственное горе, заметил ли ты, что мы щеголяем обратным — способностью сохранять спокойствие и не терять самообладание? В этом ведь достоинство мужчины, а то, что мы хвалили тогда, — это свойство женщин.
— Да, я это замечал.
— Так хорошо ли обстоит дело с этой похвалой, когда зрелище человека, каким не хотелось бы быть и каким быть считалось бы даже постыдным, почему-то не вызывает отвращения, а доставляет удовольствие и восхваляется?
— Нехорошо, клянусь Зевсом! Это похоже на недоразумение.
— Да, если ты взглянешь вот с какой стороны...
— С какой?
— Если ты сообразишь, что в этом случае испытывает удовольствие и удовлетворяется поэтами то начало нашей души, которое при собственных наших несчастьях мы изо всех сил сдерживаем, — а ведь оно жаждет выплакаться, вволю погоревать и тем насытиться: таковы уж его природные стремления. Лучшая по своей природе сторона нашей души, еще недостаточно наученная разумом и привычкой, ослабляет тогда свой надзор за этим плачущимся началом и при зрелище чужих страстей считает, что ее нисколько не позорит, когда другой человек хотя и притязает на добродетель, однако неподобающим образом выражает свое горе: она его хвалит и жалеет, даже думает, будто такого рода удовольствие обогащает ее и она не хотела бы его лишиться, выказав презрение ко всему произведению в целом. Я думаю, мало кто отдает себе отчет в том, что чужие переживания неизбежно для нас заразительны: если к ним разовьется сильная жалость, нелегко удержаться от нее и при собственных своих страданиях.
— Сущая правда.
— То же самое не касается разве смешного? В то время как самому тебе стыдно смешить людей, на представлении комедий или дома, в узком кругу, ты с большим удовольствием слышишь такие вещи и не отвергаешь их как нечто дурное; иначе говоря, ты поступаешь точно так же, как в случае, когда ты разжалобился. Разумом ты подавляешь в себе склонность к забавным выходкам, боясь прослыть шутом, но в этих случаях ты даешь ей волю, там у тебя появляется задор, и часто ты незаметно для самого себя в домашних условиях становишься творцом комедий.
— Да, несомненно, это бывает.
— Будь то любовные утехи, гнев или всевозможные другие влечения нашей души — ее печали и наслаждения, которыми, как мы говорим, сопровождается любое наше действие, — все это возбуждает в нас поэтическое подражание. Оно питает все это, орошает то, чему надлежало бы засохнуть, и устанавливает его власть над нами; а между тем следовало бы держать эти чувства в повиновении, чтобы мы стали лучше и счастливее, вместо того чтобы быть хуже и несчастнее.
— Я не могу против этого возразить.
— Так вот, Главкон, когда ты встретишь людей, прославляющих Гомера и утверждающих, что поэт этот воспитал Элладу и ради руководства человеческими делами и просвещения его стоит внимательно изучать, чтобы, согласно ему, построить всю свою жизнь, тебе надо отнестись к ним дружелюбно и приветливо, потому что, насколько возможно, это превосходные люди. Ты уступи им, что Гомер самый творческий и первый из творцов трагедий, но не забывай, что в наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это гимны богам и хвала добродетельным людям. Если же ты допустишь подслащенную Музу, будь то мелическую или эпическую, тогда в этом государстве воцарятся у тебя удовольствие и страдание вместо обычая и разумения, которое, по общему мнению, всегда признавалось наилучшим.
— Сущая правда.
— Это напоминание пусть послужит нам оправданием перед поэзией за то, что мы выслали ее из нашего государства, поскольку она такова. Ведь нас побудило к этому разумное основание. А чтобы она не винила нас в жесткости и неотесанности, мы добавим еще, что искони наблюдался какой-то разлад между философией и поэзией[316]. Многочисленные пословицы, такие, как, например, "это та собака, что лает[317] и рычит на хозяина", или "он велик в пустословии безумцев", или "толпа мудрецов одолеет и Зевса", или "они вдаются в мелочи, значит, они нищие", и тысячи других свидетельствуют об их стародавней распре. Тем не менее надо сказать, что, если подражательная поэзия, направленная лишь на то, чтобы доставлять удовольствие, сможет привести хоть какой-нибудь довод в пользу того, что она уместна в благоустроенном государстве, мы с радостью примем ее. Мы сознаем, что и сами бываем очарованы ею; но предать то, что признаешь истинным, — нечестиво. Не очаровываешься ли ею и ты, мой друг, особенно когда рассматриваешь ее чрез посредство Гомера?
— И даже очень.
— Таким образом, если она оправдается, будь то в мелических размерах или в каких-то других, она получит право вернуться из изгнания.
— Несомненно.
— И тем ее приверженцам, кто сам не поэт, но любит поэтов, мы дали бы возможность защитить ее даже в прозе и сказать, что она не только приятна, но и полезна для государственного устройства и человеческой жизни. Ведь мы обогатились бы, если бы она оказалась не только приятной, но и полезной.
— Конечно, обогатились бы!
[В идеальном государстве допустима лишь та поэзия, польза которой очевидна]
— Если же не удастся ее защитить, тогда, дорогой мой друг, остается поступить как те, кто когда-то в кого-то влюбились, но потом рассудили, что любовь бесполезна, и потому хоть и через силу, но все-таки от нее воздержались. Вот и мы: из-за дивного устройства 608нынешних государств в нас развилась любовь к подобного рода поэзии, и мы желаем ей добра, то есть чтобы она оказалась и превосходной, и вполне правдивой. Но до тех пор пока она не оправдается, мы, когда придется ее слушать, будем повторять для самих себя как целительное заклинание то самое рассуждение, о котором мы говорим, и остережемся, как бы не поддаться опять той ребячливой любви, свойственной большинству. Нельзя считать всерьез, будто такая поэзия серьезна и касается истины. Слушающему ее надо остерегаться, опасаясь за свое внутреннее устройство, и придерживаться того, что нами было сказано о поэзии.
— Я полностью с тобой согласен.
— Ведь спор идет, дорогой мой Главкон, о великом деле, гораздо более великом, чем это кажется, — о том, быть ли человеку хорошим или плохим. Так что ни почет, ни деньги, ни любая власть, ни даже поэзия не стоят того, чтобы ради них пренебрегать справедливостью и прочей добродетелью.
— Я поддерживаю тебя на основании того, что мы разобрали. Думаю, что и всякий другой тебя поддержит, кто бы он ни был.
— Однако мы еще не разбирали величайшего воздаяния за добродетель и назначенных за нее наград.
— Если есть другие награды кроме упомянутых, то, очевидно, ты говоришь о чем-то великом.
— Что великое может случиться за короткое время? Ведь в сравнении с вечностью этот промежуток от нашего детства до старости очень краток[318].
— И даже совсем ничтожен.
— Так что же? Думаешь ли ты, что бессмертному существу нужно заботиться лишь об этом небольшом промежутке, а не о вечности?
— Я-то, конечно, думаю, что о вечности. Но к чему это говоришь?
[Вечность (бессмертие) души]
— Разве ты не сознавал, что душа наша бессмертна и никогда не погибнет?
Главкон взглянул на меня с удивлением и сказал:
— Клянусь Зевсом, нет. А ты можешь это сказать?
— Если бы я не мог, я был бы не прав. Да я думаю, и ты это можешь — ничего трудного здесь нет.
— Для меня это трудно. Но я с удовольствием услышал бы от тебя об этой нетрудной вещи.
— Пожалуйста, слушай.
— Говори, говори!
— Называешь ли ты что-нибудь благом и злом?
— Я — да.
— А думаешь ли ты об этом то же, что и я?
— А именно?
— Все губительное и разрушительное — это зло, а хранительное и полезное — благо.
— Да.
— Что же? Считаешь ли ты, что благо и зло существуют для каждой вещи? Например, для глаз —воспаление, для всего тела — болезнь, для хлебов — спорынья, гниение — для древесины, для меди и железа — ржавчина, словом, чуть ли не для каждой вещи есть особо ей свойственное зло и болезнь?
— Да.
— Когда что-нибудь такое появится в какой-либо вещи, оно делает негодным то, к чему оно пристало, и в конце концов разрушает и губит всю вещь целиком.
— Конечно.
— Значит, каждую вещь губят свойственные ей зло и негодность, но если это ее не губит, то уж ничто другое ее не разрушит. Благо, конечно, никогда ничего не погубит, а также не может быть губительным то, что не будет ни злом, ни благом.
— Конечно.
— Значит, если среди существующего мы найдем нечто имеющее свое зло, которое его портит, но не в состоянии его совсем уничтожить, мы будем знать, что это нечто по своей природе неуничтожимо.
— Видимо, так.
— Что же? У души разве нет чего-то такого, что ее портит?
— Разумеется, есть: это все то, что мы недавно разбирали, — несправедливость, невоздержность, трусость, невежество.
— А может ли хоть что-нибудь из всего этого ее погубить и уничтожить? Поразмысли об этом, но так, чтобы нам не обмануться, думая, будто человек несправедливый и неразумный погибает вследствие своей несправедливости, этой порчи души, тогда, когда его уличат в преступлении. Нет, ты подойди к этому так: порча тела — болезнь — измождает и разрушает тело, а это приводит к тому, что оно уже перестает быть телом; так и все то, что мы теперь перечислили, приходит к небытию вследствие собственной порочности, которая своим назойливым присутствием губит все изнутри. Или не так?
— Да, так.
— Значит, и душу рассмотри точно так же. Может ли присутствующая в ней несправедливость и прочая порочность извести и уничтожить ее своим присутствием до такой степени, чтобы довести ее до смерти, отделив от тела?
— Уж это-то ни в коем случае.
— Но ведь нет разумного основания для того, чтобы что-то гибло от посторонней порчи, а от своей собственной не разрушалось?
— Такого основания нет.
— Поразмысли, Главкон, что мы не считаем, будто тело должно гибнуть непосредственно от испорченной пищи, в чем бы эта порча ни состояла, то есть если пища несвежая, протухшая и так далее. А вот когда испорченная пища вызывает в теле телесный недуг, тогда мы скажем, что тело гибнет хотя и через посредство пищи, но от своего собственного порока, иначе говоря от болезни. А от порчи съестного, поскольку съестное и тело — это разные вещи, мы считаем, тело никогда не погибнет, пока это постороннее телу зло не вызовет в нем зла, свойственного телу.
— Ты говоришь очень правильно.
— На том же самом основании, если порча тела не вызывает испорченности души, присущей ей самой, мы никогда не признаем, будто душа гибнет от постороннего зла, помимо своей собственной испорченности: это зло и присущее ей зло — разные вещи.
— Да, это имеет под собой основание.
— Так вот, либо мы опровергнем сказанное как неверное, либо до тех пор, пока это не опровергнуто, мы ни за что не согласимся, будто душа гибнет от горячки или другой болезни либо от перерезанного горла: если даже изрубить все тело на мелкие кусочки — все это нисколько не увеличивает возможности ее гибели, пока нам не докажут, что из-за этих страданий тела она сама становится менее справедливой и благочестивой. Если постороннее зло возникает в чем-либо постороннем, а собственное зло не рождается, мы не позволим сутверждать, будто душа или что-то другое гибнет.
— Но ведь этого никто никогда не докажет — что души умирающих становятся менее справедливыми именно из-за смерти.
— Если кто наберется смелости выступить в поход против нашего утверждения, лишь бы только не быть вынужденным согласиться с тем, что души бессмертны, и будет настаивать, что умирающий становится менее справедливым и более порочным, мы станем тогда, если он прав, считать несправедливость смертельной, словно болезнь, для ее обладателя и говорить, что те, у кого она есть, умирают от ее смертоносной природы — одни скорее, другие медленнее, — а вовсе не так, как это бывает теперь, когда нарушители справедливости умирают потому, что их казнят другие люди.
— Клянусь Зевсом, значит, несправедливость окажется вовсе не столь ужасной, раз она смертоносна для того, у кого она есть: ведь это было бы избавлением от бед! Но я думаю, что выйдет как раз наоборот: она убийственна для всех прочих, раз это в ее силах, по своего носителя она делает очень живучим — и мало того, что живучим, еще и неутомимым. В этих случаях она, как видно, располагается где-то вдалеке от того, что смертоносно.
— Хорошо сказано! Раз даже собственные порочность и зло не способны убить и погубить душу, то от зла, назначение которого — губить другие вещи, вряд ли погибнет душа или что-нибудь иное, кроме того, для чего это зло предназначено.
— Вряд ли; да оно и естественно.
— Но раз что-то не гибнет ни от одного из этих зол — ни от собственного, ни от постороннего, то ясно, что это непременно должно быть чем-то вечно существующим, а раз оно вечно существует, оно бессмертно.
— Непременно.
[Самотождественность души]
— Пусть же и будет сделан такой вывод, а из него, как ты понимаешь, следует, что души всегда самотождественны[319]. И раз ни одна из них не погибает, то количество их не уменьшается и не увеличивается. Ведь если бы увеличилось количество того, что бессмертно, это могло бы произойти, как тебе известно, только за счет того, что смертно, и в конце концов бессмертным стало бы все.
— Ты прав.
— Но мы не признаем ни этого — ведь рассуждение наше этого не допускает, — ни того, будто истинная природа души такова, что она полна всевозможного разнообразия, нетождественности и различия.
— Что ты имеешь в виду?
— Нелегко быть вечным тому, что состоит из многих начал да к тому же еще составлено не наилучшим образом: между тем как раз такой оказалась теперь у нас душа.
— Понятно, это нелегко.
— А что душа бессмертна, необходимо следует как из нашего недавнего рассуждения, так и из многих других. Чтобы узнать, какова душа на самом деле, надо рассматривать ее не в состоянии растления, в котором она пребывает из-за общения с телом и разным иным злом, как наблюдаем мы это теперь, а такой, какой она бывает в своем чистом виде. Именно это надо как следует рассмотреть с помощью размышления, и тогда ты найдешь ее значительно более прекрасной, а также можно будет отчетливее разглядеть различные степени справедливости и несправедливости и вообще все то, что мы теперь разбирали. Пока что мы верно говорили о душе — о том, какой она оказывается в настоящее время; однако мы рассматривали лишь нынешнее ее достояние, подобно тому как при виде морского божества Главка[320] трудно разглядеть его древнюю природу, потому что прежние части его тела либо переломаны, либо стерлись, либо изуродованы волнами, а вдобавок еще он оброс раковинами, водорослями и камешками, гак что гораздо больше походит на чудовище, чем на то, чем он был по своей природе. Так и душа от несчетного множества различного зла находится в сходном состоянии, когда мы ее наблюдаем[321]. Между тем, Главкон, надо обратить внимание вот на что...
— На что?
— На стремление души к мудрости. Надо посмотреть, каких предметов она касается, каких общений она ищет, коль скоро она сродни божественному, бессмертному и вечно сущему, и какой она стала бы, гели бы, всецело следуя подобному началу, вынырнула
бы в этом своем порыве из омута, в котором теперь обретается, и стряхнула бы с себя те камешки и ракушки, которые к ней прилипли. Так как она вкушает земное, то от этих праздничных пиршеств, в которых, как говорят, заключается счастье, к ней много пристало землистого, каменистого, дикого: если бы она это стряхнула, можно было бы увидеть ее подлинную природу — многообразна она или единообразна и как она устроена в прочих отношениях. А пока что, я думаю, мы надлежащим образом разобрали ее состояния, возможные в человеческой жизни, и ее виды.
— Да, разобрали полностью.
[Самодовлеющее значение справедливости]
— И не правда ли, в этой беседе мы отделались и от остальных возражений, причем не прибегали к прославлению воздаяний за справедливость или доброй молвы, вызываемой ею, что, как вы указывали, делают Гесиод и Гомер. Напротив, мы нашли, что справедливость сама по себе есть нечто наилучшее для самой души и что душа должна поступать по справедливости, все равно, достался ли ей перстень Гига, а в придачу к перстню еще и шлем Аида[322] или же нет.
— Ты совершенно прав.
— Теперь, Главкон, к нам уже нельзя будет придраться, если мы вдобавок укажем, что все же есть воздаяние за справедливость и за прочую добродетель, и разберем, в каком размере и как получает его душа от людей и богов, будь то при жизни человека или после его кончины.
— Нет, теперь уже к нам не придраться.
— Так вы вернете мне то, что вы взяли взаймы во время рассуждения?
— Что именно?
— Я уступил вам допущение, что справедливый человек может казаться несправедливым, а несправедливый — справедливым. Хотя и невозможно, чтобы это осталось тайной от богов и от людей, тем не менее вы находили нужным, ради рассуждения, допустить это . для сопоставления справедливости самой по себе с такой же несправедливостью. Или ты этого не помнишь?
— Я нарушил бы справедливость, если бы сказал, будто не помню.
— Так вот, раз такое сопоставление уже было сделано, я во имя справедливости настаиваю на возврате нашего допущения. Согласитесь, что, в какой чести у богов и у людей справедливость, такую же честь и вы должны ей воздать. Кто справедлив, тех она награждает хотя бы тем, что она в такой чести; а что она на самом деле неложное благо для того, кто действительно ее придерживается, это уже было нами выяснено.
— Твое требование справедливо.
— Так вот, прежде всего верните мне допущение, будто боги не различают свойств того или иного человека.
— Вернем.
— А раз от богов это не может утаиться, то один человек будет им угоден, а другой — ненавистен, как, мы признали уже вначале.
— Это так.
— Разве не признаем мы, что для того, кто угоден богам, все, что исходит от них, будет величайшим благом, если только не положено им какого-нибудь неизбежного зла вследствие допущенного проступка?
— Конечно, признаем.
— Стало быть, то же самое надо признать и для справедливого человека, все равно, постигнет ли его нищета, болезни или что иное из того, что считается алом: все это в конце концов будет ему во благо при жизни или после смерти. Ведь боги никогда не оставят Своего попечения о человеке, который стремится быть справедливым и, упражняясь в добродетели, уподобляется богу, насколько это возможно для человека.
— Естественно, что не оставит своего о нем попечения тот, кому он подобен.
— А о человеке несправедливом следует думать как раз противоположное.
— Безусловно.
— Для справедливого человека нашлись бы у богов соответствующие награды.
— По моему мнению, да.
— А что же со стороны людей? Не так ли обстоит дело, если считаться с действительностью: несправедливые люди, при всей их ловкости, действуют как те участники двойного пробега, которые в один конец бегут хорошо, а на дальнейшее их не хватает; сперва они несутся во весь опор, а в заключение делаются посмешищем и, не добившись венка, уходят с поникшей головой и повесив нос[323]. Между тем подлинные бегуны достигают цели, получают награды и увенчиваются венками: не так ли большей частью случается и с людьми справедливыми? Каждый поступок этих людей, каждое общение и весь их образ жизни вызывают в конце концов уважение со стороны других: вот в чем состоит эта награда.
[Конечная награда за справедливость]
— Несомненно.
— Значит, ты стерпишь, если я повторю о справедливых людях то, что ты сам говорил о несправедливых? Я скажу, что все справедливые люди с летами . становятся правителями в своем государстве, если им этого хочется; они берут себе жен из любых, каких пожелают, семейств и дочерей своих тоже выдают за кого хотят; словом, все, что ты тогда говорил о людях несправедливых, я теперь утверждаю относительно людей справедливых. А с другой стороны, о несправедливых людях я говорю, что большинство из них, если смолоду им и удалось притаиться, под конец жизни все равно уличат, они станут посмешищем, и под старость их ждет жалкая участь: ими будут помыкать и чужеземцы, и свои, не обойдется дело и без побоев, наконец, — что ты упомянул тогда как самое жестокое (и ты был прав) — их будут пытать на дыбе и раскаленным железом. Считай, что обо всех этих муках говорил тогда я, а не ты. Ну как, стерпишь ты, если я так скажу?
— Вполне, ведь слова твои справедливы.
— Так вот каковы будут награды, воздаяния и дары справедливому человеку от богов и людей при его жизни вдобавок к благам, доставляемым самой справедливостью.
— Да, это прекрасные и надежные воздаяния.
— Но и по числу и по величине они ничто по сравнению с тем, что ждет обоих, то есть справедливого и несправедливого человека, после их смерти. Об этом стоит послушать, чтобы и тот и другой вынесли ил нашей беседы, что должно.
— Пожалуйста, продолжай: вряд ли что иное можно слушать с большей охотой.
[Миф о загробных воздаяниях]
— Я передам тебе не Алкиноево по вествование, а рассказ одного отважного человека, Эра, сына Армения, родом из Памфилии[324]. Как-то он был убит на войне; когда через десять дней стали подбирать тела уже разложившихся мертвецов, его нашли еще целым, привезли домой, и когда на двенадцатый день приступили к погребению, то, лежа уже на костре, он вдруг ожил, а оживши, рассказал, что он там видел.[325]
Он говорил, что его душа, чуть только вышла из тела, отправилась вместе со многими другими, и все они пришли к какому-то божественному месту, где в земле были две расселины, одна подле другой, а напротив, наверху в небе, тоже две[326]. Посреди между ними восседали судьи. После вынесения приговора они приказывали справедливым людям идти по дороге направо, вверх по небу, и привешивали им спереди знак приговора, а несправедливым — идти по дороге налево, вниз, причем и эти имели — позади — обозначение всех своих проступков. Когда дошла очередь до Эра, судьи ; казали, что он должен стать для людей вестником всего, что здесь видел, и велели ему все слушать и за всем наблюдать.
Он видел там, как души после суда над ними уходили по двум расселинам — неба и земли, а по двум другим приходили: по одной подымались с земли души, полные грязи и пыли, а по другой спускались с неба чистые души. И все, кто бы ни приходил, казалось, вернулись из долгого странствия: они с радостью располагались на лугу, как это бывает при всенародных празднествах. Они приветствовали друг друга, если кто с кем был знаком, и расспрашивали пришедших с земли, как там дела, а спустившихся с неба — о том, что там у них. Они, вспоминая, рассказывали друг другу —одни, со скорбью и слезами, сколько они чего натерпелись и насмотрелись в своем странствии под землей (а странствие это тысячелетнее), а другие, те, что с неба, о блаженстве и о поразительном по своей красоте зрелище.
Но рассказывать все подробно потребовало бы, Главкон, много времени. Главное же, по словам Эра, состояло вот в чем: за всякую нанесенную кому-либо обиду и за любого обиженного все обидчики подвергаются наказанию в десятикратном размере (рассчитанному на сто лет, потому что такова продолжительность человеческой жизни), чтобы пеня была в десять раз больше преступления. Например, если кто стал виновником смерти многих людей, предав государство и войско, и многие из-за него попали в рабство или же если он был соучастником в каком-нибудь другом злодеянии, за все это, то есть за каждое преступление, он должен терпеть десятикратно большие муки. С другой стороны, кто оказывал благодеяния, был справедлив и благочестив, тот вознаграждался согласно заслугам.
Что Эр говорил о тех, кто, родившись, жил лишь короткое время, об этом не стоит упоминать. Он рассказывал также о еще большем воздаянии за непочитание — и почитание — богов и родителей и за самоубийство. Он говорил, что в его присутствии один спрашивал там другого, куда же девался великий Ардией. Этот Ардией был тираном в каком-то из городов Памфилии еще за тысячу лет до того. Рассказывали, что он убил своего старика отца и старшего брата и совершил много других нечестии и преступлений. Тот, кому был задан этот вопрос, отвечал на него, по словам Эра, так: "Ардией не пришел, да и не придет сюда. Ведь из разных ужасных зрелищ видели мы и такое: когда после многочисленных мук были мы уже недалеко от устья и собирались войти, вдруг мы заметили Ардиея и еще некоторых — там были едва ли не сплошь все тираны, а из простых людей разве лишь величайшие преступники; они уже думали было войти, но устье их не принимало и издавало рев, чуть только кто из этих злодеев, неисцелимых по своей порочности или недостаточно еще наказанных, делал попытку войти. Рядом стояли наготове дикие люди с огненным обличьем. Послушные этому реву, они схватили некоторых и увели, а Ардиея и других связали по рукам и ногам, накинули им петлю на шею, повалили наземь, содрали с них кожу и поволокли по бездорожью, по вонзающимся колючкам, причем всем встречным объясняли, за что такая казнь, и говорили, что сбросят этих преступников в Тартар. Хотя мы и натерпелись уже множества разных страхов, но всех их сильнее был тогда страх, как бы не раздался этот рев, когда кто-либо из нас будет у устья; поэтому величайшей радостью было для каждого из нас, что рев этот умолкал, когда мы входили".
Вот какого рода были приговоры и наказания и прямо противоположными им были вознаграждения[327]. Всем, кто провел на лугу семь дней, на восьмой день надо было встать и отправиться в путь, чтобы за четыре дня прийти в такое место, откуда сверху виден луч света, протянувшийся через все небо и землю, словно столп, очень похожий на радугу, только ярче и чище. К нему они прибыли, совершив однодневный переход, и там увидели, посредине этого столпа света, свешивающиеся с неба концы связей: ведь этот свет — узел неба; как брус на кораблях, так он скрепляет небесный свод[328].
Рис. 1.
На концах этих связей висит веретено Ананки, придающее всему вращательное движение. У веретена ось и крючок — из адаманта, а вал — из адаманта в соединении с другими породами. Устройство вала следующее: внешний вид у него такой же, как у здешних, но, по описанию Эра, надо представлять себе его так, что в большой полый вал вставлен пригнанный к нему такой же вал, только поменьше, как вставляются ящики. Таким же образом и третий вал, и четвертый, и еще четыре. Всех валов восемь, они вложены один в другой, их края сверху имеют вид кругов на общей оси, так что снаружи они как бы образуют непрерывную поверхность единого вала, ось же эта прогнана насквозь через середину восьмого вала. Первый, наружный вал имеет наибольшую поверхность круга, шестой вал — вторую по величине, четвертый — третью, восьмой — четвертую, седьмой — пятую, пятый — шестую, третий — седьмую, второй — восьмую по величине[329]. Круг самого большого вала — пестрый, круг седьмого вала — самый яркий; круг восьмого заимствует свой цвет от света, испускаемого седьмым; 617круги второго и пятого валов близки друг к другу по цвету и более желтого, чем те, оттенка, третий же круг — самого белого цвета, четвертый — красноватого, а шестой стоит на втором месте по белизне[330]. Все веретено в целом, вращаясь, совершает всякий раз один и тот же оборот, но при его вращательном движении внутренние семь кругов медленно поворачиваются в направлении, противоположном вращению целого. Из них всего быстрее движется восьмой круг, на втором месте по быстроте — седьмой, шестой и пятый, которые движутся с одинаковой скоростью; на третьем месте, как им было заметно, стоят вращательные обороты четвертого круга; на четвертом месте находится третий круг, а на пятом — второй. Вращается же это веретено на коленях Ананки[331].
Сверху на каждом из кругов веретена восседает по Сирене; вращаясь вместе с ними, каждая из них издает только один звук, всегда той же высоты. Из всех звуков — а их восемь — получается стройное созвучие[332]. Около Сирен на равном от них расстоянии сидят, каждая на своем престоле, другие три существа — это Мойры, дочери Ананки: Ла хесис, Клотo и A тропос; сони — во всем белом, с венками на головах. В лад с голосами Сирен Лахесис воспевает прошлое, Клото — настоящее, Атропос — будущее. Время от времени Клото касается своей правой рукой наружного обода веретена, помогая его вращению, тогда как Атропос своей левой рукой делает то же самое с внутренними кругами, а Лахесис поочередно касается рукой того и другого[333].
Так вот, чуть только они пришли туда, они сразу же должны были подойти к Лахесис. Некий прорицатель расставил их по порядку, затем взял с колен Лахесис жребии и образчики жизней, взошел на высокий помост и сказал:
— "Слово дочери Ананки, девы Лахесис. Однодневные души! Вот начало другого оборота, смертоносного для смертного рода. Не вас получит по жребию гений[334], а вы его себе изберете сами. Чей жребий будет первым, тот первым пусть выберет себе жизнь, неизбежно ему предстоящую. Добродетель не есть достояние кого-либо одного: почитая или не почитая ее, каждый приобщится к ней больше либо меньше. Это — вина избирающего: бог невиновен".
Сказав это, прорицатель бросил жребий в толпу, и каждый, кроме Эра, поднял тот жребий, который упал подле него: Эру, сказав это, прорицатель бросил жребий в толпу, и каждый, кроме Эра, поднял тот жребий, который упал подле него: Эру же это не было дозволено. Всякому поднявшему стало ясно, какой он по счету при жеребьевке. После этого прорицатель разложил перед ними на земле образчики жизней в количестве значительно большем, чем число присутствующих. Эти образчики были весьма различны — жизнь разных животных и все виды человеческой жизни. Среди них были даже тирании, пожизненные либо приходящие в упадок посреди жизни и кончающиеся бедностью, изгнанием и нищетой. Были тут и жизни людей, прославившихся своей наружностью, красотой, силой либо в состязаниях, а также родовитостью и доблестью своих предков. Соответственно была здесь и жизнь людей неприметных, а также жизнь женщин. Но это не определяло душевного склада, потому что душа непременно изменится, стоит лишь избрать другой образ жизни. Впрочем, тут были вперемежку богатство и бедность, болезнь и здоровье, а также промежуточные состояния.
Для человека, дорогой Главкон, вся опасность заключена как раз здесь, и потому следует по возможности заботиться, чтобы каждый из нас, оставив без внимания остальные познания, стал бы исследователем и учеником в области этого, если он будет в состоянии его откуда-либо почерпнуть. Следует отыскать и того, кто дал бы ему способность и умение распознавать порядочный и дурной образ жизни, а из представляющихся возможностей всегда и везде выбирать лучшее. Учитывая, какое отношение к добродетельной жизни имеет все то, о чем шла сейчас речь, и сопоставляя это все между собой, человек должен понимать, что такое красота, если она соединена с бедностью или богатством, и в сочетании с каким состоянием души она творит зло или благо, а также что значит благородное или низкое происхождение, частная жизнь, государственные должности, мощь и слабость, восприимчивость и неспособность к учению. Природные свойства души в сочетании друг с другом и с некоторыми благоприобретенными качествами делают то, что из всех возможностей человек способен, считаясь с природой души, по размышлении произвести выбор: худшим он будет считать образ жизни, который ведет к тому, что душа становится несправедливее, а лучшим, когда она делается справедливее; все же остальное он оставит в стороне. Мы уже видели, что и при жизни, и после смерти это самый важный выбор для человека. В Аид надо отойти с этим твердым, как адамант, убеждением, чтобы и там тебя не ошеломило богатство и тому подобное зло и чтобы ты не стал тираном, такой и подобной ей деятельностью не причинил бы много непоправимого зла, и не испытал бы еще большего зла сам. В жизни всегда надо уметь выбирать средний путь, избегая крайностей — как, по возможности, в здешней, так и во. всей последующей: в этом — высшее счастье для человека.
Да и вестник из того мира передавал, что прорицатель сказал тогда вот что: "Даже для того, кто приступит последним к выбору, имеется здесь приятная жизнь, совсем не плохая, если произвести выбор с умом и жить строго. Кто выбирает вначале, не будь невнимательным, а кто в конце, не отчаивайся!"
После этих слов прорицателя сразу же подошел тот, кому достался первый жребий: он взял себе жизнь могущественнейшего тирана. Из-за своего неразумия и ненасытности он произвел выбор, не поразмыслив, а там таилась роковая для него участь — пожирание собственных детей и другие всевозможные беды. Когда он потом, не торопясь, поразмыслил, он начал бить себя в грудь, горевать, что, делая свой выбор, не посчитался с предупреждением прорицателя, винил в этих бедах не себя, а судьбу, божества — все, что угодно, кроме себя самого. Между тем он был из числа тех, кто явился с неба и прожил свою предшествовавшую жизнь при упорядоченном государственном строе; правда, эта его добродетель была всего лишь делом привычки, а не плодом философского размышления. Вообще говоря, немало тех, кто пришел с неба, попалось на этом, потому что они не были закалены в трудностях. А те, кто приходил с земли, производили выбор, не торопясь: ведь они и сами испытали всякие трудности, да и видели их на примере других людей. Поэтому, а также из-за случайностей жеребьевки для большинства душ наблюдается смена плохого и хорошего. Если же, приходя в здешнюю жизнь, человек здраво философствовал и при выборе ему выпал жребий не из последних, тогда, согласно вестям из того мира, он скорее всего будет счастлив не только здесь, но и путь его отсюда туда и обратно будет не подземным, тернистым, но ровным, небесным.
Стоило взглянуть, рассказывал Эр, на это зрелище, как разные души выбирали себе ту или иную жизнь. Смотреть на это было жалко, смешно и странно. Большей частью выбор соответствовал привычкам предшествовавшей жизни. Эр видел, как душа бывшего Орфея[335] выбрала жизнь лебедя: из-за ненависти к женскому полу, так как от них он претерпел смерть, его душа не пожелала родиться от женщины. Он видел и душу Фамиры[336] — она выбрала жизнь соловья. Видел он и лебедя, который предпочел выбрать жизнь человеческую; то же самое и другие мусические существа. Душа, имевшая двадцатый жребий, выбрала жизнь льва: это была душа Аякса, сына Теламона[337], — она избегала стать человеком, памятуя об истории с присуждением доспехов. После него шла душа Агамемнона[338]. Вследствие перенесенных страданий она тоже неприязненно относилась к человеческому роду и сменила свою жизнь на жизнь орла. Между тем выпал жребий душе Аталанты[339]: заметив, каким великим почетом пользуется победитель на состязаниях, она не могла устоять и выбрала себе эту участь. После нее он видел, как душа Эпея, сына Панопея[340], входила в природу женщины, искусной в ремеслах. Где-то далеко, среди самых последних, он увидел душу Ферсита[341], этого всеобщего посмешища: она облачалась в обезьяну. Случайно самой последней из всех выпал жребий идти выбирать душе Одиссея[342]. Она помнила прежние тяготы и, отбросив всякое честолюбие, долго бродила, разыскивая жизнь обыкновенного человека, далекого от дел; наконец она насилу нашла ее, где-то валявшуюся: все ведь ею пренебрегли, но душа Одиссея, чуть ее увидела, сразу же избрала себе, сказав, что то же самое она сделала бы и в том случае, если бы ей выпал первый жребий. Души разных зверей точно так же переходили в людей и друг в друга, несправедливые — в диких, а справедливые — в кротких; словом, происходили всевозможные смешения.
Так вот, когда все души выбрали себе ту или иную жизнь, они в порядке жребия стали подходить к Лахесис. Какого кто избрал себе гения, того она с ним и посылает как стража жизни и исполнителя сделанного выбора. Прежде всего этот страж ведет душу к Клото, под ее руку и под кругообороты вращающегося веретена: этим он утверждает участь, какую кто себе выбрал по жребию. После прикосновения к Клото он ведет душу к пряже Атропос, чем делает нити жизни уже неизменными.
Отсюда душа, не оборачиваясь, идет к престолу Ананки и сквозь него проникает. Когда и другие души проходят его насквозь, они все вместе в жару и страшный зной отправляются на равнину Леты[343], где нет ни деревьев, ни другой растительности. Уже под вечер они располагаются у реки Амелет[344], вода которой не может удержаться ни в каком сосуде. В меру все должны были выпить этой воды, но, кто не соблюдал благоразумия, те пили без меры, а кто ее пьет таким образом, тот все забывает. Когда они легли спать, то в самую полночь раздался гром и разразилось землетрясение. Внезапно их понесло оттуда вверх в разные стороны, к местам, где им суждено было родиться, и они рассыпались по небу, как звезды. Эру же не было дозволено испить этой воды. Он не знает, где и каким образом душа его вернулась в тело[345]. Внезапно очнувшись на рассвете, он увидел себя на костре.
[Заключение: призыв соблюдать справедливость]
Таким-то вот образом, Главкон, сказание это спаслось, а не погибло. Оно и нас спасет; если мы поверим ему, стогда мы и через Лету легко перейдем и души своей не оскверним. Но в убеждении, что душа бессмертна и способна переносить любое зло и любое благо, мы все — если вы мне поверите — всегда будем держаться вышнего пути и всячески соблюдать справедливость вместе с разумностью, чтобы, пока мы здесь, быть друзьями самим себе и богам. А раз мы заслужим себе награду, словно победители на состязаниях, отовсюду собирающие дары, то и здесь, и в том тысячелетнем странствии, которое мы разбирали, нам будет хорошо.[346]
Рис. 2.
Античное веретено, которому соответствует форма веретена Ананки. АВ — ось веретена; С — вал
Рис. 2а
Вид веретена Ананки сверху. Римские цифры обозначают порядок сфер. Арабские — соотношение их поверхностей
[1] Имеется в виду шествие на празднестве богини Артемиды-Бендиды. Бендида — фракийская богиня, отождествлявшаяся с греч. Артемидой. В Пирее были святилища этой богини (Хеп., Hell. II 4, 11).
[2] Конский пробег с факелами обычно посвящался Прометею и Афине как богам, связанным с огнем, ремеслами и науками.
[3] Полемарх — наследник имущества Кефала и как его старший сын, и как преемник в его разговоре с Сократом.
[4] Приносящие жертву надевали на голову венок.
[5] О двух путях к пороку и добродетели см. у Гесиода:
Путь не тяжелый ко злу, обитает оно недалеко. Но добродетель от нас отделили бессмертные боги Тягостным потом: крута, высока и длинна к ней дорога...
("Труды и дни", стр. 288—290, перев. В . В . Вересаева ).
[6] У Гомера (II. XXIV 487) отец Ахилла "стоит на пороге старости скорбной".
[7] Схолиаст приводит здесь пословицу: "Галка садится рядом с галкой". Однако к данному тексту ближе другая: "Сверстник радует сверстника, старик—старика" (ср. "Федр", 240с).
[8] Софокл (496—405 гг. до и. э.) — великий греческий драматург, с большим трагизмом изобразивший старого, слепого, одинокого царя Эдипа ("Эдип в Колоне"). Однако поэт замечал, что "старости нет у мудрецов — тех, кому присущ ум, вскормленный божественным днем [юности]" (фр. 864 N.-Sn.).
[9] Фемистокл : см. т. 1, "Горгий", прим. 57. Сериф, о-в Кикладского архипелага, из-за своей незначительности и бедности жителей был предметом насмешек зажиточных греков. Разговор Фемистокла и жителя Серифа помещен также у Плутарха в "Сравнительных жизнеописаниях" (т. I, "Фемистокл", XVIII).
[10] О Пиндаре см. т. 1, "Горгий", прим. 38. Здесь — фр. 214 Sn.
[11] О поэте Симониде Кеосском см. т. 1, "Протагор", прим. 24, 46.
[12] Полемарх — наследник имущества Кефала и как его старший сын, и как преемник в его разговоре с Сократом.
[13] Кефал , задав тон своим определением справедливости, с которым не согласен Сократ, удаляется и больше в диалоге не участвует.
[14] О справедливости как воздаянии добра друзьям и зла врагам см. т. 1, "Менон", 71е. Эта традиционная этическая норма вызывала постоянный протест Сократа. Ср. т, 1, "Критон", прим. 11; "Горгий", прим. 28.
[15] У Гомера читаем об Автолике :
И был он великий Клятвопреступник и вор. Гермес даровал ему это.Бедра ягнят и козлят, приятные богу, сжигал он, И Автолику Гермес был и спутник в делах, и помощник.
(Од. XIX, 395—398, перев. В. В. Вересаева ).—100 . 615
[16] О семи мудрецах см. т. 1, "Протагор", прим. 55.
[17] Периандр , сын Кипсела, тиран Коринфа (VII—VI вв. до н. э.), прославленный своей государственной деятельностью и умом. Его причисляли к семи мудрецам, хотя Геродот (III 48—53; V 92) и рисует его жестоким, властным и неумолимым человеком. Воз: можно, что Периандр-мудрец не имеет ничего общего с этим тираном. Во всяком случае уже античность сомневалась в мудрости сына Кипсела (см. Diog. Laert. I 7, 97). Платон не считает его мудрецом (см. "Протагор", 343а).
Пердикка II—Македонский царь, отец известного Архелая. См. Платон . Соч., т. 1, "Горгий", прим. 20; Ксеркс . См. т. 1, "Гор гий", прим. 36; Исмений . См. т. 1, "Менон", прим. 30.
[18] Усмехнулся весьма сардонически : "сардонический", или "сарданский", смех, как пишет схолиаст к II. XV 102, это "когда кто-нибудь смеется не по внутреннему настроению". Связь этого названия с о. Сардинией объясняет Павсаний (X 17, 13), пишущий о ядовитой зелени о-ва Сардинии, вызывающей предсмертные конвульсии в виде смеха. См. также схолии к данному месту Платона. Все тексты о сардоническом смехе подобраны и переведены у А . Ф . Лосева (Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, стр. 136—139).
[19] Замечательная характеристика иронии Сократа дана в речи Алкивиада ("Пир", 215а — 216а, 221d—222b). См. также А. Ф. Лосев . Ирония античная и романтическая (сб. "Эстетика и искусство". М., 1966).
[20] Намек на то, что софисты брали всегда плату за обучение своей "мудрости". Ср. т. 1, "Апология Сократа", прим. 12, 13.
[21] О справедливости как праве сильного рассуждает софист Калликл в диалоге "Горгий". См. т. 1, "Горгий", 485а — 492с и прим. 33.
[22] Схолиаст пишет: "Полидамант из Скотуссы в Фессалии, знаменитый, самый сильный пятиборец, который, находясь в Персии у паря Оха, убивал львов и, вооружившись, сражался обнаженным".
[23] Софист Клитофонт иронизирует здесь над своим противником.
[24] Схолиаст отмечает, что эта пословица употребляется (довольно редко в классическом языке) в отношении тех, кто пытается взять на себя нечто невозможное.
[25] Единодушие (homonoia) и дружба (philia) были возведены в принцип справедливой государственной власти с развитием новых, космополитических, а че узкополисных идей растущего эллинистического общества. Еще у Ксенофонта Сократ в беседг с софистом Гиппием говорит: "Единодушие граждан, по общему мнению, есть величайшее благо для государства... везде в Элладе есть закон, чтобы граждане давали клятву жить в единодушии, и везде эту клятву дают" (Mem. IV 4, 16). Часто оперируют этим термином ораторы Исократ (Panegyr. 3, 104; Panath. 42, 77, 217, 225, 226, 258; Philipp. 16, 40, 141; Nicocl. 41; Агеор. 69) и Демосфен (I 5; IX 38; XVIII 246; XX 12, 110; XXII 77; XXIV 185;XXV 89).
Аристотель в "Никомаховой этике" отличает единодушие , или единомыслие , от дружбы , которой он посвятил VIII книгу. Единомыслие понимается Аристотелем не в плане личном, как простое совпадение мнений, а как категория социальная и этическая. В связи с этим Аристотель пишет: "Те государства мы назовем единомыслящими, которые имеют одинаковые воззрения на то, что полезно, и, стремясь к полезному, осуществляют его сообща". "Единомыслие есть политическая дружба", и она существует "между нравственными людьми", воля которых "направлена на полезное и на справедливое" и которые "к этой цели стремятся сообща". Единомыслия не может быть у дурных людей, так как они везде, где чуют наживу, стремятся к излишней выгоде и "польза общества" их не касается (Eth. Nic. IX 6, 1167а22 — b15). Идее единодушия посвятил три речи (38-40) блестящий оратор и деятель греческого Возрождения (1-11 вв. н. э.) Дион Хризостом.
[26] Платоновское сравнение любознательного человека с лакомкой получило развитие и детализацию у историка Полибия, III—II вв. до н. э. (III 57, 7—9), у Юлиана, IV в. н, э. (Orat. II 69с), ритора Фемистия, IV в. н. э. (Orat. XVIII 220), и у других авторов.
[27] О платоновском понимании полезного и его отличии от пригодного см. т. 1, прим. 31 к диалогу "Гиппий больший".
[28] Идея общественного договора, основанного на взаимном согласии людей, а не обусловленного природой, была широко распространена в античности у досократиков — атомистов и софистов. Согласно этой теории, всякое законодательство — продукт искусства, все боги "существуют не по природе, а вследствие искусства и в силу некоторых законов", прекрасным же "по природе является одно, а по закону — другое", "справедливого же вовсе нет по природе" ("Законы", 889е — 890а).
[29] Геродот рассказывает о царе Гиге , сыне Даскила (VII в. до н. э.), в бытность копьеносцем убившем Кандавла, своего господина, правителя Лидии, и завладевшем его богатством, женой и царством (I 8-15). Кольцо Гига Платон упоминает также в кн. X "Государства" (612b), сопоставляя его способность делать человека невидимым со шлемом Аида у Гомера (II. V 845). Волшебное кольцо Гига и шапка Аида фигурируют также у Лукиана (Bis accusatus, 21).
Платоновский Лид (здесь — отец Гига ), по Геродоту, — сын Атиса, эпоним лидийцев (I 7). Вполне возможно, что Платон здесь, как это у него часто бывает, сам творит миф, придавая ему глубокий нравственный смысл. О "многозлатом Гигесе" знал Архилох (фр. 22 Diehl)
[30] См. Эсхил . Семеро против Фив, 592 (о прорицателе Амфиарае, одном из семерых вождей, идущих па Фивы).
[31] Эсхил . Семеро против Фив, 593 сл. (также об Амфиарае).
[32] Поговорка эта восходит к Гомеру, у которого поток Скамандр (Ксанф) зовет на помощь своего брата Симоента, чтобы одолеть Ахилла: "Милый мой брат! Хоть вдвоем обуздаем неистовство мужа!" (Ил. XXI 308, перев. В . В . Вересаева },
[33] Гесиод . Труды и дни, 233 сл.
[34] Гомер . Од. XIX 109-113.
[35] Myсей и его сын , а может быть и отец, Евмолп — мифические певцы. Мусей обычно фигурирует в качестве учителя или ученика Орфея. В именах этих певцов ясно чувствуется персонификация одного из видов искусств — пения.
[36] Здесь явная насмешка над некоторыми аспектами орфических представлений о загробной жизни. Ср. у Плутарха (Сomp. Cim. et Lucull. 1).
[37] По преданию, Данаиды, убившие своих мужей, были осуждены вечно лить воду в бездонные амфоры (ср. намек на это у Горация, Саrm. III 11, 22-24).
[38] У Солона читаем: "много дурных людей обогащается, а хороших — страдает" (фр. 4, 9 Diehl). Феогнид восклицает (377-380):
Как же, Кронид, допускает душа твоя, чтоб нечестивцыУчасть имели одну с теми, кто правду блюдет,Чтобы равны тебе были разумный душой и надменный,В несправедливых делах жизнь проводящий свою?
[39] Платон в "Законах" пишет о вроде, который люди наносят "при помощи ворожбы, зачаровывающих песен и так называемых пут" (XII 933а).—-139.
[40] Гесиод . Труды и дни, 287-290.
[41] Это слова старца Феникса, обращенные к Ахиллу, остававшемуся неумолимым в ответ на просьбы ахейских послов (Гомер. Ил. IX 497-501).
[42] О Мусее и Орфее см. выше, прим. 9, а также т. 1, "Апология Сократа", прим. 52, и "Ион", прим. 25. Первые упоминания об Орфее относятся к VI в. до н. э. (Ивик, фр. 27 D: "славно именитый Орфей"). Пиндар (Pyth. IV 176 Sn.) называет его "прославленным отцом песен". Геродот (II 81) знает об орфических таинствах наряду с пифагорейскими и вакхическими. Родина Орфея — фессалийская Пиерия у Олимпа, где, согласно мифам, обитали Музы. По другой версии, он родился во Фракии от Музы Каллиопы и царя Эагра. Аристотель (фр. 9 Rose) прямо отрицал существование поэта Орфея, в то время как софист Гиппий считал его предшественником Гомера и Гесиода (86 В 6 D).
Орфею приписывали теогоническую поэму в 24 песни, так называемые "Священные слова"; отрывки из этой поэмы помещены в известном издании О . Керна (Orphicorum fragmenta. Berlin, 1922). Сборник "Орфические гимны" содержит гимны с VI в. до н. э. и кончая первыми веками н. э.
[43] Здесь имеются в виду орфики и их таинства. См. т. 1, "Горгий", прим. 82.
[44] Пиндар , фр. 213 Sn.
[45] Эти слова принадлежат поэту Симониду Кеосскому (фр. 55 Diehl). -140.
[46] Архилоху, знаменитому ямбографу VII—VI вв. до п. э., принадлежат две стихотворные басни о лисице и обезьяне (фр. 81 Diehl, а также фр. 88-95), которые подразумевают личные отношения Архилоха и Ликамба, отца его возлюбленной Необулы, вероломно обманувшего поэта. Обе басни известны в пересказе Эзопа (I 1, 14, см. в изд.: Corpus fabularum Aesopicarum, I, 1 of)., A. Hausrath. Lips., 1957; см. также "Басни Эзопа", перев. стать") и комм. М. Л. Гаспарова. М., 1968).
[47] Крупнейшие государства : имеются в виду Афины, особенно чтившие элевсинские мистерии; дети богов — Мусой и Орфей.
[48] Смысл этой эпиграммы: Главкон и Адимант — "дети Аристона ", буквально "лучшего человека", и отличаются в споре так же, как в сражении под Мегарой (409 или 405 г. до н. э.), о чем и написал некий поклонник Главкона (по одной из догадок это, может быть, Критий, хотя в дошедших до нас его элегических фрагментах таких строк нет).—143.
[49] Возникновение государства в связи с необходимостью удовлетворить потребности человека рассматривается Платоном также в "Законах", где исторический план повествования перемежается с легендарными представлениями о катастрофах, потопах, завоеваниях, замедливших развитие человечества, по вместе с тем способствовавших объединению людей в общества с установленными законами (III 676а—682е). Аристотель в "Политике" критикует Платона и Сократа с их государством, основанным на объединении классов ремесленников и земледельцев, удовлетворяющих нужды общества. Аристотель утверждает, что "все эти классы, по мнению Сократа, заполняют собою "первое" государство, как будто вечное государство образуется лишь ради удовлетворения насущных потребностей, а не имеет предпочтительно своею целью достижение прекрасного существования" (Polit. IV 3, 12, 1291а 10-19). Совершенно очевидно, что Аристотель напрасно сетует здесь на Платона, так как Платон разделяет причину возникновения государства и цель, для которой оно создано. Вряд ли Платон отрицал "прекрасное существование" (конечно, понимаемое как высшее благо , а не чисто прагматически и утилитарно) в качестве цели государства.
Об аристотелевской теории государства в связи с Платоном см. Д. Well. Aristote et 1'histoire. Essai sur la Politique. Paris, 1960, стр. 327-339.
[50] Если еще Гомером было замечено, что "люди несходны, те любят одно, а другие'—другое" (Од. XIV 228), то Ксенофонтов Сократ не только подтверждает отличие людей "по природе", но также их значительный прогресс благодаря упражнению "в той области, в которой хотят стать известной величиной" (Mem. Ill 9, 3).—146.
[51] Охотники : это можно понимать в прямом смысле (ср. "Законы", 823b — об охоте на разных зверей и птиц, а также об охоте на людей во время войны) либо в переносном, как в диалоге "Софист", где дается определение софиста в виде рыболова, поддевающего своих собеседников на крючок ложной мудрости (221 d-e).
Сам Сократ, по Ксенофонту, тоже считает себя опытным в "охоте за людьми" и советует Критобулу "быть хорошим человеком" и "ловить нравственных людей" (Xen. Mem. II, 6, 28— 29).
[52] О двух типах воспитания см. т. 1, "Критон", 50 d — e и прим. 13.
[53] Критику Гомера и Гесиода мы находим уже у досократиков. Особенно был известен в этом отношении элеат Ксенофан Колофонский, "порицавший обманщика Гомера" (А 1 D) и считавший, что "одинаково нечестиво поступают как те, которые утверждают, что боги родились, так и те, кто говорит, что боги умерли" (А 11 D).
По словам Ксенофана, Гомер и Гесиод "весьма много беззаконных дел рассказали о богах: воровство, прелюбодеяния и взаимный обман" (В 12). В своей известной 1-й элегии он утверждал, что "не должно воспевать сражений титанов, гигантов и кентавров—вымысел прежних времен" (В 1).
[54] Здесь имеется в виду узкий круг посвященных в мистерии, быть может в элевсинские, на которых приносили в жертву поросенка.
История оскопления Урана Кроносом и низвержения Кроноса в Тартар его сыном Зевсом красочно описана у Гесиода (Theog. 154-210, 452-505). Этот миф причислялся Ксенофаном к "беззакониям" Гесиода (В 12).
[55] О битве титанов с олимпийцами см. у Гесиода (Theog. 674-735); о битве богов — у Гомера (II. XX 1-75; XXI 385-514).
Что касается намека, о котором здесь идет речь, то, видимо, имеются в виду аллегорические толкования Гомера Гераклидом Понтпйским и другими авторами.
[56] Гомер . Ил. XXIV 527-533.
[57] В этой строке неизвестного происхождения содержится мысль, близкая Гесиоду и Пиндару. У Гесиода читаем о богах, что "в руке их кончина людей, и дурных и хороших". У Пиндара — что "Зевс уделяет и то и другое, Зевс — владыка всего" (Isthm. V 52, сл. Sn.).
[58] О нарушении клятв Пандаром и его коварном выстреле см. Гомер . Ил. IV 68-126.—759.
[59] Решение Зевса уничтожить по просьбе матери-Земли человеческий род в Троянской войне (отзвук этого мы находим в "Илиаде", I 5) было принято им совместно с Фемидой (см. Ргосli chrestomat., p. 102, 13 Alien), бывшей некогда (по словам Пиндара) "древней супругой Зевса", "благосоветной", "небесной" (фр. 30 Sn.).
[60] Эсхил , фр. 156 N.-Sn. (трагедия "Ниоба").—159.
[61] Ниоба , гордившаяся своими многочисленными сыновьями и дочерьми, потеряла их из-за зависти богов Аполлона и Артемиды, убивших всех ее детей (Ovid. Met. VI 146-312).
Пелопиды — потомки царя Пелопса, испытавшие на себе проклятие Зевса и вероломно убитого Пелопсом возничего Мир-тила. История Пелопидов, или Атридов (Атрей—сын Пелопса), стала предметом многих греческих трагедий (Эсхил — "Орестея";
Софокл —"Электра"; Еврипид —"Электра", "Орест" и др.).—159.
[62] Гомер . Од. XIII 485 сл.—161.
[63] Протей — см. т. 1, прим. 35 к диалогу "Ион". Фетида — дочь Нерея, морская богиня, супруга смертного героя Пелея и мать Ахилла. Она, как и Протей, была наделена даром бесконечных превращений (подобно самому морю — родной стихии обоих богов) .
[64] Схолиаст к "Лягушкам" Аристофана (ст. 1344) относит эти стихи к одной из драм Эсхила (фр. 168 N.-Sn.). Дочь Инаха, Ио, возлюбленная Зевса, была жрицей Геры.
[65] Относительное представление о правде и лжи было широко распространено в Греции. У Геродота прямо говорится: "Где ложь нужна, там следует лгать. Ведь цель правды и лжи одна и та же. Одни лгут в расчете убедить ложью и извлечь из того пользу, другие говорят правду для того, чтобы правдивостью добыть корысть и внушить к себе больше доверия, таким образом, в обоих случаях мы преследуем одну и ту же цель, хотя и различными средствами" (III 72). Софокл говорит: "Нехорошо лгать, но когда правда ведет к страшной гибели, то извинительно и нехорошее" (фр. 326 N.-Sn.). У Аристотеля в "Никомаховой этике" читаем: "Говоря безотносительно, ложь дурна и заслуживает порицания, истина же прекрасна н похвальна", но "настоящему лжецу самая ложь правится", а другим людям она нужна ради выгоды (IV 13, 1127а 28-1127b it).
[66] Зевс послал Агамемнону обманный сон, желая испытать твердость ахейского войска (Гомер. Ил. II 1-41).
[67] Согласно преданию, Аполлон играл на форминге во время свадьбы Пелея и Фетиды, будучи вместе с тем, по словам Геры, "всегда вероломным" (Гомер . Ил. XXIV 62 ел.). Здесь цитируется фр. 350 из неустановленной трагедии Эсхила.
[68] Царство смерти не должно, по Платону, пугать мужественных воинов, так как умирать, сражаясь за родину в первых рядах бойцов, почетно и прекрасно; об этом писал еще поэт Тиртей (6. 7 D }.
[69] С этими словами тень Ахилла обращается к Одиссею, спустившемуся в царство мертвых (Гомер . Од. XI 489-491).
[70] Гомер . Ил. XX 64 cл.
[71] Эти слова принадлежат Ахиллу, не сумевшему удержать явившуюся к нему ночью тень своего погибшего друга Патрокла (Гомер . Ил. XXIII 103 сл.).
[72] В Аиде способность мыслить оставлена только фиванскому прорицателю Тиресию. Остальные души лишены разума и памяти (Гомер . Од. Х 495).
[73] Речь здесь идет о душе убитого Гектором Патрокла, которая горестно отлетает в Аид (Гомер . Ил. XVI 856 сл.).
[74] Так уходит душа Патрокла из рук пытавшегося обнять ее Ахилла (Гомер . Ил. XXIII 100 сл.).
[75] С летучими мышами сравниваются души убитых Одиссеем женихов Пенелопы, которых бог Гермес ведет в Аид (Гомер . Од. XXIV 6-9). О судьбе души в загробном мире см. т. 1, прим. 82 к диалогу "Горгий".
[76] Кокит , Стикс — см. т. 2, прим. 70, 71 к диалогу "Федон".
[77] Здесь цитируются стихи из "Илиады" Гомера, описывающие горе и тоску Ахилла после гибели его друга Патрокла (Ил. XXIV 10-13 и XVIII 23-27).
[78] Гомер . Ил. XXII 413 сл. Троянский царь Приам, отец Гектора, просил сограждан отпустить его к Ахиллу, чтобы умолить того прекратить надругательство над телом убитого сына.
[79] Эти слова произносит мать Ахилла, морская богиня Фетида, вышедшая из моря со своими сестрами Нереидами, чтобы утешить сына, оплакивающего своего друга Патрокла (Ил. XVIII 54).
[80] Зевс произносит эти слова, глядя на преследование Ахиллом Гектора (Ил. XXII 168 cл.).
[81] Зевс горюет, предугадывая гибель своего сына Сарпедона от руки Патрокла (Ил. XVI, 433 сл.).
[82] Ил. I 599 сл.
[83] О необходимости лжи, идущей на пользу государственному человеку, Платон говорит и далее, 414 с
[84] Гомер . Од. XVII 384 сл. Свинопас Эвмей перечисляет здесь тех, кто "для смертных желанны везде на земле беспредельной" (Од. XVII 386).
[85] Диомед обращается с этими словами к Сфенелу, несправедливо упрекающему царя Агамемнона во лжи (Ил. IV 412).
[86] Первая из этих строк — Ил. III, 8, вторая — там же, IV 431.
[87] Так гневный Ахилл бранит Агамемнона (Ил. I 225).
[88] Слушая пение Демодока во дворце царя Алкиноя, Одиссей восхваляет радость пиршественного стола (Од. IX 8-10). Здесь Платон как бы забывает, что гомеровский Одиссей хвалит не только пышную трапезу, но и "радость светлую", наполняющую сердца гостей, внимающих "песнопениям прекрасным" мужа, "по пению равного богу" (IX 2-8).
[89] Эти слова служили убедительным аргументом для спутников Одиссея, зарезавших священных коров Гелиоса (Од. XII 342).
[90] Здесь имеется в виду обольщение Зевса Герой (Ил. XIV 295), замыслившей погубить троянцев во время сна Зевса.
[91] Певец Демодок на пиру у царя Алкиноя поет о Гефесте, заковавшем в нерасторжимые сети свою жену Афродиту, изменившую ему с Аресом (Од. VIII 266-366).
[92] Одиссей сдерживает себя, возмущенный бесчинством женихов в его собственном доме (Од. XX 17 сл.).
[93] Эта строка приписывается Гесиоду {Суда , v. dôra), видимо, по созвучию с мыслями поэта о "дароядных людях" (Орр. 221) и "царях — дароядцах" (там же, 263).
[94] См. Ил. IX 515
[95] См. Ил. XIX 278
[96] См. Ил. XXIV 175 сл.
[97] См. Ил. XXII 15 сл .
[98] См. Ил. XXI 130-132, 211-226, 233-329 — поединок Ахилла с богом реки Скамандром.
[99] Ил. XXIII 140-151. Платон забывает, что Ахилл должен был посвятить свои волосы реке Сперхею и в память о Патрокле, гибель которого как бы предвещала его собственную.
[100] См. Ил. XXII 395-405.
[101] См. Ил. XXIII 175
[102] Пелей, царь мирмидонян, — сын Эака и внук Зевса.
[103] Хирон-сын Кроноса и Филиры (Apollod. I 2, 4), мудрый кентавр, воспитавший на горе Пелион многих героев, и в том числе Пелея.
[104] Тесей и его друг, царь лапифов Пирифой, пытались похитить супругу Аида, богиню царства мертвых Персефону. Хотя Платон называет Пирифоя сыном Зевса, но он — сын царя Иксиона, тоже святотатца, пытавшегося, согласно преданию, овладеть супругой Зевса Герой (Find. Pyth. II 21 -48 ).
[105] См. "Государство", II 379а.
[106] Эсхил . Ниоба (фр. 162 N.-Sn.). Эти слова, видимо, принадлежат Ниобе и относятся к ее отцу, сыну Зевса Танталу
[107] Здесь явно содержится отзвук слов Фрасимаха (см. выше, I 343а — 344а).
[108] Сократ делит здесь всю поэзию на три рода, образцы которых он приводит в дальнейшем (394с): 1) повествование самого поэта, например дифирамб; 2) подражание поэта в трагедии и комедии и 3) эпический род, совместивший в себе рассказ и драматическую речь. Следует отметить, что классическая античность в любых видах искусства видела преимущественно только разную степень мимесиса, т. e. подражания (Aristot , Poet. I 1447a13-1447b29). У Аристотеля мы читаем: "Именно подражать в одном и том же и одному и тому же можно, рассказывая о событии как о чем-то отдельном от себя, подобно тому, как это делает Гомер, или же так, что подражающий остается сам собою, не изменяя своего лица или представляя всех изображаемых лиц как действующих и деятельных" (Poet. Ill 1448a 20-24, перев. Аппельрота ).
Если здесь Аристотель рассматривает все искусства как подражательные, уточняя лишь степень этой подражательности в разных видах искусства, то Платон в данном тексте достаточно резко расходится с Аристотелем, полагая, что истинное искусство вообще не может быть подражательным. Такой настоящей поэзией Платон считает дифирамб (см. 394с), древний вид поэзии, который, по Платону, выражает безыскусственное чувство.
О термине мимесис у досократиков см. т. 1, прим. 57 к диалогу "Кратил".
О двух типах подражания — создающих истинные образы и кажущиеся (подобия) — см. т. 2, прим. 16 и 18 к диалогу "Софист". Сводка новейших работ по теории мимесиса имеется в книге: Aristotle poetics, introd., comm., and appendices by D. W. Lucas, Oxf., 1968, Append. I, p. 258
[109] Сократ рассказывает начало "Илиады" (I I-42), где вождь ахейцев Агамемнон навлекает на свое войско чуму, посланную Аполлоном за то, что Агамемнон оскорбил бога, отняв у жреца Хриса его дочь.
[110] Гомер . Ил. I 15 сл.
[111] См. Ил. I 7-21.
[112] В "Илиаде" изображен ряд военных эпизодов последнего года осады Трои. О-в Итака — родина Одиссея, героя поэмы "Одиссея".
[113] Сократ нарочито прозаически пересказывает "Илиаду" (I, 11-42).
[114] Ср. утверждение Сократа, противоположное этому, в "Пире" (223d). См. также т. 2, прим. 97 к диалогу "Пир".
[115] Стражи государства должны искусно владеть своим ремеслом — "охраной свободы", т. e. укреплением законов, но которым строго соблюдается сознательная иерархия подчинения одного сословия другому.
[116] О "многознайстве" еще Гераклит говорил, что оно "не научает уму" (В 40 D).
[117] Об этической стороне гармонии (лада) и ритмов см. выше, прим. 14 к диалогу "Филеб".Классические труды античных авторов по гармонии и ритму см. в изданиях: Aristides Quintilianus de musica, ed. R. P. Winnington-Ingram. Lips., 1963; Aristoxenus von Tarent. Ubers. u. erlaut. v. R. Westphal. Leipz., 1883; Die harmonischen Fragmente des Aristoxenus, griechisch und deutsch, herausgeg. v. P. Marquard. Berl., 1868; Scriptores musici, ed. C. Jan. Lipsiae, 1895.
[118] Тригон , букв. "треугольник" — музыкальный щипковый инструмент, близкий к лире; издавал слишком нежные и мягкие звуки. Пектида — многострунная разновидность лиры лидийского происхождения. На ней играли без плектра, перебирая струны пальцами. Многострунные инструменты, но Платону, раздробляя единую гармонию на множество оттенков, способствуют как бы дроблению целостности человека, развивая утонченность, изощренность и распущенность. На этом же основании из государства изгоняется флейта (см. ниже), известная своим многоголосием и обостренным, экстатическим звучанием, далеким от классической простоты.
[119] Инструмент Аполлона — лира, а Марсия — флейта. Известен миф о музыкальном состязании бога Аполлона и дикого сатира Марсия, подобравшего флейту, брошенную Афиной. Аполлон — победитель — приказал содрать с Марсия кожу и повесить ее в пещере, где она, колеблясь от ветра, издает жалобные звуки (Овидий . "Метаморфозы", VI 382-400; Ксенофонт . "Анабазис", I 2, 8). В этом мифе-символическое противопоставление благородной сдержанности лиры и дикой страстности флейты, то есть классической Греции и ее хтонических древних истоков.
[120] В греческом стихосложении, основанном на пропорциональном чередовании долгих и кратких слогов, различали три главных типа ритмических форм: равные формы, где долгая часть стопы равна ее краткой части (2:2 — дактиль – U U; анапест U U –; спондей – –); двойные формы, где долгая часть стопы вдвое длиннее, чем краткая (2:1 — ямб U – –; трохей, или хорей – U; ионики U U – –); полуторные формы, где долгая часть стопы в полтора раза длиннее краткой (3:2 — все четыре вида пэонов – U U U, U – U U, U U – U, U U U –; кретик – – –; бакхий – – U). Об этих ритмических формах, которые можно назвать также двудольными, трехдольными и пятидольными. см. в кн.: А . Ф . Лосев . Античная музыкальная эстетика. М., 1960— 1961, стр. 94-104. Древние авторы подчеркивали обычно "важность", "торжественность", "величавость" дактило-спондея, образующего эпический гекзаметр; мягкость и печальность элегического стиха; маршеобразный, бодрый характер анапеста; "ужас" и "страшность" трохея; "быстроту", "ярость", "неукротимость" ямба; расслабленность и размягченность иоников; "энтузиастичность" пэонов, связанную с культом фригийских корибантов — Великой матери богов Кибелы.
Под четырьмя звучаниями имеется в виду музыкальным тетрахорд , состоящий из двух топов и одного полутона, который заполняет один из интервалов в начале, середине или конце тетрахорда, создавая тем самым определенное чередование, т. e. гармонию или лад — фригийский, лидийский, дорийский, ионийский.
[121] Дамон — см. т. 1, прим. 27 к диалогу "Протагор". Дамон изобрел "спущенный" лидийский (гиполидийский) лад, противоположный миксолидийскому, но весьма сходный с ионийским (Plat . De mus. 16). По другим сведениям, у Плутарха (там же), лидийский лад изобрел флейтист Пифоклид.
[122] Дактилическая стопа входит в эпический гексаметр, почему здесь и объединяется с героическим размером (эноплием), который схолиаст к "Облакам" Аристофана (651) отождествляет с кретиком, или амфимакром (– U –). Вместе с тем схолиаст как будто сближает эноплий с пиррихием (U U), когда называет его "видом ритма, при котором танцевали, потрясая оружием".
[123] Ямб (U –) и трохей (– U) — см. прим. 53.
[124] Ср. "Протагор", 326b — о кифаристах, которые, обучая музыке, "заставляют души мальчиков свыкаться с гармонией и ритмом, чтобы они стали более чуткими, соразмерными, гармоничными, чтобы были пригодны для речей и для деятельности; ведь и вся жизнь человеческая нуждается в ритме и гармонии.
[125] См. т. 1, прим. 38 к диалогу "Протагор".
[126] Взаимоотношения любящего и любимого не раз рассматриваются в "Пире" Платона. Взаимная любовь, по Платону, учит стремиться к прекрасному. См. т. 2, прим. 31, 32, 40 к диалогу "Пир".
[127] О связи гимнастики и мусического воспитания см. т. 1, прим. 13 к диалогу "Критон"; о гимнастике, воспитывающей тело человека, см. т. 2, прим. 50 к диалогу "Пир".
[128] Мысль Платона о том, что добрая душа благотворно влияет на тело, ср. с созвучным этому замечанием Демокрита: "Людям следует больше заботиться о душе, чем о теле, ибо совершенство души исправляет недостатки тела, телесная же сила без рассудка нисколько не улучшает душу" (68 В 187 D = Маков . 384).
[129] О знаменитых сиракузских кулинарах см. т. 1, прим. 77 к диалогу "Горгий".
[130] По преданию, коринфяне славились легкостью своих нравов. Об этом см. у Фемистия (Oral XXIV, р. 301Ь = Themistii orationes, emend, a G. Dindorfio. Lips., 1832)
[131] Об аттических лакомствах читаем у Афинея (XIV 643е — 648с), который перечисляет бесконечное количество изделий из теста, сладостей, печений, варений на виноградном сиропе и меду, каждый раз указывая, кто из греческих авторов упоминает данное редкое блюдо.
[132] Асклепиады (от Асклепия-бога врачевания)-общество врачей, известное своей деятельностью на о-вах Родосе, Косе и Книде.
[133] Асклепий — см. прим. 65 и т. 1, прим. 2 к диалогу "Ион".
[134] Сыновья Асклепия — Махаон и Подалирий, участники осады Трои. Они прославились исцелением Филоктета (Apollod. Epit. 5, S }.
[135] Платон объединяет здесь два разных эпизода "Илиады". В кн. XI (638-641) пленница Нестора Гекамеда угощает Нестора я раненого Махаона смесью из козьего сыра и ячной муки на прамнийском вине. В кн. XI (842-848) Патрокл исцеляет раненого Еврипила, вынув у него из бедра наконечник стрелы и присыпав рану целебным порошком горького корня.
[136] О Геродике см. т. 1, прим. 26 к диалогу "Протагор".
[137] Фокилид из Милета (VI в. до н. э.) —известный гномический поэт, автор высокоморальных изречений в форме элегических стихов (I 48-51 DiehL). Здесь упоминается фр. 9 D .
[138] В Ил. (IV 212-219) Махаон, залечивая рану Менелая, высасывает из нее кровь и посыпает рану лекарствами, как учил его отца Асклепия мудрый кентавр Хирон.
[139] Мидас — см. т. 2, прим. 60 к диалогу "Федр".
[140] Пиндар подробно описывает рождение Асклепия , его удивительные способности целителя; вместе с тем он замечает, что "корыстью ослепляется и мудрость", и рассказывает драматическую историю гибели Асклепия, которого, как оказывается, совратило золото, "заблиставшее в руках", "великая плата" за то, чтобы "он возвратил от смерти уже плененного ею человека". За это Зевс испепелил его молнией (Pyth. III 55-58 Sn.).
[141] См. Ил. XVII 587 сл.: Аполлон, обращаясь к Гектору, упрекает его за бегство от Менелая, который все время был "копьеборцем ничтожным".
[142] Ср. т. 1, прим. 15 к диалогу "Менон".
[143] Три рода испытаний, о которых здесь говорит Сократ, употреблялись в практике античного воспитания, особенно у спартанцев.
[144] См. выше, 389 b-d.
[145] "Финикийский вымысел" — т. e. чужеземная и вместе с тем очень древняя выдумка (схолиаст Платона производит это выражение от имени финикийца Кадма, сына Агенора), которую использовали на благо народа умелые законодатели. В "Законах" Платон приводит миф о Кадме как пример того, что "можно убедить души молодых людей в чем угодно" (II б64а).
[146] Миф о порождении людей землей не раз упоминается Платоном. См. т. 2, прим. 29 к диалогу "Софист"; прим. 25 к диалогу "Тимей".
[147] У Эсхила в трагедии "Семеро против Фив" Этеокл призывает граждан "на защиту детей и милой матери, родной земли" (ст. 16 -20 ).
[148] Сократ использует здесь гесиодовский прием объединения истории поколений человеческого рода с металлами разного достоинства — золотом, серебром, медью и железом; градация эта свидетельствует о неуклонном ухудшении людей (Hesiod . Opp. 109-201). Это разделение на поколения было подвергнуто резкой критике Аристотелем, который скептически отнесся и к "Государству" и к "Законам" Платона (Polit. II, 2, 1264Ь 6-25).
[149] Имеются в виду так называемые сисситии (совместные трапезы), которые были приняты у спартанцев. В "Законах" сисситии считаются обязательными (VI 762с).
[150] Здесь также отзвуки обычаев, перенятых в Спарте. Плутарх сообщает, что спартанские эфоры приговорили к смерти друга полководца Лисандра Торака, "вместе с ним командовавшего войском и уличенного во владении золотом" (Lys. XIX). Ксенофонт, описывая Лакедемонское государство и его законодательство, основанное Ликургом, отмечает, что этот последний "запретил свободным гражданам все, что имеет отношение к прибыли, заставив их думать только о том, что доставляет свободу городу"; поэтому "золото и серебро тщательно разыскиваются, и если окажутся, то владелец подвергается штрафу" (Rep. Lac. VII 3, 6).
[151] Ср. "Гиппий больший", 290 b-d, где утверждается, что "каждую вещь делает прекрасной то, что для каждой вещи подходит".
[152] Речь идет об игре в шахматы, при которой "город" как бы разделен на две враждующие стороны.
[153] Древнее изречение, быть может пифагорейское. Ср. "Государство", V 449с, и "Законы", V 739с, где проводится идея общности жен, детей и всего имущества.
[154] Гомер . Од. I 351 сл.
[155] В "Законах" Платон тоже говорит об огромном воспитательном значении игры (VII 797b).
[156] У Ксенофонта Сократ говорит своему другу Херекрату: "Да разве не принято, чтобы младший при встрече уступал старшему дорогу? Если он сидит, чтобы вставал, чтобы в знак уважения отдавал ему лучшую постель, чтобы при разговоре предоставлял ему первое слово?" (Mem. II 3, 16). У Аристотеля также читаем: "Вообще говоря, мы обязаны выказывать почтение каждому старшему лицу, вставая перед ним, уступая ему почетное место" (Eth Nic. IX, 2, 1165а27сл.).
[157] Здесь — сравнение с лернейской гидрой , у которой вместо отсеченной Гераклом головы вырастало десять новых. Имеется в виду вред, приносимый законодателями, заботящимися не об общественной пользе, а только о личной выгоде и тщеславии, когда внесение одного, якобы полезного, закона порождало множество бедствий.
[158] Аполлон считался покровителем упорядоченного государства (см., например, Эсхил , "Эвмениды") и общественной гармонии. В "Законах" прямо говорится, что "надлежит заимствовать законы из Дельф и ими пользоваться, назначив для них истолкователей" (VI 759с).
[159] Отечественный наставник — это бог Аполлон, отец Иона, родившегося от соблазненной богом афинской царевны Креусы. История Иона, родоначальника афинян, названных по его имени ионийцами (Herod . VIII 44), послужила сюжетом для драмы Еврипида "Ион".
[160] В Дельфах, у святилища Аполлона, находился так называемый "Омфал", "пуп Земли" — тот самый камень, который, согласно мифу, некогда Рея дала проглотить Кроносу вместо младенца Зевса. Когда Кронос изверг его обратно, камень "поместили в Дельфы под самым Парнасом" как святыню, обозначавшую центр Земли (Hesiod . Theog. 497—500). Омфал (из глыбы белого мрамора) умащали возлияниями, облачая его в разные одежды. Сведения об Омфале находим у Павсания (X 16, 3), Страбона (IX 3, 6), Эсхила (Eum. 39—41), Пиндара (Paean. VI 15—17 Sn.).
[161] О добродетели и ее видах см. также т. 1, "Менон" 70а - 81b. - 217 .
[162] Халестрийский поташ — щелочный натр. Назван но имени города Халестра, или Халастра, в Мигдопии.
[163] Здесь — характерное употребление музыкальной терминологии — созвучие (symphonia) и гармония — для нравственной характеристики человека, который этими качествами объединяется с порядком , т. e. космосом , основанным на мировой гармонии и созвучии сфер (ср. "Тимей", прим. 32, а также "Государство", Х 616с-617 с ).-221 .
[164] Рассудительность , по Платону, создает гармоничное звучание всех "струн" города, т. e. гармоничную жизнь его сословий.
[165] Платон часто приводит эту пословицу. См. т. 1, "Гиппий больший", 304е и прим. 37.
[166] Для Платона человек-"микрокосм" соответствует не только обществу, но также Вселенной-"макрокосму"; поэтому для человека и общества, хоть и в разной степени, характерен принцип автаркии (ср. "Тимей", прим. 42). Как видно из дальнейших строк (441с — d), у Платона элементы души и соответствующие им нравственные качества отдельного человека типичны для целых государств и народов.
[167] Фракия —крайний север Греции, на границе с Македонией. Скифия — причерноморские и приазовские земли, бывшие для греков далекими северными пределами. О Скифии см. Геродот , IV.
[168] В этом месте устанавливается логический закон противоречия , звучащий формально по сравнению с диалектическим законом единства противоположностей . У Платона можно найти и другие тексты, подтверждающие закон противоречия: "Ничего другого не остается по отношению к каждой вещи, кроме как либо знать, либо не знать" ("Теэтет", 188 а-b): "Большое никогда не согласится быть одновременно и большим и малым", и "вообще ни одна из противоположностей, оставаясь тем, что она есть, не хочет ни превращаться в другую противоположность, ни быть ею, но либо удаляется, либо при этом изменении гибнет" ("Федон", 102е — 103е).
[169] Платоновское учение о душе наиболее кратко излагает Диоген Лаэртский (III, 67), отмечая самодвижностъ (aytocineton) и трехчастность души, причем ее разумная часть (logisticon meros) находится, по Диогену, в голове, яростная (thymoeides) — в сердце, вожделеющая (epithymeticon) — в области пупка и печени.
[170] Намек на эту историю есть во фрагментах аттических комедиографов (см. Коек , I, р. 739, Theopompi fr. 24).
[171] Гомер . Од. XX 17
[172] Здесь у Платона Гиппократова теория происхождения болезни. По Гиппократу, здоровье основано на "равномерном соотношении крови, слизи, желчи (желтой и черной) при их смешении друг с другом", а болезнь происходит, если "что-либо из них находится в меньшем или большем количестве, чем это установлено в теле" (De nat. horn. VI 40 с 4). Ср. в "Тимее" (82 а-b):избыток и недостаток в теле четырех элементов (земля, огонь, вода и воздух) и перемещение их из своего места в другое приводят к болезням и нарушениям порядка человеческого тела.
[173] Для Сократа главное в жизни государства — мудрость, а не факт управления его одним или многими людьми. В "Политике" Платон пишет, что важно не наличие "немногих или многих, свободных или несвободных, не бедность или богатство, а некое знание" (292с). Платон, видимо, предпочитает власть одного человека, ибо единственно правильного правления можно искать "между немногими — в малом, в одном". Все же остальные виды правления он считает "подражаниями" ("Политик", 297с).
[174] Ответ на этот вопрос дается в VIII книге, где подвергаются критике извращенные формы государственного правления, куда включаются тимократия, олигархия, демократия и тирания.
[175] См. выше, кн. IV 424а и прим. 3.
[176] Поговорка, указывающая на бездумное занятие.
[177] Адрастея , она же Немесида, — богиня судьбы и мести. См. т. 1, прим. 82 к диалогу "Горгий" (стр. 575). Сократ молится Адрастее, так как опасается ее мести за слишком смелые мысли об общности жен и детей в государстве.
[178] Критяне и спартанцы, славившиеся своим суровым законодательством, раньше других греков обратили внимание на систему физического воспитания своих граждан с юных лет и до старости. На Крите и в Спарте гимнастикой занимались в обнаженном виде, хотя у большинства эллинов и "варваров", например у лидийцев, "даже мужчина считает для себя большим позором, если его увидят нагим" (Геродот , I 10). Фукидид (I 6, 5) сообщает, что спартанцы первые стали заниматься в палестре обнаженными и "жирно умащали себя маслом". У Еврипида в "Андромахе" старик Пелей возмущен спартанскими девушками, которые, покинув дом и сняв с себя одежды, состязаются в беге с юношами в палестре (595—601).
[179] По преданию, дельфины всегда спасали терпящего бедствие человека. Плиний (Hist. nat. IX 8, 7) рассказывает о дельфине, который в бурю вынес ребенка на берег и, когда ребенок скончался, умер на прибрежном песке.
[180] О противопоставлении у Платона спора (эристики ) методу беседы и рассуждения (диалектике ) см. т. 1, прим. 10 к диалогу "Менон".
[181] Возможно, здесь содержится намек на комедию Аристофана "Женщины в народном собрании", которая осмеивает социальные теории, в равной мере известные Платону и Аристофану. В этой комедии женщины устанавливают общность имущества, денег, рабов, одежды, жилищ (ст. 590—594, 597—610, 673—692), жен (611—634), детей (635—650) и т. д. Особенно бросаются в глаза некоторые параллели, например: Платон 457 сл. сл. = Аристофан 614 сл.; 463с, 461d = 635—637; 462а = 590—594. Цитируемый здесь стих принадлежит Пиндару (фр. 209 Sn.).
[182] О терминах полезный и вредный в соответствии с терминами пригодный и непригодный см. т. 1, прим. 31 к диалогу "Гиппий больший".
[183] Аристотель в "Политике" (II 1) подвергает резкой критике общность жен и детей в платоновском государстве: по его мнению, объединение государства в единую семью приведет к его уничтожению. Множество детей, имеющих такое множество отцов, что "любой человек будет в равной степени сыном любого же отца" (там же, 1261b 39—1262a 1), приведет к тому, что "все сыновья в равной мере будут пренебрегать своим отцом" (там же, 1262а 1). Точно так же физическое сходство между родителями и детьми послужило бы доказательством их реальных родственных отношений и нарушило бы пресловутое единство. Более того, проступки, совершаемые в обществе, будут оскорблять чувства всех отцов, матерей и близких, причем искупить преступление будет нельзя, так как "когда не знаешь, каких близких ты оскорбил, то не может быть и никакого искупления" (1262а 30—32). Далее, отцы, сыновья и братья будут вступать в любовные отношения, "которые оказываются наиболее предосудительными" (1262а 34—36). Аристотель делает вывод, что закон об общности жен и детей "ведет к результату, противоположному тому, какой надлежит иметь законам" (1262Ь 3—7).
[184] Геометрическая необходимость — т. e. соображения разумного плана. Ср. т. 1, "Горгий", 508а и прим. 63: геометрическим в этом месте "Горгия" названо "истинное, наилучшее равенство".
[185] Священным браком называли брак Зевса и Геры на горе Иде (Ил. XIV 291-360) или вообще идеальный брак божественной пары. Платон в "Законах" именует священным тот брак, который одобрен законом и совершен по закону. Нарушивший такой брак лишается "всех почетных гражданских отличий как действительно чуждый государству" (VIII 841е).
[186] Здесь Платон, как и ниже (461с), по-видимому, осуждает на смерть детей с физическими недостатками: это отзвук обычая, бытовавшего в Спарте. Плутарх говорит по поводу смерти такого ребенка, что "жизнь не нужна ни ему самому, ни государству" (Lye. XVI).
[187] Рождение детей от родителей "цветущего" возраста (для женщин — с 20 до 30 лет, а для мужчин — приблизительно с 25 до 55 лет) устанавливается здесь Платоном по аналогии со спартанским законодательством. Ксенофонт (Rep. Lac. I 6) и Плутарх (Lye. XV 4) сообщают приблизительно такие же сведения. В "Законах" Платон также определяет границы возрастов: мужчина вступает в брак в 25—30 лет (VI 772d) или в 30—35 (785b), женщина выходит замуж между 18 и 20 годами (785b). Еще Гесиод писал:
До тридцати не спеши, но и за тридцать долго не медли.Лет тридцати ожениться — вот самое лучшее время.Года четыре пусть зреет невеста, женитесь на пятом.
("Труды и дни", 696—698, перев. В . В . Вересаева )
Аристотель в "Политике" также одобряет родителей, вступающих в брак в "цветущем возрасте", т. e. до пятидесяти лет, так как "потомство перезрелых родителей", так же как и потомство слишком молодых, и в физическом и в интеллектуальном отношении несовершенно (VII 14, 1335b 29—31).—.255.
[188] Пифия — пророчица Аполлона в Дельфах.
[189] Для Платона характерно целостное восприятие человека. "Все, что возникло, возникло ради всего целого, так чтобы осуществилось присущее жизни всего целого блаженное бытие" ("Законы", 903с). Поэтому главное—это "спасение и добродетель целого" (там же, 903Ь), так что "всякий врач, всякий искусный ремесленник всё делает ради всего целого и направляет всё к общему благу; он занимается частью ради целого, а не целым ради части" (903с).
[190] Античные авторы часто идеализировали примитивный коммунизм варварских племен. У Геродота, например, племя агафирсов, известное своими мягкими нравами, имеет общность жен, "чтобы всем быть братьями между собой и родными и не возбуждать друг в друге ни зависти, ни вражды" (IV 104).
[191] Представление о государстве как теле (sôma) характерно для античности, где даже человек представлялся в первую очередь неким телом, а не личностью в позднейшем смысле слова. Интересные материалы на эту тему находим у Ксенофонта, Фукидида, Демосфена, хотя в эллинистическое время "телом" именуют уже не свободных граждан, а рабов или тех, кто попал в зависимость. О телесном, "соматическом" понимании человека в Греции см. A . Tacho -Godi . Podstawy fizicznego pojmovania osoby ludzniej w swietle analizy terminu soma ("Menander", 1969, № 4, стр. 157-165).
[192] Победители на Олимпийских играх имели много привилегий: они, например, обедали в течение всей жизни на общественный счет или сражались в бою в первом ряду бок о бок с царями (спартанцы).
[193] См. выше, IV 419а.
[194] Гесиод пишет:
Дурни не знают, что больше бывает, чем всё, половина.
("Труды и дни", 40, перев. В . В . Вересаева ).—266 .
[195] Гомер . Ил. VIII, 162; выше (468d) — также цитата из "Илиады" (VII, 321).
[196] Гесиод . Труды и дни, 121 сл.
[197] Обычай снимать оружие и доспехи с побежденного убитого врага издавна был распространен в Греции. У Гомера находим драматические картины битвы за мертвое тело и доспехи. Например, в "Илиаде", XVII, Менелай совершает подвиги, отбивая тело убитого Гектором Патрокла и снимая доспехи с убитого Евфорба. Вешать оружие врага в храм было узаконено. Фукидид сообщает (III 114, 1), что после одной из побед Демосфена в храмы Аттики принесли "триста полных доспехов". По Плутарху, только спартанцы не следовали этому обычаю (Apophtheg. Lac. 224b), так как считали, что "доспехи принадлежат трусам". Может быть, отказ от древних диких обычаев происходит здесь у Платона под воздействием высоко ценимых им спартанских законов.
[198] Греки были глубоко убеждены в своем коренном отличии от "варваров" и по природе своей, и по установлениям. Героиня драмы Еврипида "Ифигения в Авлиде" искренне верит, что отдает свою жизнь за Элладу потому, что "у эллинов в обычае властвовать над варварами, а не у варваров — над эллинами: они — рабское племя, а эллины—свободные" (Iphig. Aul. 1397-1401). Эсхил в "Персах" также дал великолепные образы свободных по природе и законам демократии греков, с одной стороны, и персов, извечных рабов своего деспота, — с другой (176-196).
[199] B кн. IV 441с Сократ говорит, что он уже переплыл одно препятствие, а в кн. V 457b он избегает волны, чтобы не захлебнуться, излагая законодательство о женщинах. Третья волна, в представлении греков, все равно что у нас — девятый вал.
[200] Этот знаменитый тезис Платон стремился воплотить в жизнь, совершив три путешествия в Сицилию к тиранам Дионисию Старшему и Дионисию Младшему и надеясь превратить этих тиранов в просвещенных правителей (см. А . Ф . Лосев . Введение к наст. изд., т. 1, стр. 28— 36).
[201] Обнаженные : как борцы в палестре.
[202] Ср. у Лукреция о "медунице" (IV 1160). О "медовом цвете" говорит также Феокрит (X 27).
[203] Схолиаст сообщает, что в Афинах было 10 фил, каждая из которых делилась на три части — "триттии", которые в свою очередь делились на фратрии. Каждая триттия имела своего триттиарха.
[204] Ср. "Пир", 203d, где философией всю жизнь занят Эрот, так как "Эрот" — это любовь к прекрасному, вечное стремление к знанию и мудрости (204Ь). См. также т. 1, прим. 32 к диалогу "Горгий".
[205] В греч. подлиннике стоит слово aneleytheria: "несвободный". "недостойный свободного человека" образ действия; схолиаст объясняет это слово как "низменное отношение к деньгам", противопоставляя его щедрости и широте души (megaloprepeia). Этим последним термином Платон обозначает великодушие или выдающуюся натуру (см. ниже, 487а), т. e. нравственную щедрость человека, а не только щедрость в отношении денег. См. также т. 1, прим. 8 к диалогу "Менон".
[206] О значении соразмерности и меры у Платона см. выше, прим. 41 к диалогу "Филеб".
[207] Mом — бог злоязычия и насмешки, сын Ночи (см. Гесиод . Теогония, 214). У Лукиана Мом критикует все, что создали Афина, Посейдон и Гефест ("Гермотим", 20 ).
[208] Козлоподобный олень , или "трагелаф", — фантастическое составное существо. У Аристофана ("Лягушки", 937) трагелаф наряду с "конепетухом" символизирует высокопарность и сложность эсхиловской трагедии.
[209] Мандрагора — растение с корнем в виде человеческой фигурки, известное своим снотворным действием.
[210] Этот эпитет применили к Сократу его обвинители. Ср. т. 1, "Апология Сократа", 18b-с и 19b-с, а также прим. 8 и 11.
[211] Аристотель приписал поэту Симониду Кеосскому слова, чти "мудрецы постоянно торчат у дверей богатых" (см. Rhet. II Id, 1391а 8-12). Однако схолиаст к данному месту приводит разговор Сократа с неким Евбулом, которому Сократ остроумно возразил, что мудрецы у дверей богатых знают, что им нужно из того, что раздают богачи, а эти последние не знают, что они получат от мудрецов. Близкий к этому рассказ о беседе философа киренаика Аристиппа и тирана Дионисия Сиракузского находим у Диогена Лаэртского (II 8, 69).
[212] Отзвук этой поговорки мы встречаем в "Пире" (176с): "Сократ не в счет".
[213] Божественный удел , по Платону, даруется людям независимо от воспитания. В "Меноне", например, говорится о том, что государственные люди не научаются добродетели (94b-e), но мудры "от бога" (99b-d).
[214] Схолиаст к данному месту Платона поясняет эту пословицу рассказом о Диомеде и Одиссее, похитивших палладий Афины в Трое.
[215] О разнице между истинной философией и софистикой см. т. 1, прим. 32 к диалогу "Горгий". Вопросу определения софиста посвящен Платоном диалог "Софист" (см. т. 2).
[216] Феаг упоминается в "Апологии Сократа" (33е) среди учеников Сократа. См. т. 1, прим. 38 к "Апологии Сократа". Этому лицу посвящен у Платона диалог "Феаг".
[217] О божественном знамении , или о гении Сократа, см. т. 1, прим. 29а и 33 к "Апологии Сократа".
[218] Об этой пословице см. выше, прим. 15 к кн. IV.
[219] У Гераклита "не только ежедневно новое солнце, но солнце постоянно, непрерывно обновляется" (В6 D).
[220] Гомеровское обычное наименование героев: "божественный", "подобный богу", "равный богу" идет от мифологического представления о причастности героев богам, от которых они некогда все произошли; кроме того, здесь наличествует поэтическое понимание "божественного" как наилучшего, прекрасного.
[221] См. кн. IV 439с-d.
[222] Об идее блага, воплощенной в творце мира — демиурге — см. "Тимей", 29а. Ср. "Государство", VI 507с, 510а - 511d. Единое "Парменида" есть также не что иное, как высшее благо. Учение Платона о благе было настолько известно в античности, что вошло даже в поговорку. Диоген Лаэртский приводит слова из комедии Амфиса: "А что касается блага, какое оно... то я знаю о нем не больше, чем я знаю о благе Платона" (фр. 6 Kock).
[223] О разных пониманиях блага см. в "Филебе" (11b), где для одних оно — "радость, наслаждение, удовольствие", а для других — "разумение, мышление, память и то, что сродно с ними: правильное мнение и истинные суждения". По Аристотелю, "люди образуют понятия блага и блаженства сообразно с жизнью, которую они ведут", причем "толпа" видит благо в наслаждении (Eth. Nic. I 3, 1095e 14-16).
[224] В "Филебе" Сократ говорит Протарху, что нельзя верить учению, которое все противоположности приводит к единству (13е-14а); он имеет здесь в виду обычную софистическую игру словами.
[225] О знании и мнении см. т. 1, прим. 44 к диалогу "Менон". Весь диалог "Теэтет" посвящен критике сенсуализма как источника ложных мнений.
[226] Родитель : здесь—то высшее благо , которое в "Тимее" именуется демиургом (ср. выше, прим. 18).
[227] Все предшествующие рассуждения, начиная с 548а, подводят собеседников Сократа к мысли об идее высшего блага, которое ни от чего не зависит, само себя определяет, находясь за пределами бытия (epeceina tês ousias—509b), и является не чем иным, как тем беспредпосылочным началом (archê anypothetos — 510b), которое символически можно выразить в образе Солнца (509а), всё одаряющего, дающего человеку возможность видения мира, но вместе с тем ослепительно недоступного.
Идея Солнца как высшего блага была чрезвычайно симптоматична для кануна эллинизма, каковым явилось время написания "Государства". Поздняя античность видела в Солнце объединяющую и организующую весь мир силу в противовес архаической матери-Земле и раннеклассическим четырем элементам (вода, воздух, земля, огонь) натурфилософов.
Такую первостепенную роль Солнце получило не сразу. В традиционной генеалогии Гесиода Гея и Уран рождают, среди других своих детей, титанов Гипериона и Фейю (Theog. 132—135), которые, "сочетавшись в любви", в свою очередь рождают Солпце-Гелиоса, Селену-Луну и Эос-Зарю (371—374). У Гомера Гелиос имеет свой остров Тринакию, где пасутся тучные стада быков и овец (Od. XII 380 ел.).
Мифологический Гелиос у досократиков отождествлялся с Зевсом (Ферекид А 9), Гефестом, Аполлоном и огнем (Феаген, 2), прямо именуясь у орфиков Гелиосом-Огнем (1 В 21). Он—"владыка" у Эмпедокла (31 В 47) и "отец растений" у Анаксагора (59 А 117), хотя тот же Анаксагор видит в Солнце только "огненную массу" (А 1), а Гераклит говорит: "Солнце не преступит положенной ему меры" (22В94). Скромное место Солнца, хотя оно и "бог" (5 В, la), наглядно выступает у пифагорейцев, в космологической системе которых в центре Вселенной находится мировой огонь — Гестия, а Солнце занимает место рядом с Луной и Землей (Филолай А 16).
Объединение Солнца-Гелиоса с Фебом-Аполлоном, великим организующим и оформляющим началом, способствовало представлению о Солнце как универсальной мировой силе. Это объединение, начавшееся еще в доклассическую эпоху, превратилось в прямое отождествление в литературе и философии эпохи эллинизма. У стоика Корнута (XXII) Аполлон прежде всего—это Солнце и огонь. Дионисий Галикарнасский тоже прямо отождествляет Аполлона и Солнце (Opusc. II 256, 14—16). Аполлону-Солнцу посвящен гимн Месомеда, вольноотпущенника императора Адриана (С. Jan . Musici scriptores graeci. Lips., 1895, 460—468). Дион Xpисостом (II в. н. э.) говорит, что "некоторые считают одним и тем же Аполлона, Гелиоса и Диониса" (I р. 347, 27 ел.). Но для Плутарха (De Pyth. orac. 12) Аполлон является Солнцем не в буквальном, физическом смысле, но по своим "истечениям и переменам", когда Аполлон одновременно становится всеми стихиями, в том числе и огненной (De E Delph. 21), и утверждается, что "Солнце является его порождением и вечно становящимся произведением всего сущего" (De def. orac. 42). Плутарх, таким образом, впервые делает попытку философски осмыслить принцип, объединяющий Аполлона и Солнце, прокладывая тем самым дорогу неоплатоническому единому , "формообразующей" монад" Ямвлиха (In Nicom. arithm. introd. 13, 1—14, 3). У Плотина, как И у Платона, божественное нельзя созерцать физическими глазами, но только внутренним зрением (V 8, 10). Для Порфирия Аполлон — "солнечный ум" (см. Prod. In Plat. Tim. I 159, 26 сл.). Прокл не сомневается в тождестве Аполлона и Солнца (In Tim. Ill 284, 1-4), причем, по Проклу, аполлоновский свет, проходя через мировой ум , освещает весь чувственный мир. Наконец, понимание Солнца как максимально универсальной мощной живительной силы, однако не личностной, а физической, нашло свое воплощение в знаменитой речи "К царю Солнцу" неоплатоника Юлиана. Так представление о Солнце как высшей надмировой идее, управляющей Вселенной и ее организующей, укрепилось в поздней античности. Ср. также т. 2, "Теэтет", 153d.
Анализ беспредпосылочного начала Платона со ссылками на современные философские учения дан в книге А . Ф . Лосева "История античной эстетики" (М., 1969, стр. 627-634). А. Ф. Лосеву принадлежит также вышеуказанный перевод этого термина.
[228] Рассудок (dianoia) является здесь промежуточной категорией между мнением (doxa) и умом (nous), причастными соответственно чувственному и идеальному мирам.
[229] Разум (noesis) и рассудок (dianoia) относятся Платоном к сфере умопостигаемой, а вера и уподобление — к сфере чувственной.
[230] Гомер . Од. XI 490—491. Ср. выше, кн. III, прим. 2.
[231] Знаменитый символ пещеры у Платона дает читателю образное понятие о мире высших идей и мире чувственно воспринимаемых вещей, которые суть не что иное, как тени идей, их слабые копии и подобия.
Ограниченность человеческой жизни примитивным существованием выражена Платоном также в "Федоне" (109а—Hid), в мифе о двух Землях — нашей, человеческой, и вышней, небесной, — согласно которому люди обитают в глубоких впадинах, в грязных и изъеденных морской солью расселинах нашей Земли, не догадываясь, что есть истинное небо, истинный свет и истинная Земля.
В греческой философской традиции пещера как символ духовной ослепленности встречается очень редко, и трактовку, которую дает Платон, можно считать оригинальной. Намек на этот символ есть в "Прикованном Прометее" Эсхила, где описывается безрадостная жизнь жалких человеческих существ, которые наподобие "проворных муравьев" обитают в "глубинах бессолнечных пещер" и, "глядя, не видят", "слушая, не слышат", а жизнь их подобна "образам сновидений" (447—453). Видимо, символ пещеры был знаком и пифагорейцам (Porphyr. De antro nymph. 8 Nauck), а также Эмпедоклу, у которого во фрагментах "душеводительные силы" говорят: "Пришли мы в эту закрытую пещеру" (31В120). Ферекид Сирский в своих символах "углублений", "ям", "пещер" и "ворот" намекает на "рождение и умирание души" (7 В 6 D).
[232] Об Островах блаженных , обители героев-праведников, см. т. 1, прим. 82 к диалогу "Горгий", стр. 573. Геродот указывает, что в Египте, в семи днях пути от Фив через пустыню, есть город Оасис, по-эллински называемый Островом блаженных.
[233] Здесь узники — сословия земледельцев и ремесленников в противоположность стражам, приобщенным к "свету", т. e. к наукам.
[234] О терминах чистый (catharos), чистота (catharotês) и очищение (catharsis) у Платона см. в кн.: А.Ф. Лосев . История античной эстетики. М., 1969, стр. 302—310, где рассматривается чистота физическая, чистота ума, души, идей и магический смысл катартики. Самая ценная чистота для Платона — это "чистота узрения предмета мысли, как такового", и она-то и есть "максимальная красота" всех областей бытия, "начиная от телесных и земных и кончая эфирными и небесными" (там же, стр. 305).
[235] Здесь речь идет о роли случая, на основе которого построена игра в камешки, или черепки . Ср. "Федр", 241b.
[236] О Паламеде см. т. 1, прим. 53 к "Апологии Сократа". Об Агамемноне см. т. 2, прим. 15 к диалогу "Пир".
Паламед считался изобретателем шашек (игры в кости), алфавита и счета (Aesch., фр. 182; Soph. фр. 438; Eur. фр. 578), хотя Эсхил приписывал изобретение цифр и букв Прометею (Prom. vinct. 459-461).
[237] Чувственно воспринимаемая единица ("одно") всегда включает в себя также и множество (один город — много людей, один человек—много частей тела, одна рука—много пальцев и т. д.). Попытки найти такое одно, которое не предполагает ничего, кроме себя, ведет к мысленному восхождению к беспредпосылочному началу, или Единому , т. e. наука о числах способствует стремлению к философским размышлениям.
[238] Здесь имеется в виду бесконечная делимость конкретного числа, воплощенного в вещах, и неделимость идеального числа.
[239] Известно, какое громадное значение Платон придавал геометрии. При входе в Академию была надпись: "Негеометр — да не войдет". В Академию вообще не принимались те, кто был далек от музыки, геометрии и астрономии. Диоген Лаэртский сообщает (IV 10), что глава Академии Ксенократ сказал человеку, не сведущему в вышеуказанных науках: "Иди, у тебя нечем ухватиться за философию". Среди учеников Платона были крупные математики Евдокс и Менехм, а геометр Евклид "был близок платоновской философии" (Prod. in Euclid. 68).
[240] Дать задний ход — метафора от команды моряков.
[241] Здесь имеется в виду стереометрия (греч. stereos—твердый), изучающая положение твердых тел в пространстве.
[242] Под кубом понимается здесь любое тело, имеющее три измерения. Сократ говорит, видимо, о задаче "удвоения куба", которой занимались пифагорейцы и разрешение которой с применением не стереометрии, а планиметрии предложил Гиппократ Хиосский (42 В 4 D).
[243] Ср. у Эсхила: "ночь в расшитом узорами одеянии" (Prom. vinct. 24 — о ночном звездном небе) или у Эврипида: "узоры звезд" (Неl. 1096).
[244] О Дедале см. т. 1, прим. 10 к диалогу "Ион".
[245] Платон связывает между собой астрономию и музыку, так как, согласно учению пифагорейцев, которому он тут следует, движение небесных тел, доступное зрению, создает гармонию сфер, лежащую в основе музыкальной гармонии, доступной человеческому слуху.
[246] Здесь критикуется пифагорейское экспериментаторство. Изучением качества звука занимался древний пифагореец Гиппас: он изготовил медные доски и извлекал из них "симфонию звуков" "по причине некоторой соразмерности" (18 А 12 D). Ему принадлежит учение о быстром и медленном движении звуков, которые он наблюдал на сосудах, в разных соотношениях наполненных жидкостью (А 13).
[247] Диалектика, по Платону, является единственно правильным и универсальным методом постижения высшего блага , так как все науки изучают только чувственно-вещественное его проявление в осязаемом, видимом мире (см. ниже, 533d).
[248] Ср. "Государство", VI 511b-а.
[249] Незрелый разум детей можно, по Платону, сравнить с бессловесностью линий или с величинами, значение которых "неизреченно" или "невыразимо" (arrêtoi, alogoi), т. e. с величинами иррациональными.
[250] См. Солон , фр. 22 D.
[251] Ср. эту персонификацию с персонификацией законов и государства в "Критоне" (50a—54d; см. также т. 1, прим. 12 к диалогу "Критон").
[252] Ср. рассуждение Аристотеля о том, что "молодой человек не пригоден к занятию политической наукой, так как он неопытен в делах житейских". Кроме того, считает Аристотель, он под влиянием аффектов не получит пользу от изучения политических теорий. Людям, подверженным аффектам, познание приносит мало пользы (Eth. Nic. I 1, 1095а 2—11).
[253] См. выше, кн. VII 514а и ниже. Здесь имеется в виду повседневная практическая деятельность философов.
[254] Возможно, здесь содержится намек на идеальную жизнь уже за пределами чувственного мира, которая вдохновенно изображена Платоном в "Федоне" и в Х книге "Государства".
[255] Схолиаст к данному месту считает это профессиональным выражением борцов, когда результатом борьбы оказывается ничья и надо повторить схватку. Ср. "Федр", 236с; "Законы", 682е.
[256] Известны спартано-критские пристрастия Платона, ощутимо выраженные в "Законах". В Спарте, согласно Платону, устанавливал законы Аполлон, на Крите — Зевс, с которым общался царь Минос, действовавший "сообразно его откровениям" (I 624a-625а). Перикл высоко ценил традиционное уважение младшими старших у спартанцев (Xen. Mem. III 5, 15). Аристотель же в "Политике", обсуждая государственный строй Спарты и Крита (II 6-7), находит в Спарте много недостатков (в том числе свободное положение женщин и несоразмерность владения собственностью), соглашаясь с Платоном лишь в том, что система спартанского законодательства рассчитана "на часть добродетели, именно на добродетель, относящуюся к войне" (1271 b1-3).
[257] Олигархия — "власть немногих". Подробный анализ олигархии дан у Аристотеля в "Политике" (IV 5). Здесь указано, что власть обеспечена высоким имущественным цензом, закрывающим доступ к должностям большинству гражданского населения. Аристотель устанавливает четыре типа олигархии, иной раз приближающейся то к аристократическому, то к династическому наследственному правлению.
[258] Демократическая форма правления рассмотрена у Аристотеля ("Политика", IV 4) также с подробным анализом пяти ее типов, различающихся по степени осуществления равенства, имущественному цензу и отношению к закону.
[259] Аристотель, рассматривая тиранию ("Политика", IV 8), выделяет три ее типа. Первые два близки к царской власти, покоясь на законном основании и на добровольном признании со стороны подданных, хотя "власть в них осуществляется деспотически, по произволу тиранов" (1295а 15-17). Третий вид—тирания по преимуществу — соответствует абсолютной монархии, но возникает "против желания подданных", так как "никто из свободных людей не согласится добровольно подчиняться такого рода власти" (1295а 17-23). В "Риторике" Аристотель определяет тиранию как "неограниченную (aoristos) монархию" (I 8, 1366а 2).
[260] Наследственная власть , или "династия", — вид правления, по Аристотелю, когда власть переходит по наследству от отца к сыну и господствует не закон, а должностные лица (Polit. IV 5, 1292b 5 сл.).
[261] Приобретаемая за деньги царская власть —это, по Аристотелю, правление наподобие того, что было в Карфагене (Polit. II 8, 1273а 36).
[262] К промежуточной форме правления, видимо, относится власть "эсимнетов" (Arist . Polit. IV 8 1295а 10-14), как, например, на о. Лесбосе, где такими монархами, избранными пожизненно и обладающими законодательной властью, были Питтак и Мир-сил.
[263] Ср. выше, IV 445с-d.
[264] Ср. т. 1, "Апология Сократа", 34d и прим. 39.
[265] Под тимократией (греч. timê — "честь", "цена", "плата") подразумевается правление, основанное на принципе ценза, обусловленного имущественным положением, как, например, в Афинах до конституции Солона или в Коринфе после падения рода Кипсела.Аристотель указывает, что из трех видов правления (монархия, аристократия и тимократия) "лучшее — монархия, худшее — тимократия" (Ethic. Nic. VIII 12, 1160a31-1160b69).
[266] Здесь, видимо, намек на "Илиаду" (XVI 112).
[267] Пророчество Муз о гибели идеального государства основано на так называемом "Платоновом (или "брачном") числе". Это загадочное число — обычная для Платона попытка математически осмыслить наилучшие условия для процветания идеального общества, которое строится по типу человеческого организма, в свою очередь являющегося отражением высшего и благого космического ума . У Платона, испытавшего большое влияние пифагорейцев, познание космоса, общества и человека сопряжено с определенными числовыми соотношениями и обосновывается геометрически. Согласно учению Платона, человеческие порождения, а значит и общество, могут достичь совершенства только при осуществлении равномерной, или "равносторонней", "квадратной" гармонии. "Продолговатые же числа выражают неравномерность, неправильность развития. Что касается вопроса о конкретном математическом значении "брачного числа", то он вызывал многочисленные дискуссии на протяжении веков и продолжает оставаться спорным. Некоторые комментаторы усматривают здесь связь с периодом (количестве дней) утробного развития ребенка. Подробно относительно всевозможных математических толкований этого места см. в кн.: А . Ф . Лосев . История античной эстетики. Софисты. Сократ. Платон М., 1969, стр. 319
[268] См. Гесиод . Труды и дни, 109
[269] См. выше, III 415a .
[270] Платон рисует здесь образ государства, близкий по своим главным чертам к Спарте V в. до н. э., где была объединена суровая простота военного лагеря с жадным накоплением богатств И небывалой роскошью. О скупости спартанцев читаем в "Андромахе" Еврипида (451) и в "Мире" Аристофана (621), где спартанцы названы "корыстолюбивыми" (aischrocerdeis). Хотя накопление золота н серебра в Спарте формально запрещалось, о больших богатствах спартанцев сообщает Ксенофонт (Rep. Lac. VII b)
О смешанном виде правления в Спарте Платон упоминает н раз. В "Законах" Мегилл прямо говорит, что не знает, к каком роду следует это правление причислять. То оно "похоже даже на тиранию", а то "на самое демократическое из всех государств"; хотя в нем "странно не признать и аристократию", и "пожизненную царскую власть" (IV 712d-e)
[271] Главкон , как сообщает Ксенофонт, будучи едва двадцатилетним юношей, хотел "стать во главе государства" и "чувство вал себя великим человеком", слыша иронические похвалы Сократа (Mem. Ill 6, 1-2); последний в конце концов отговорил его, посоветовав, если он хочет "пользоваться славой и уважение" в городе", стараться добиться "как можно лучшего знания в избранной сфере деятельности" (III 6, 18).
[272] Здесь несколько перефразируются слова Этеокла, repot трагедии Эсхила "Семеро против Фив", обратившегося к вестник} с просьбой рассказать "о вождях, поставленных со своими войсками у других ворот" (Aesch. Sept. 451).
[273] Здесь имеется в виду бог богатства Плутос, слепой по своей природе (см. комедию Аристофана "Плутос") и потому несправедливо распределяющий богатство среди людей.
[274] См. выше (552с-d) аналогию с трутнями.
[275] Ср. Демосфен (Olynth. II 21), где проводится аналогия между болезнями тела и государства. Они не замечаются, когда тело здорово или войны происходят с внешними врагами, но тотчас становятся заметными, когда тело заболевает или война происходит внутри государства.
[276] Лотофаги — сказочное племя, употреблявшее в пищу лотос, съев который чужеземцы теряют память и забывают родину (Гомер . Од. IX 83-102).
[277] Здесь — персонификация, близкая к той, что находим в VII кн. "Государства" (см. прим. 22 к этой книге).
[278] Эсхил , фр. 351 N.-Sn.
[279] Схолиаст указывает, что эта пословица имеет в виду "подобие управляемых с управляющими".
[280] Аристотель пишет: "Большая часть тиранов вышла, собственно говоря, из демагогов, которые приобрели доверие народа тем, что клеветали па знатных" (Polit. V 8. 1310b 14-16).
[281] Об этом оракуле, данном в Дельфах Крезу, сообщает Геродот (I 55).
[282] Гомер . Ил. XVI 775.
[283] Схолиаст приписывает этот стих трагедии Софокла "Аякс Локрский" (фр. 13 N.-Sn.). У Эврипида, как указывает схолиаст, тоже есть такой стих.
[284] Ср. Эврипид . Троянки, 1169.
[285] О понятии "калокагатии" (ближе всего переводится как достоинство ) в Древней Греции см. А . Ф . Лосев . Классическая калокагатия и ее типы (сб. "Вопросы эстетики", № 3. М., 1950). где платоновская "калокагатия" определяется (по "Тимею", 87с-89d) как "соразмерность души, соразмерность тела и соразмерность того и другого" (указ. соч., стр. 457).
В "Государстве" (III 401d-e) это понятие выражено через учение о "симметрии" души, переходящей в "симметрию" жизни И поступков; тем самым устанавливается связь с ритмом, гармонией и музыкой, "проявляющимися внутри человека и вовне, в его суждениях и поступках" (указ. соч., стр. 459).
[286] Соответствует русской пословице: "Из огня да в полымя".
[287] Аристотель в "Никомаховой этике" исследует вопрос о разумной и неразумной частях души. Оказывается, что растительная часть неразумной души "более всего деятельна во время сна" и поэтому даже сновидения порядочных людей "становятся худшими", т. e. жизнь людей хороших во сне "ничем не отличается от жизни несчастных", иначе, по Аристотелю, дурных людей (см. I 13, 1102bЗ-11).
[288] Об Эроте см. т. 2, прим. 25 к диалогу "Пир".
[289] Схолиаст к данному месту поясняет, что это поговорка о тех, кто, не зная ответа сам, ищет его у своего собеседника, задавшего вопрос
[290] Эта характеристика сына, воспитанного в стремлении к тирании, имеет великолепную комедийную параллель в "Облаках" Аристофана, где также показан процесс формирования будущего демагога, для которого нет ничего святого и который готов поднять руку на собственных родителей. См. особенно спор Правды и Кривды (ст. 889-1104) и конец комедии, где сын, презирая отца, бьет его и еще ловко доказывает, что бьет его "по справедливости", а отец в отчаянии бранит его "отцеубийцей", "мошенником" и "нечестивцем" (1325-1335), в ответ на что сын обещает избить также еще и мать (1444). Сын — Фидиппид — обучается философии жизни в школе, якобы возглавляемой Сократом. Известно, что враги Сократа распространяли слухи о его влиянии на Алкивиада, стремившегося к тирании, и Крития — одного из Тридцати тиранов, которые как раз очень рано отошли от Сократа, не найдя в его учении подходящей для себя почвы.
[291] "Родина -мать ": лексикограф Фотий (v. metrida) поясняет, что "Платон и комик Ферекрат употребляют это слово в значении отечество ".
[292] Хор в античном театре обычно олицетворял собою народную мудрость Хор в античном театре обычно олицетворял собою народную мудрость и давал оценку всему происходящему.
[293] О тройственном составе человеческой души см. вып кн. IV, 439 b—441 а и прим. 19.
[294] Сократ показал, во-первых, рабское состояние города, не павшего под власть тирана, и жалкую жизнь самого тирана, запуганного своей же властью (577с — 580с); во-вторых, что философ обладает тем высоким удовольствием, которое соответствует разумной части души (580d — 583а); наконец, в-третьих, он собирается доказать, что удовольствие других людей — только тень истинного, чистого удовольствия, доступного философу.
Метафора здесь взята от пиршественных возлияний; ср. выше, прим. 59 к диалогу "Филеб".
[295] Об удовольствиях от запахов см. также "Филеб", прим 46.
[296] Подобный же образ есть в "Горгии" (493b), где люди, не просвещенные разумом, разнузданные и алчные, сравнивают с дырявой бочкой.
[297] О Стесихоре и его палинодии Елене см. также т. 2, прим. 25 к диалогу "Федр".
[298] Платон, как это для него чрезвычайно характерно, очень часто передает моральные качества и состояние человека посредством геометрических фигур, требующих простейших арифметических расчетов. Здесь перед нами Сократ рисует разные форм правления и типы удовольствий, которыми обладает тот или иной правитель, причем выясняется, насколько подлинное удовольствие царя превышает так называемое удовольствие тирана. Счастье тирана есть лишь тень тени истинного счастья и может быт выражено только квадратом, сторона которого равна 9, а площадь — числу 81. Однако, чтобы выразить всю глубину падения тирана или, что то же самое, всю глубину царственного удовольствия, необходимо создание тела с тремя измерениями, т. e. куб (9х9х9=729).
Итак, мы имеем следующие пропорции: 9: 81: 729. Царственное счастье, следовательно, в 729 раз превосходит удовольствие тирана. Это число, по Платону, соответствует сумме чисел дней и ночей в году: 364 1/2 + 364 1/2 (ср. Филолай , 44 А 22). Но это же число выражает так называемый большой год, согласно пифагорейцу Филолаю (см. там же), состоящий из 59 лет и 21 добавочного месяца, что всего составляет 729 месяцев; возможно, здесь имеется в виду именно этот большой год.
Что касается жизней , то, может быть, жизнь царя равна числу 729, разделенному на 12 месяцев, т. e. приблизительно 67 годам, что превышает обычно отмеряемые античностью годы полной жизни — 60 лет.
[299] Намек на Фрасимаха, который в кн. I (343d — 344с) доказывал, что несправедливость сильнее и могущественнее справедливости и приносит человеку больше пользы, чем последняя.
[300] Химера , Скилла , Кербер — мифологические чудовища. Химера — существо с телом дракона и головой льва. Скилла — чудовище с шестью собачьими головами, обитающее в пещере над морем и пожирающее мореходов пастью с тремя рядами зубов. Кербер — пес с 50 головами, рожденный Ехидной и Тифоном. У римских авторов Вергилия (Aen VI 417—423) и Овидия (Met. IV 449 сл.) Кербер с тремя головами и змеиным хвостом. Он стережет вход в Аид.
[301] Ср. Данте . Вступление к "Божественной Комедии", где говорится об одном из трех страшных грехов, воплощенном в образе рыси "в ярких пятнах пестрого узора".
[302] Эрифила — мать Алкмеона и супруга Амфиарая, не желавшего по своему благочестию выступить в поход против Фив. Она выдала своего мужа, соблазнившись драгоценным ожерельем (Гомер . Од. XI 326 сл.).
[303] См. выше, кн. I 343а-b.
[304] В "Законах" все виды общества объявляются Платоном лишь "сожительством граждан, где одна часть владычествует, а другая рабски повинуется", а не подлинным "государственным устройством". Подлинному государству "надо было бы дать название по имени бога, истинного владыки разумных людей" (IV 713а). Таковым, по древнему мифу, было государство при самом Кроносе. Но царство Кроноса — это "золотой век" (ср. Hes. Орр. 109-126), когда правят не цари, а существа божественного рода, демоны (гении) ("Законы", 713b-с). Для трех собеседников в "Законах" естественно строить идеальное государство по подобию божьему.
[305] Гомер рисуется основателем "подражательной" (драматической) поэзии не только у Платона (ср. "Теэтет", 152е, где величайшим в трагедии поэтом назван Гомер), но и у Аристотеля, который писал: "Гомер был величайшим поэтом, потому что он не только хорошо слагал стихи, но и создавал драматическое изображение" (Poet. 4, 1448b 34 сл.).
[306] Живописец, по мнению Сократа, наиболее далек от истинной идеи вещи, так как он подражатель третьей степени, подражающий плотнику, сделавшему скамью по образцу идеи. Замечательно, что идея скамьи есть нечто существенно отличное от того, что кажется подражающему ей художнику. Художник подражает не самой идее скамьи, а только ее различным видимым глазу воплощениям, и тем самым он далеко отстает от истины и от "царя", т. e., по Платону, от устроителя и создателя космоса — демиурга.
О подражании ("мимесисе") см. выше, прим. 41 к кн. III.
[307] Об Асклепии см. т. 1, прим. 2 к диалогу "Ион", и выше, прим. 73 к кн. III.
[308] Харонд — см. т. 1, прим. 55 к диалогу "Протагор". Солон —см. вводные замечания (стр. 661) и прим. 11 к диалогу "Тимей", а также т. 1, прим. 55 к диалогу "Протагор".
[309] Фалес — см. т. 1, прим. 2 к диалогу "Гиппий больший". Анахарсис —легендарный скиф, прославившийся во время путешествия в Грецию своей мудростью и под влиянием Солона посвятивший себя философии. О нем сообщает Геродот (Геродот , IV 76). -427 .
[310] Пифагор (VI в. до н. э.) из г. Регия (Юж. Италия) — древнегреческий философ, с именем которого связано много легендарных мотивов. После многочисленных путешествий на Восток поселился на юге Италии, в Кротоне, где основал школу, в которой особое внимание уделялось математическим наукам и аскетическим упражнениям.
[311] Схолиаст к данному месту сообщает, что Креофил с острова Хиос был женат на дочери Гомера, получил от последнего в дар "Илиаду" и принял поэта в свой дом. Страбон (XIV I, 18) говорит, что самосец Креофил, оказав Гомеру гостеприимство, получил от него поэму "Взятие Эхалии" с разрешением считать ее своею. Судя же по эпиграмме Каллимаха, приводимой Страбоном,; эта поэма принадлежала самому Креофилу, которого даже считали учителем Гомера. Павсаний упоминает Креофила как автора "Гераклеи" (IV 2, 2).
Имя Креофил означает, возможно, "порождение мяса" или "из рода [породы] мяса" (creas — "мясо", phyle — "род").
[312] Протагор — см. т. 1, вводные замечания к диалогу "Протагор", стр. 543. Продик — см. т. 1, прим. 13 к "Апологии Сократа". Ср. "Протагор", 318а, где Протагор неумеренно восхваляет пользу, которую он приносит ученикам.
Комментатор Aст со ссылкой на Эразма Роттердамского объясняет приведенную здесь пословицу от греческого обычая носить детей в корзине на голове. Выражение это встречается у Фемистия (Orat. XXI р. 254а) и Диона Хризостома (IX р. 141а ).
[313] Гесиод — см. т. 1, прим. 52а к "Апологии Сократа".
[314] Поэт, по мнению Сократа и Платона, стоит, как и живописец, слишком далеко от образца, которому подражает, являясь подражателем третьей степени, в то время как музыкант-флейтист знает о пользе своего искусства, т. e. он гораздо ближе к истинному пониманию образца, чем поэт-подражатель.
[315] Здесь имеется в виду закон перспективы.
[316] В "Законах" Платон пишет о том, что "поэты стали сравнивать философов с собаками-пустолайками", когда эти последние пытались доказать стройность всех небесных явлений, основанных на действии разума (XII 967b—с). В речи Сократа на суде тоже приводится пример аристофановской критики софистов, Сократа, Анаксагора. См. т. 1, прим. 9 к "Апологии Сократа".
[317] По поводу "лающей собаки" ср. прим. 12.
[318] Ср. "Федон" (107с), где Платон соотносит краткость "нынешнего времени, которое мы называем своей жизнью", со "всеми временами", т. e. вечностью.
[319] Здесь повторяется третий аргумент о бессмертии души, данный в "Федоне" (78b — 81а) при установлении самотождества идеи души.
[320] Морское божество Главк , согласно мифам, был некогда рыбаком, а затем, отведав волшебной травы, получил бессмертие и бросился в море, где Океан и Тефия сделали его богом.
[321] По Платону, душа, отягченная злом, теряет свои крылья и получает земное тело ("Федр", 246с—e). В "Федоне" такая душа так же отличается от справедливой души, как истинные небо и занебесная Земля от нашей Земли (109b—111с).
[322] О перстне Гига см. выше, кн. II, прим. 3. О шлеме Аида см. т. 1, прим. 46 к диалогу "Горгий" (стр. 567).
[323] Буквально в тексте стоит "повесив уши": плохой бегун метафорически понимается как лошадь или собака, опускающие уши от усталости.
[324] Рассказ Одиссея о его странствиях на пиру у царя Алкиноя (Гомер . Од. IX—XII) длился в течение трех дней. Имя памфилийца Эра трактуется различно. В лексиконе Суды (v. êr) это "собственное еврейское имя". В Евангелии от Луки (3, 28) Эр — предок Иосифа-плотника. Климент Александрийский отождествляет его с Зороастром, сыном Армения, памфилийцем (Stromat. V, гл. XIV, 103, 2—4, St-Frucht).
[325] О загробном пребывании Эра рассказывает также Плутарх, называя, правда, его сыном Гармония (Quaest. Conv. X 740). Подобные рассказы встречаются у Оригена как аргументация воскресения Христа перед неверующими (Contr. Gels. II 16), а также у Макробия (Somn. Scip. I 1, 9 Will.).
[326] Две расселины, или два "устья" (см. 615d), упоминаются у Плутарха в рассказе о круговороте душ, оплакивающих свой жребий (De genio Socrat. 591с), и у Порфирия (De antro nymph. 29, 31).
[327] Ср. судьбу грешников в аду Данте ("Божественная комедия"), где черти бросают их вилами в кипящую смолу ("Ад", п. 21—22).
[328] Световая сфера связует землю и небо наподобие обшивки корабля и пронизывает небо и землю насквозь в виде светящегося столпа в направлении мировой оси, концы которой совпадают с полюсами (см. рис. 1).
[329] Веретено Ананки (Необходимости) находится в центре светящегося столпа и привязано к концам небесных связей, причем ось веретена есть не что иное, как мировая ось, а вал (или "пятка") устроен наподобие полушария или усеченного конуса, включающего в себя семь других полушарий, образующих с первым восемь небесных сфер (см. рис. 2 и 2а). Ананка вращает это веретено между своими коленями. Восемь небесных (или планетных) сфер имеют различную величину поверхностей, образующих определенную пропорцию. Первая, внешняя, сфера, заключающая в себе все остальные,— самая большая и является небом неподвижных звезд (см. также прим. 48 к диалогу "Тимей" и рис. 1).
[330] Цвета сфер соответствуют цвету самих планет. Сфера неподвижных звезд самая пестрая, так как передается всеми оттенками составляющих ее светил, седьмая сфера — солнечная — самая яркая, восьмая — Луна и Земля — сияет отраженным светом Солнца; вторая — Сатурн — и пятая — Меркурий — золотисто-желтоваты; третья — Юпитер — раскалена до белизны, четвертая — Марс — пылает красным цветом; шестая — Венера — яркой белизны. Подробности см. в прим. 52 к диалогу "Тимей", где даются объяснения цветовой значимости планет.
[331] О вращении небесных сфер см. "Тимей", 38b-с.
[332] Интервалы между восемью сферами составляют октаву, или гармонию, так что весь платоновский космос звучит, как хорошо настроенный инструмент, тем более что на каждой сфере сидит сирена и поет в определенной тональности. См. также "Тимей", прим. 48.
[333] О Необходимости—Ананке —и ее ипостасях, а также о трех Мойрах см. т. 1, прим. 82 к диалогу "Горгий" (стр. 575). Имена этих вершительниц судьбы человека означают: Лахесис — "дающая жребий" (lagchano—"получать по жребию"); Клото — "пряха", "прядущая нить человеческого жребия" (clotho — "прясть"); Атропос —"неизменная", "неколебимая" (букв.: "та, которая не поворачивает назад"). Таким образом, первая Мойра вынимает жребий для человека в прошлом, вторая прядет его настоящую жизнь, а третья неотвратимо приближает будущее. Соответственно Клото — настоящее — ведает внешним кругом неподвижных звезд; Атропос — будущее — ведает подвижными планетами внутренних сфер; Лахесис, как определяющая жребий, объединяет оба типа движения.
[334] Здесь речь идет о гении ("демоне") человеческой души, доброй или злой. У Горация читаем о гении, направляющем с самого рождения звезду человека и умирающем с каждым из людей, "то светлым, то мрачным" (Epist. II 2, 187—189). Гений этот заботится о краткотечной человеческой жизни (Epist. II 1, 143 сл.). Пиндар (01. XIII 105) вспоминает о "демоне рождения" и борьбе в человек двух демонов—доброго и злого (Pyth. Ill 34). Ср. "Федон" (107d) — о гении, или "демоне", достающемся человеку при жизни и сопутствующем ему в смерти. Важно отметить мысль Платона о выборе гения самим человеком, что свидетельствует о свободе воли. См. также А. Ф. Лосев . Античная мифология в ее историческом развитии. М., 1957, стр. 55—60.
[335] Орфей —см , выше, прим. 16 к кн. II.
[336] Фамира —см. т. 1, прим. 11 к диалогу "Ион".
[337] После гибели Ахилла его оружие присудили не храбрейшему греку Аяксу , сыну Теламона , а "хитроумному" Одиссею. Этому сюжету посвящена трагедия Софокла "Аякс-биченосец".
[338] Агамемнон —см. т. 1, прим. 20 к диалогу "Кратил".
[339] Аталанта .—дочь Иаситна и Климены—дева-охотница из Аркадии, участвовавшая в Калидонской охоте и получившая из рук Мелеагра голову убитого вепря.
[340] Эпей — см. т. 1, прим. 10 к диалогу "Ион".
[341] Ферсит — см. т. 1, прим. 89 к диалогу "Горгий".
[342] Одиссей —см. т. 1, прим. 54 к "Апологии Сократа".
[343] Лета — река забвения в царстве мертвых, испив которую души умерших забывали свою земную жизнь. О "долине Леты" упоминает Аристофан (Ran. 186).
[344] Река Амелет — т. e. "уносящая заботы", "беззаботная". Ср. у Вергилия (Аеп. VI 714 сл.), где души умерших "у волн реки Леты пьют беззаботные струи и долгое забвение", т. e. Лета п Амелет здесь отождествляются, так как забвение дает полное отсутствие заботы. В этих образах Леты и реки Амелет есть отзвуки преданий о воде Мнемосины, т. e. памяти, с одной стороны, и Леты, т. e. забвения, с другой. Павсаний пишет о прорицалище Трофония в Лебадее, где паломник пьет сначала воду из источника Леты, чтоб забыть о заботах и волнениях, а затем из источника памяти, чтобы запомнить все, что он видел в пещере Трофония (IX 39, 8). О реках Аида см. "Федон", 113а-d
[345] История загробного существования души, ее странствий и перевоплощений подробно освещена с учетом других сочинений Платона в т. 1, прим. 82 к диалогу "Горгий".
[346] Сократ призывает своих собеседников стремиться вверх, т. e. восходить к высшему благу (см. также т. 2, "Федр", 256b — 257а и прим. 40, 41 к тому же диалогу).