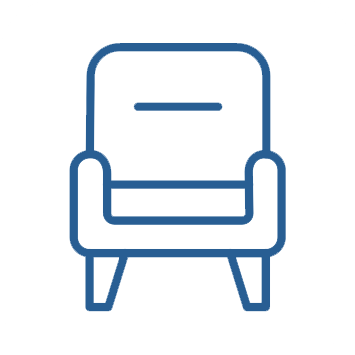- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
Антонов огонь
Роман
-

Петр Алешкин Антонов огонь
Приобрести произведение напрямую у автора на Цифровой Витрине. Скачать бесплатно.
Прекрасная и тяжёлая история любви на всю жизнь! Красноармеец Анохин возвращается с Гражданской войны в родную деревню, где его ждет невеста Настенька, в которую влюблен местный энергичный активист Чиркунов, уже сватавший ее, но получивший отказ. В этот же день в деревню приходит продовольственный отряд за хлебом. Всего за одни сутки жизнь деревни и судьбы главных героев полностью поменяются, а через три месяца начнется Крестьянская война, известная в истории России, как "Антоновщина", которая изменит судьбу не только наших героев, но и всей России. И Анохин, и Чиркунов будут биться за свою любовь к Настеньке всю свою жизнь. Пройдет их любовь через Гражданскую войну, трагический 37-й год, ВОВ, послевоенные годы и трагически завершится в наши дни, в Перестройку.
Какие эмоции у вас вызвало это произведение?

0

0

0

0

0

0
Читать бесплатно «Антонов огонь» ознакомительный фрагмент книги
Антонов огонь
Часть первая
Пойди, возьми раскрытую книжку
из руки Ангела,
стоящего на море и на земле.
Откровение. Гл. 10, ст. 8
1. Книга за семью печатями
Кто достоин раскрыть сию книгу
и снять печати ее.
Откровение. Гл. 5, cm. 2
В субботу 7 января 1989 года, на Рождество Христово, Егор Игнатьевич Анохин, восьмидесятивосьмилетний старик, зарезал столовым ножом своего односельчанина Михаила Трофимовича Чиркунова, еще более древнего старика.
Следователь Николай Недосекин пролистал тонкую папку с показаниями, записанными участковым милиционером на месте трагедии, поднялся, шагнул к окну своего маленького тесного кабинета, ссутулился, засунув руки в карманы брюк.
Черный от сырости клен безжизненно и тоскливо раскинул под окном голые ветки. Снег грязный, клочковатый. На тротуаре и дороге наледи. Выбоины заполнены талой водой, машины идут медленно, раскачиваются, подпрыгивают, расплескивают лужи. Небо сплошь затянуто серой мглой. Сыро, пасмурно.
Недосекин хмурится. Что делать? Что делать? — спрашивает он себя. Тоска, страшная тоска, словно виноват он в чем-то непоправимо, но о вине его никто не догадывается: и это-то особенно мучает. Отчего так? От тягостной, совершенно не зимней погоды, которая, как верно заметил кто-то, издревле влияет на русского человека, или от прочитанного?
Дело несложное, много времени не отнимет. Напились старики на праздник, замутили мозги, заспорили об Иисусе Христе, как записал участковый милиционер со слов жены убитого, поругались, и один старик ткнул столовым ножом другого в шею. Ранка пустячная. Но в деревне ни медпункта, ни медсестры. Перевязали кое-как платком, и пока везли двенадцать километров в ближайшую больницу, Михаил Трофимович Чиркунов захлебнулся кровью.
Все примитивно: пьянка, пили самогон, конечно, ссора, драка. Сколько таких дел прошло сквозь руки Недосекина? Привык, кажется. Но проходили перед ним юнцы или пропойцы, а тут старики, старики! И если уж старики… Может, от этого так тоскливо? И опять всплыли тревожные вопросы. Что же происходит? Куда идем?
Резкий неприятный щелчок отвлек Недосекина от размышлений. Он оглянулся, поморщился, думая, когда же комендант, наконец, дверь отремонтирует, увидел милиционера Сашу Степунина, приземистого, смуглого до черноты молодого парня, и, не дожидаясь, когда он доложит, что привел Егора Игнатьевича Анохина, быстро сказал:
— Давай! — и вернулся за свой стол.
Степунин молча ступил в сторону. Из полумрака коридора медленно выдвинулась морщинистая рука, ухватилась серыми пальцами за косяк, напряглась так, что жилы вздулись, и показался высокий старик в заношенном свитере на иссохшемся длинном теле, с ввалившимся животом, с редкими изжелта-седыми волосами на большой голове. Приближался медленно, почти не отрывая ног от пола. Недосекин дернулся непроизвольно, хотел вскочить, помочь старику, но сдержался, вспомнив, что перед ним убийца. Егор Игнатьевич дошел до стула, оперся подрагивающей рукой о спинку и проговорил тяжко, невнятно, но как-то доверительно:
— Ноги задубели… Виляют. Обезножел совсем… Шаг шагнул и притомился. Да и сам весь выветрился…
Глядел он на Недосекина своими когда-то черными, а теперь какими-то туманными бельмастыми глазами дружелюбно.
— Вы садитесь, садитесь, — кивнул на стул Недосекин и повернулся к милиционеру. — Саша, погоди!.. Будь другом, скажи коменданту, чтоб плотника прислал дверь отремонтировать. Надоело…
Внизу у полотна отслоился уголок фанеры. И каждый раз, когда открывали дверь, цеплялся за косяк, неприятно, скрипуче щелкал.
Старик с трудом опустился на стул, уронил длинные руки на колени, еще больше сгорбился, выставил всю в трещинах, словно клетчатую, шею. Недосекин отвел глаза от его тоскующего взгляда, от желтого сухого лица с едва наметившейся белой щетиной. Не таким представлял Недосекин старика-убийцу, хотя разные преступники сидели перед ним, бывали и с совершенно ангельским видом.
Отвечал Егор Игнатьевич охотно, но невнятно, с трудом, как после легкого паралича, и качал головой, словно подтверждая сказанное. Недосекин записывал. Так же охотно и быстро ответил старик и на вопрос, как он относился к Михаилу Трофимовичу Чиркунову:
— Ненавидел я его…
Это была первая неожиданность. Ручка, готовая быстро черкнуть: добрососедские, или нормальные, или даже хорошие, замерла над листом. Следователь смотрел на Анохина, решая, как лучше записать, думал, что старик сказал так, не остыв от обиды, и спросил:
— Почему же тогда вы оказались у него за столом, если ненавидели?
— День… — запнулся Егор Игнатьевич, слова давались ему теперь с большим трудом: то ли устал, то ли волноваться начал. — День рождения…
— Рождество, — подсказал Недосекин.
— Не-е, — замотал головой старик и заговорил быстро, глотая и недоговаривая слова. — Ага, да, Рождество… и день рождения Насти… Восемьдесят семь годков…
Жену убитого звали Анастасией Александровной.
— Значит, вы пришли поздравить Анастасию Александровну с днем рождения?
— Зашел, — подтвердил старик.
— Они вас усадили за стол, выпили за здоровье именинницы, стали разговаривать, заспорили. Во время ссоры вы сами не заметили, как в руках у вас оказался столовый нож. Вы ткнули им в сторону Михаила Трофимовича, попали ему в шею. Так?
— Ага.
— Значит, убивать вы не хотели?
— Не-е… Хотел.
— Не понял? Что вы хотели?
— Давно убить надо… Духу не хватало…
— Значит, вы убили умышленно? — растерялся следователь.
— Ага.
Они смотрели друг на друга: Недосекин недоуменно — старик не казался выжившим из ума, а Егор Игнатьевич по-прежнему доверчиво и дружелюбно.
— Я могу так и записать.
— Пиши…
— Вы не понимаете, Егор Игнатьевич! Одно дело — умышленное убийство, другое — случайное… Какие у вас могли быть причины для убийства?
— Он застрелил моего отца… — быстро выговорил Анохин.
— Отца?! — невольно воскликнул Недосекин, глядя на резко выступившие бугры скул на лице старика, на его ввалившиеся щеки, виски, черный рот, на большие прозрачные уши. — Когда?
— В двадцатом… И брата в двадцать первом… Он мою невесту… — Старик запнулся так, словно силы кончились говорить, замолчал, выдохнув напоследок: — Духу не хватало…
Молчал и Недосекин. Он считал, что закончит дело двумя-тремя допросами: пьяная ссора, случайное убийство. Но дело иной оборот принимало. Это с одной стороны. А с другой: двадцатый год, двадцать первый были для него, родившегося в шестидесятом, такой далекой историей, что казалось невероятным видеть и слышать свидетеля тех событий, человека, у которого столько лет была в душе рана, жила ненависть. Старик дышал часто, хрипло, смотрел в пол, склонив голову с жидкими седыми волосами.
— Вы можете сами написать все о взаимоотношениях с Михаилом Трофимовичем Чиркуновым и о том, что произошло седьмого января? — спросил Недосекин.
— Отдохнуть бы… Бунить все, — потер старик голову. — Моготы нет. Завтра отпишу…
2. Первая печать
И вышел он как победоносный,
и чтобы победить.
Откровение. Гл. 6, ст. 2
Старик лежал на нарах в тишине, в полутьме, смотрел на пыльную лампочку, тускло светившую с потолка сквозь тонкую решетку, и думал, что завтра надо писать следователю о Мишке Чиркуне. Что он о нем напишет? Что расскажет? Как написать, как высказать все, что было?.. И вдруг ни с того ни с сего пред‑ ставился ему летний день в желтеющем поле, обнесенное оградой кладбище с высокими тополями на Киселевском бугре, его, Егора Игнатьевича, могила неподалеку от могилы Мишки Чиркуна. Где сначала остановится Настя? Над кем всплакнет, запечалится? Кого позовет: расступися, мать сыра земля?..
Дворы Чиркуновых и Анохиных были в разных концах деревни. Изба Анохиных, по уличному Игнашиных, в Углу, а Чиркуновых — Чиркунов — в Крестовне. В Масловке каждый порядок, часть деревни, по-своему называется: Вязовка, Угол, Хутор, Крестовня и собственно Масловка. Деревня сидит в хорошем месте, в низине, там, где сливаются две речки: Криуша и Малая Алабушка. Слившись, они образуют Большую Алабушку. Избы выстроились вдоль рек, стоят не на самом берегу, а в отдалении. От изб к рекам тянутся огороды, упираются в высокие ветлы, которые растут у самой воды. Та часть Масловки, где сливаются реки, а избы сходятся под углом, называется Угол. Отсюда дорога ведет в Мучкап, в Уварово, и далее, в Тамбов. А Крестовня — в противоположном конце, в сторону Борисоглебска.
Поэтому в детстве у Егора и Мишки не было общих друзей, и теперь Егор Игнатьевич не помнит, когда он впервые встретился с Мишкой или услышал о нем. Совершенно не помнит, хотя те далекие годы вспоминаются ему с недавних пор яснее, четче, чем, скажем, то, что было лет двадцать назад.
Не может быть, чтоб не были они знакомы до того мартовского вечера семнадцатого года, до первого столкновения из-за Насти! Мишка старше на два года, но все же не могли они не бывать вместе на гулянках или на праздничных игрищах, когда вся деревня высыпала на луг? Нет, не вспоминается ничего! Даже то, что было вначале: «позорный лист» или мартовский вечер, трудно определить теперь. Впрочем, нет, должно быть, раньше был вечер.
Масленица, помнится, была, а потом уж «позорный лист». Ведь отец Егора, сельский комиссар, получив лист, сразу отправил Мишку назад, на фронт. Помнится, отец посуровел сильно, когда прочитал полученную бумагу, ругнулся: «Допрыгался, чертов шабол! Убег, так сидел бы потаясь… Нет, выпучит бельмы, култыхается по деревне. Гордится: дезентир! Догордился…» Бумага была обведена жирной черной рамкой, и буквы черные, особенно выделяется название: «Позорный лист». В бумаге сказано: «Исполнительный комитет Совета Солдатских Депутатов XII армии уведомляет, что Чиркунов Михаил Трофимович, солдат 17 легкого мортирного артиллерийского паркового дивизиона, дезертир с 1 марта 1917 года. Всякий, кому известно его местопребывание, обязан сообщить ближайшему комитету для высылки принудительно к этапному коменданту и далее в часть. Солдат Чиркунов Михаил Трофимович преступник против Родины, народа и Свободы, потому что не хочет их защищать».
Да, бумага пришла потом, а вначале был тот вечер, игра в «соседки». Парами сидели на скамейках, на сундуке, на приступке у печки, грызли семечки. В просторной и низкой избе Иёнихи, беленной мелом, жарко натоплено. На сундуке у окна с задернутой занавеской бугром навалены полушубки, шапки.
Сама Иёниха, старуха с маленьким морщинистым лицом, лежит на печке, смотрит оттуда, быстро и безостановочно, как обезьяна, грызет семечки, плюет вниз, на пол, изредка смеется, следя за игрой, и дает советы. Она любит, когда у нее собираются играть.
Парень с девушкой ходят по избе от одной пары к другой по хрустящей подсолнечной шелухе, и девушка спрашивает у кого-нибудь из парней: «Доволен ли он своей соседкой?» Если ей отвечают «да», то они идут дальше, спрашивают у других. Наконец остановились возле Егора.
— Доволен ты своей соседкой?
— Нет, — буркнул он, бледнея.
Слово дал себе подпариться к поповой дочке, Настеньке, шепнуть ей на ухо, что проводит ее сегодня до крыльца. Помнится, ради Настеньки выпросил у матери алую сатиновую рубаху брата Николая, который был на германской войне.
Когда, как попова дочка запала ему в душу? Теперь не вспомнить. Может быть, он стал пристально следить за ней после слов своего отца, который однажды зимним вечером сказал матери с озабоченностью и одобрением:
— Настенька, дочь отца Александра, заневестилась, расцвела за последний год… Придет Миколай с хронта, надо будет сватов заслать. Намекну как-нибудь при случае батюшке, небось не откажет… В деревне мы вроде ровня: он — поп, я — комиссар…
— Погоди, вернется Колюшка, тада, а то, не дай Бог, бяду накличешь, на войне все-таки, — спокойно и рассудительно ответила мать. По тону ее голоса чувствовалось, что она одобряет выбор отца и не видит никаких препятствий к свадьбе, кроме отсутствия сына.
— Ты эти думы брось! Накаркаешь, — посуровел отец.
Нет, не после этого разговора, который мать с отцом вели при нем, обратил он внимание на Настеньку. Помнится, услышав слова отца, он похолодел, замер ошеломленный, скукожился, словно отец замахнулся на него, чтобы ударить. Раньше, намного раньше стал он думать, мечтать о ней, видеть только ее среди масловских девчат. Только от ее смеха вздрагивало его сердце. Егору Игнатьевичу вдруг явственно представился, возник перед глазами весенний деревенский луг неподалеку от церкви, ребята, играющие в салки, и юная Настенька среди них: маленькая, худая, юркая, вся какая-то угловатая, быстрая. Она мчится по молодой зеленой траве так, что две ее косички развеваются позади, хлопают по спине и снова взлетают вверх, остренькие локти быстро мелькают по сторонам, блестящие глаза распахнуты от восторга и испуга, рот раскрыт, она пытается убежать, увернуться от мяча, с силой брошенного ей вслед. Егор Игнатьевич явственно услышал ее звонкий восторженный визг, когда мяч пролетел мимо. Вот почему он стал звать ее касаточкой. В обрывистых берегах Алабушки в норах жили ласточки-береговушки, которых в деревне звали касатками. Были они быстрые, угловатые, юркие, звонко и тонко щебетали, мелькая над водой. Вот такую птичку напоминала ему в юности Настенька.
После невольно подслушанного разговора отца с матерью Егор всю ночь не спал, тосковал, ронял тихонько слезы на подушку. Первую ночь бессонную провел из-за Настеньки. Сколько их будет потом?! Под утро решил поговорить с братом, как только он вернется с фронта, рассказать ему, что значит для него Настенька. Брат умный, поймет.
А в тот мартовский вечер у Иёнихи попова дочка оказалась в паре с Мишкой Чиркуном, который приперся из Крестовни. Помнится, вошел в избу — шапка на затылке, усы вздернуты, рот в ухмылке, глаза взгальные. Стукнул шапкой по коленке:
— Примайте, девки, дезентира! Тыщу верст отмахал, чтоб на вас поглядеть!
— Раздевайся, не буробь! Небось германца увидал, обмер и к маманьке стреканул! — подковырнул кто-то из ребят.
— Гля-кось, — деланно и радостно закричал Мишка. — Во вражонок, и не боится… Щелчком пришибу! Германцем меня испугал! Как царя спихнули, мерекаю, за кого мне теперь кровя лить? И деру!
Разделся, кинул шапку и полушубок в кучу на сундук, пригладил ладонью черные, сухие и короткие волосы на удивительно маленькой голове. Длинноногий, широкий в костлявой груди, поджарый, большеротый, с близко посаженными глазами, озорной, подвижный, как на шарнирах весь. Он-то и подсел, ухватил Настеньку, когда кто-то предложил сыграть в «соседки».
Обругал себя Егор распустехой, ромодой за то, что упустил поповну, и решил во что бы то ни стало отбить ее.
В тот вечер Настенька была особенно хороша! Ее оранжевое с алыми розами ситцевое платье ярко выделялось среди домотканых девичьих какой-то воздушностью. Конец толстой русой косы завязан большим бантом алой шелковой ленты. Особую нежность вызывал этот бант, лежавший у нее на груди. Почему-то радовало то, что он был одного цвета с его рубахой. Это как-то особенно интимно сближало их, намекало на что-то хорошее в будущем. Была она уже не похожа на юркую угловатую касаточку: плечи и бедра округлились, локти перестали казаться острыми. И вела она себя с недавних пор по-иному: уже не хохотала так задорно и звонко, что, глядя на нее, тоже невозможно было удержаться от смеха, хотя глаза вспыхивали, живо реагировали на каждую шутку. Лишь изредка она не выдерживала, заливалась по-прежнему заразительно, но быстро спохватывалась, умолкала, смущалась и как-то особенно мило и быстро окидывала взглядом подруг, словно спрашивала, извинялась — не шибко ли она разошлась? И от этого ее смеха, от этого быстрого взгляда сердце Егора вспыхивало, взлетало и сладостно замирало. Как она была хороша, как необыкновенно красива! Когда Егор ответил, что недоволен своей соседкой, и ходившая по кругу девушка спросила: кого он хочет в соседки, он взглянул на Настю, страшась вымолвить вслух ее имя. Сидела она с Мишкой на лавке у стола, над которым тускло горела керосиновая лампа. Девушка повернулась к Мишке Чиркуну:
— Отдаешь свою соседку?
— Ага, раскатал губы… — ухмыльнулся Мишка, блеснул крупными зубами, вглядываясь в Егора, и с готовностью подставил ладонь парню, ходившему по кругу с девушкой с ремнем в руке.
Парень ожег ладонь ремнем. Рука Мишки непроизвольно дернулась от боли, но он не убрал ее, держал, подставлял для следующего удара.
— Ловко! — засмеялись вокруг. — Ладно оттянул!
Парень снова хлестнул по ладони. Зарделась, кумашная стала ладонь.
— Отдаешь?
— Щелкай… Знай дело, — приказал Мишка, приговаривая в такт ударам: — Эх, раз! Еще раз! Еще разочек! Вот так! — подмигивал хохотавшим ребятам, Настеньке, которая, опустив глаза, чуть улыбалась уголками губ. — Не бойся, не уступлю я тебя! — крикнул он радостно и слишком бодро, сжав руку в кулак после пятого удара, и засмеялся, показал зубы, поглядел снисходительно на Анохина, захотевшего отнять у него соседку.
А парень с ремнем повернулся к Егору:
— Отказываешься?
— Нет, — мотнул он головой и тоже подставил руку.
Ладонь обожгло кипятком.
Егор напрягался, стискивал зубы, пытался улыбаться в ответ на шутки и смех ребят. Его соседка, обиженная тем, что он пренебрег ею, злорадно усмехалась, глядя, как он кривит губы, дергается от ударов. Выдержал, потер горевшую ладонь о колено.
Парень с ремнем снова перешел к Мишке.
— Отдаешь соседку?
— Ага, подставляй карман, — хохотнул он, раскрывая розовую ладонь.
Но уже не считал удары, не кричал весело, не подмигивал ребятам. Они считали хором. И на этот раз выдержал Мишка пять ударов, не уступил Настеньку. Не часто ребята выдерживали десять ударов.
Егор снова терпел молча, кряхтел тихонько, постанывал про себя, но не отдергивал, не опускал руку. Сердце колотилось, понимал, что это только начало. Не сдастся легко Чиркун. Вишь, загоношился, сбить с духу хочет. Дурак, не знает, что он терпеливый. Отец, бывалоча, так отдерет, сесть нельзя. Скор на руку, а сучковатая хворостина не то, что гладкий ремень. Эх, завтра опухнет ладонь, коснуться нельзя будет…
Только успевали подставлять ладони Егор с Мишкой. Кажется, шум в избе, смех, колготня страшные стояли. Все веселились, подшучивали. Редко в игре такое видели.
— Егор, откачнись! — слышал он сквозь шум, но держал руку, видел, как ладонь становится сизой.
— Э-э, погоди-погоди! — вскочил, ухватил парня за руку, за ремень Мишка. — Ловок ты! Меня жаришь с оттягом, а его жалеешь. Не-е, дай-ка я сам! — вырвал он ремень.
Такое в игре допускалось. Дважды успел огреть парень Егора. Еще три разочка осталось вытерпеть.
Замахнулся с плеча Чиркун, невольно дернулась рука, чтоб увернуться от удара.
— Ax! — выдохнул Мишка.
Словно ось колесная упала на ладонь. Онемела, тяжелая стала рука. Еле удержал ее на весу Егор. Шум в избе стих. Ни смеха, ни шороха не слышно.
— Эх! — обрушился камень на руку, расплющил, раздавил. Глаза повлажнели, зажмурились в ожидании третьего удара. Звенело в ушах от неловкой тишины в избе.
— Ух! — топор вонзился в ладонь, пришил к пеньку, не отодрать.
Опустил руку Егор, смотрит на всех, улыбается опухшими губами. В глазах слезы. А ладонь не чувствует ничего. Пальцы окаменели, не шевелятся, не сгибаются. Ребята суют ему ремень, суют без смеха, серьезно как-то говорят:
— Давай, давай! Теперь ты ожги его!
— С плеча, с оттягом, как он тебя!
Сжал ремень Егор, поднялся с приступки, шагнул к Мишке, который почему-то сел на сундук, на свободное место, а не к Настеньке. Сидит, смеется, ладонь не подает. Что это? Что он слышит?
— Ладно, — хохочет в тишине Чиркун, открывая свой большой рот, и поглаживает ладонью жесткие короткие волосы. — Уступаю я тебе соседку! Иди, садись! — широким жестом указывает он на скамейку у стола, где ярким пятном блестит под керосиновой лампой алый бант.
Сунул кому-то Егор ремень и пошел к Настеньке. Как она смотрела на него, когда он шел к ней? Не помнит Егор. Не видел, не понимал ничего от боли, от радости. Сел рядом и застыл, угрюмый от счастья, как бирюк. Сидел деревянный, молчал. Ни словом не обмолвился с Настенькой за вечер, хотя и в «колечки» играл с ней в паре. Помнится, кто-то принес самогонки от Ольки Миколавны на Мишкины деньги. Он и посылал. Пили ребята в сенцах: перемигивались и выходили из избы по двое-трое. Егора одним из первых вызвали. Мишка протянул ему бутылку: пей, победитель. Победитель! — так и назвал его. Но Егор отказался.
— Ты чо, обиделся? — удивился Мишка.
— Да не, душа не примает, — нашел причину Егор. Он боялся отца, который пригрозил ему, выпившему на Рождество: почую еще однова, запорю перед всем селом. И запорет. Настырный.
Расходились от Иёнихи шумно, со смехом разбредались в разные стороны. Ночь звездная, светлая. На востоке, за Киселевским бугром, белело, расширялось зарево широким полукругом. Вот-вот взойдет луна. Тускло блестела золотая луковица церкви, чернела окнами, оградой. Чернел ряд изб с катухами, ометами, с голыми верхушками деревьев. Снег осел, потемнел, хрупали замерзшие льдинки под ногами на накатанной полозьями саней дороге. Морозец. Воздух легкий, пряно пахнет корой деревьев, весенним снегом.
В Угол шли вдоль ровного ряда Хуторских изб. Собаки провожали добродушным лаем, словно рады были развлечься, а заодно показать хозяевам, что не дремлют, исправно несут службу, сторожат. Мишка Чиркун зачем-то шел в Угол. Когда голос его дурашливый и пьяный доносился от передней группы парней, шедших вслед за девками, сердце у Егора вздрагивало тоской и тревогой. Чего он прется с ними, не идет в свою Крестовню? Что он замыслил?
Изба попа была крайней в Хуторском ряду, стояла в том месте, где дорога сворачивала к лощинке, за которой начинался Угол. Показалась в звездном небе длинная шея журавля у колодца напротив избы попа. И чем ближе подходили к ней, тем тревожней становилось Егору. Он в разговоре не принимал участия, расстегнул верхнюю пуговицу полушубка, чтоб легче дышать было. Мял в горящей ладони рыхлый снежок, жадно вглядывался в темные фигуры девок. Страстно хотелось догнать их и, когда Настенька повернет к своей избе, пойти вслед за ней, проводить до крыльца. Но ноги не слушались, не желали ускорять шаг, немели, дрожали. Клял себя Егор за трусость, но мысли ловко подсовывали оправданье, мол, погоди, не торопись, сегодня ребят слишком много, пьяный Мишка Чиркун засмеет, свистнет вслед, и Настенька убежит, не останется с ним. Завтра, завтра будет самое время!
Возле колодца с журавлем Настенька отделилась от группы и пошла мимо темневших деревьев к дому. И тотчас же к ней прямо по целику побежал парень, широко ставя длинные ноги, проваливаясь в снег. Гадать нечего — кто? Мишка. Заныло, заколотилось сердце. Казалось, никто внимания не обратил на них, не засмеялся, не крикнул шутливо и ехидно им вслед. Обычное дело — парень девку побежал проводить.
Егор видел сквозь голые деревья в палисаднике, как у крыльца, на фоне серой стены темнели две фигуры, слышал голоса негромкие. Прошли парни и девки мимо попова колодца, прохрустели снегом, свернули к лощинке. Егор замедлял шаги, вслушивался. И вдруг показалось ему, что донесся женский вскрик. То ли почудилось от сильного возбуждения, то ли действительно крикнула Настенька. Он приостановился, сдвинул шапку на затылок, чтобы лучше слышать.
— Ты чо? — оглянулись ребята.
А Егор повернул, заторопился назад. Сердце стучало в голову. Ступать старался мягче, чтоб ледок не гремел под ногами, и явственно услышал:
— Отстань! Пусти, говорю! Закричу! Па… — Голос задохнулся. Какое-то придушенное мычание донеслось.
Егор кинулся к избе, проваливаясь в взрывающийся снег. Ни Мишки, ни Насти у крыльца не видно. Где они? Бросился по тропинке за избу, в сад, и увидел, как Мишка тащит к риге бьющуюся в его руках Настю. Рот он ей, видимо, зажал рукой. Слышно только, как пыхтит, ругается вполголоса сам. Догнал его Егор, рванул за шиворот. Настя выпала из рук Чиркуна, который не удержался на ногах, свалился навзничь, сбил с ног Егора, ухватившись длинными цепкими руками за полу его полушубка. Егор перекатился, навалился на него, крикнул Насте: беги! Мишка барахтался под ним, крутился, расталкивал снег, пытался спихнуть с себя, яростно дышал в лицо перегаром. Настя вскочила, суетливо выбралась из снега на тропинку и побежала, оглядываясь, к избе. Силен Чиркун был, а Егор молод, жидок. Вывернулся Мишка, скрутил Егора, схватил своей пятерней за волосы и стал кунать лицом в снег, приговаривая:
— Охолони, охолони, остудись! — отпустил, спросил беззлобно: — Ну как? — и сел рядом с лежащим Егором, взял шапку и стал вытряхивать из нее снег. — Откуда ты взялся, долдон?.. Помешал… А может, и правильно. Поп завтра проклял бы, анафеме предал… Еще чего, жениться бы заставил, — засмеялся, закашлял Мишка. — Вставай! — нахлобучил он на голову Егора шапку и дернул за плечи. — Очухайся! Не буду бить, — спокойно сказал он. — Ух и лют я на баб, када выпью… прям козел иерихонский… Оклемался? Пошли отцеда…
3. Вторая печать
И сидящему на нем дано взять мир с земли.
Откровение. Гл. 6, cm. 4
Когда же в следующий раз встретились они с Мишкой? В феврале двадцатого? Да, три года спустя. Наверное, сразу после того случая появился «позорный лист», и отправился Мишка вновь на германский фронт. Надолго исчез из деревни. А глубокой осенью восемнадцатого года Егора Анохина мобилизовали в Красную Армию. Настенька провожала его, печалилась, плакала открыто, не стыдясь односельчан. Все знали, что она невеста Егора, что между попом и Игнатом Анохиным все обговорено, что Игнат Алексеевич не засылает сватов к попу лишь потому, что желает прежде женить старшего сына, одобряли его за это: испокон веков так ведется — жени старшего, потом уж думай о следующем.
Дружить Егор стал с Настенькой после той первой стычки с Мишкой памятной мартовской ночью. Как они были счастливы в ту весну семнадцатого года! Как он ждал вечера, чтоб помчаться на луг, увидеть Настеньку, увидеть весенний блеск ее счастливых глаз при лунном свете, услышать ее голос, смех, прикоснуться к ее руке во время игры в «горелки» или в «ручейки»! Как он носился по лугу, чтобы никому даже на миг не уступить в игре Настеньку, быть всегда с ней в паре! Как нежно, трепетно обнимал он ее возле крыльца поповой избы! Она доверчиво замирала в его бережных объятиях. Какое это было счастье молча стоять, прижиматься друг к другу в ночной тишине под легкий таинственный шепоток листьев клена. И казалось тогда, что всю жизнь они будут вместе, всю жизнь счастье не покинет их. Ничто не тревожило, ничто не мешало их счастью. Особенно после разговора с братом, который вернулся с германского фронта в начале апреля, когда бурные, мутные воды обеих речушек угомонились, вошли в свои берега.
Помнится, вечером, в тот день, когда появился брат, после ужина отец пересел с лавки на сундук, начал крутить цигарку из газетного листа и заговорил, радостно поглядывая на крепкого, сильно возмужавшего на фронте старшего сына, от которого не отходил Ванятка, младший двенадцатилетний братишка. Мать на столе в большой глиняной чашке мыла горячей водой деревянные ложки.
— Крепкий ты стал, Миколай, заматерел, — одобрительно сказал отец. — Женить бы тебя надо. Пора…
— А чо не жениться! — весело, не раздумывая, откликнулся, размякший от самогона, от долгожданной радостной встречи с родными, от того, что дома все ладно, что вернулся в Масловку здоров, невредим: ни одна германская пуля за два года на фронте не царапнула даже, хотя вжикали и цзинькали возле уха довольно часто. — Огляжусь, высмотрю невесту, и пойдем сватать!
— Мы с матерью приглядели тебе невесту… — чиркнул спичкой по коробку отец, прикурил, осветив ярко свое бородатое лицо, затянулся, выпустил дым, выдохнув: — Хороша! — то ли о невесте, то ли о крепкой цигарке, закашлялся, указал дымящейся цигаркой на Егора, который замер, напрягся на приступке у теплой печки, понял, что речь сейчас пойдет о Настеньке, его бросило в жар, и он опустил голову, слушая слова отца, который говорил сквозь кашель: — Да вот… брательник твой упредил… влез…
— Кто же это? — засмеялся Николай, добродушно глядя на смущенного Егора.
— Попова… дочка… — никак не мог прокашляться отец. — Крепок как, зараза! — выговорил он о своем табаке.
— Брось ты цыбарить! — недовольно глянула на него мать. — Поговори с сынами по-человечески!
А Николай удивился, услышав слова отца, переспросил:
— Это Настя, что ли? Дак она совсем чиленок!
— Ну да, чиленок! Ты у него спроси, — снова указал цигаркой отец на Егора, после слов матери он сразу перестал кашлять, — он те скажет, что это за чиленок!
Николай снова радостно засмеялся и пересел к Егору на приступку, обнял брата одной рукой за плечи, спросил:
— Женихаешься, значить?.. Не бойсь, я встревать не буду. Девок в Масловке много, а в Киселевке еще больше.
— Своих хватить, неча на Киселевку глядеть, — проговорил неторопливо отец, освещая свое лицо цигаркой. — Ты вот что, выбирай с толком, с умом… прежде чем подойти к какой, на мать ее, на породу посмотри… Не на неделю берешь, всю жизнь жить… Можно жить, а можно маяться! Мотри ни себя, ни отца не опозорь. Выберешь невесту, спроси родителей: отец своему дитю дурного не посоветует…
В тот год жениться Николай не успел, снова на фронт ушел, в Красную Армию. Женился брат только два с половиной года спустя. Егор на свадьбе не был: Москву от Деникина защищал…
Да, встретились Егор с Мишкой в феврале двадцатого у церкви на сходе. Егор был в отпуске после ранения, а Мишка уволен подчистую. Поговаривали, что купил увольнительную у военкома в уезде. Может, врали, как проверить? Вернулся Мишка в деревню коммунистом и сразу стал во главе сельской партячейки. Отец Егора, комиссаривший в Масловке при Временном правительстве, при комбедах ушел в тень. Ни с какой стороны к беднякам его пристегнуть было нельзя, самостоятельный мужик, грамотный, крепкий середняк, но и к кулакам не прислонишь: батраков не держал, оба взрослых сына красноармейцы. А когда комбеды разогнали, его избрали в сельский совет рядовым членом. Хотели председателем, но он отказался: покомиссарил, мол, хватит, пусть молодые стараются.
Вспоминается, как сидели за столом, завтракали. Семья почти в полном сборе. Николая лишь нет, Деникина добивает. Зато жена его молодая, Любаша, за столом. Был Николай в отпуске нынче осенью и женился. Живот у снохи уже круглиться стал, выпирать. Младший брат, пятнадцатилетний Ванятка, вытянулся за последние полтора года. Такой же, видать, как и Егор, высокий будет, крепкий. Опора отца с матерью. Пушок золотится на верхней губе, а разум детский: увидел именную шашку у Егора, полдня из рук не выпускал. Вынет из ножен, прочтет вслух: «Е. И. Анохину. За храбрость! Командарм Тухачевский», зачнет рубить воздух, вертеть над головой. Егор сердится на него притворно, а в душе рад, горд за себя, любит вспоминать, как с восторгом смотрел влюбленными глазами на командарма, когда тот протягивал ему шашку, держа ее перед собой на ладонях. В тот миг он готов был умереть за Тухачевского, поведи он только бровью. Командарм стал его кумиром задолго до того, как вручил ему шашку. Был он молод, мужественен, храбр, умен, решителен: с таким командиром хоть в огонь, хоть в воду.
Завтракали, как всегда, молча, неторопливо. Отец не любил суетни, разговоров за столом: будни. Это на праздник за столом и выпить и поговорить можно. Егор поглядывал на Любашу, жену брата, думал, что сегодня же надо попросить отца посвататься к Настеньке. Егор еще не видел свою невесту, добрался вчера до Масловки поздно вечером. Еле утерпел, чтобы не зайти к ней, когда шел мимо поповой избы. Света в окнах у них не было. Спят, должно. Неудобно будить. Завтра днем увидит, предупредит, что сваты придут. И в утренней постели, и сейчас за столом Егор думал, как ему дать знать Насте, что он вернулся. Забоялся, заробел явиться к попу в избу.
Вдруг на улице будто бы песня взвилась. Егор не донес ложку до чашки с кулешом, замер, прислушался. Точно. Молодой озорной голос чисто и звонко выводил в морозном воздухе:
Тигры любят мармелад,
Люди ближнего едят.
А дальше с присвистом, с посвистом лихим, разухабистым: видно, не один был певун.
Ах, какая благодать
Кости ближнего глодать!
И подхватили дружно, ахнули, рванули на всю деревню задорные голоса:
Э-э-эх, рыбина-соломина,
Это все хреновина! Эх-ха-ха!
Елки-моталки
Получай по палке!
Егор недоуменно взглянул на отца: что за архаровцы?
— Троцкий идет… — буркнул отец, тоже вслушиваясь, только настороженно. — Не дай Бог, остановятся… Хучь бы в другую деревню…
Он не договорил, перебила мать, закрестилась громко на иконы, под которыми сидел отец:
— Господи, царица небесная! Николай Угодник, пронеси и помилуй!
Егор заинтересовался, отодвинул занавеску, глянул в окно. По дороге на белом коне важно ехал человек в папахе, в черном кожаном пальто с меховым воротником, весь в ремни затянут. Застыл в седле, не покачнется, словно срослись в одно целое белый конь и черный всадник. За ним человек двадцать верховых. Трое саней. На последних, что с высоким задником, — пулемет.
— Почему Троцкий? — Егор опустился на свое место за стол.
— Продовольственный отряд имени Троцкого… Маркелинская песня, черт бы его побрал. Не надо и беса, коли Маркелин здеся. Прости меня Господи! — перекрестился отец размашисто и буркнул: — Ешьтя!
Не прошло и полчаса, как забарабанили по стеклу, закричали с улицы:
— Игнат Лексеич, в сельсовет требуют!
Отец, хмурясь, стал собираться. Мать тревожно следила за ним.
— Не гляди, вернусь.
— Откажися от Совета, некогда, скажи, хвораешь. Сил нету…
— Хватит. — Отец притопнул ногой, забивая глубже валенок в галошу. Нахлобучил шапку и направился к двери, но у порога обернулся, глянул на Егора: — Ежли на сход звать будут, неча ходить. Я — там! — И вышел, уверенный, что слова его будут выполнены.
Мать, горбясь в старой куфайке, вышла вслед за ним, принесла со двора, втолкнула двух козлят. Они заблеяли тонко и жалобно, потянулись назад, к двери.
— Померзнитя, разорались. Малы еще! — прикрикнула мать на них сердито и ударила тряпкой. — Кыш!
Козлята отбежали от порога, застучали по полу копытцами. Любаша стала подталкивать их за печь, в закуток.
— Напоить скотину? — спросил Егор. — Ай рано?
— Ступай.
— Егорша, можно я еще шашку посмотрю? — попросил Ванятка.
— Неча! — закричала на него мать, словно радуясь, что есть на кого крикнуть. — Игрушку нашел! Намашешься еще, никуда не денисси!
Егор просунул железный прут в ушки лоханки с пойлом и приказал Ванятке:
— Берись!
Овцы и козы окружили их на варке, толклись суетливо, когда они несли лоханку на середину варка. Сбились вокруг, присосались к теплой воде. Егор любовно гладил старую крупную овцу по спине, по густой влажной и жирной шерсти, запорошенной мякиной. Знакомые запахи двора щекотали нос, заставляли улыбаться.
Егор прошел в конюшню. Чернавка, рыжевато-черная кобыла, учуяв его, оторвалась от яслей, от овса, фыркнула. Рыжий жеребенок встрепенулся, оглянулся на Егора большими любопытными глазами, прижался хвостом к боку матери.
— Кось-кось-кось, — позвал ласково Анохин и протянул к нему ладонь.
Жеребенок ткнулся мокрым прохладным носом в пальцы. Егор потрепал его за уши, и жеребенок отскочил в угол. Анохин слегка похлопал, погладил по тугой спине кобылы, приговаривая:
— Чернавка, Чернавушка, ешь, сейчас мы тебя поить будем…
Потом пошел в хлев к корове Майке. Приласкал, погладил и ее, ощупал набухшее вымя, подумал— хорошо причала, на днях отелится, и спросил:
— Что же ты припозднилась, а? Надо было в январе телиться.
Майка перестала жевать, поглядела виновато грустными темными глазами.
— Ничего, ничего, это я так… Малых детей нет, дождемся, потерпим, — успокоил корову Егор, поднял вилы и крикнул брату: — Ванятка, попои Чернавку с Майкой, а я навоз выкину!
Анохин поддел вилами свежую пахучую лепеху вместе с соломенной подстилкой и кинул через плетень.
— Егорша, ты? — услышал он радостный крик.
На улице, напротив избы Анохиных, топтался сосед Андрей Шавлухин, молодой парень, чуть постарше Ванятки. По проулку шли несколько мужиков, по одному, по двое, и все в сторону церкви.
— Я, — отозвался Егор.
Андрей, хрустя снегом, подбежал к воротам.
— Здорово, когда приехал-то?
— Вчера вечером.
— Подчистую?
— В отпуск. Контузия.
— У него сашка от Тухачевского. Так и написано: за храбрость! — крикнул Ванятка радостно.
— Сиди, сашка, — передразнил, смеясь, Егор.
— Покажи, — загорелся Андрей.
— Иди в избу, — позвал Ванятка.
— А куда это народ попер? — спросил Егор.
— К церкви, на сход. Маркелин сзывает, — ответил Андрей и побежал к калитке.
Егор с Ваняткой напоили скотину, вычистили двор и тоже собираться стали.
— Отец чо сказал? — заворчала на них мать. — Сидеть дома… Ай неслухи? Слова отца для них как сорочий ор…
— Мам, чего ты сердишься? — обнял ее нежно за плечи Егор. — Можно мне на народ посмотреть, ай нет? А Ванятка? Так без него сход не сход. Слово его будет решающим.
— Ага, — буркнула мать, но ласка сына ей приятна была. — Ты не лезь там… Слухай, а не суйся. Мар-голин-то враз стрельнёть. Для него стрельнуть в человека, как плюнуть. Надыся приехал, выпорол Серегу Кирюшина да Митьку Булыгина. Не по ндраву ему высказались… Не суйся…
Егор надел шинель с широкими полосами на груди, буденовку. Он надеялся увидеть возле церкви Настеньку, хотя понимал, что надежда слабая. Что ей делать на сходе утром. Вечером и девки приходят, а сейчас… Зато на сходе его увидят люди и передадут Настеньке, что он в Масловке.
Шел по деревне с ребятами, здоровался с мужиками, отвечал на расспросы, поглядывал то на церковь, где в ограде и на улице клубился народ, то на попову избу: нет ли возле дома Настеньки. Не видать! Тихо у избы попа, вытянул шею с веревкой журавль у сизого заледенелого сруба колодца, торчат деревья из сугробов под окнами. Подумалось: может, Настенька смотрит в окно и видит, как он неспешно шагает по лугу, высокий, ладный, серьезный, в длинной шинели, островерхой буденовке. Чуть поодаль от входа в ограду церкви стояли те трое саней продотряда, которые видел Егор в окно. На мордах лошадей мешки с овсом. Толпятся рядом красноармейцы. Егор хотел подойти к ним, но передумал. Всадников нет, не видать ни белого коня, ни его хозяина. В гудящей, взволнованной толпе у церкви на Анохина поглядывали, узнавали, подходили. Отца не было в толпе. Ванятка ни на шаг не отслонялся. Не отошел и когда друзья-подростки позвали. Дверь в церковь закрыта, паперть пуста. Пальцы привычно сложились в щепотку, а рука потянулась ко лбу, перекреститься на Божью Матерь с младенцем над входом, но вспомнилось: нельзя, комсомолец, и Егор сделал вид, что поднимал руку, чтобы поправить буденовку.
Масловская церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы небольшая, но аккуратная, стройная, ухоженная, какая-то воздушная, голубовато-розовая, внутри теплая, уютная. Хвалят ее за это в округе. Много народу с соседних деревень на престол собирается. Престольный праздник в Масловке — Покров, глубокой осенью, когда дела все сделаны, хлеба обмолочены, провеяны, лишняя скотина продана.
— Идут, — колыхнулась толпа.
Вдоль ограды быстро шагал черный человек маленького роста в папахе, в затянутой ремнями кожанке, тот самый, которого видел Егор на белом коне. За ним гурьбой — трое красноармейцев и высокий парень со сдвинутой на затылок шапкой. Егор узнал Мишку Чиркунова. Он сильно возмужал за эти три года: усы загустели, лицо, будто копченое, задубело. Только близко посаженные глазки прежние: озорные, веселые, шалые.
Толпа молча и быстро раздалась, освободила проход к паперти. Невысокий черный человек в папахе, Маркелин, совсем юный мальчик: носатый, краснощекий, кожа нежная, должно быть, не бреется еще, но глаза стальные, злые. Егору показалось, что новые узкие валенки мальчика ужасно жмут ему ноги, вот он и мучается, злится на себя, что надел их. Шел он по проходу быстро, ни на кого не глядя, сжимал в руке плетку. Прошуршал снегом, проскрипел ремнями и кожей мимо Егора и легко взбежал по ступеням на невысокую паперть. За ним три красноармейца и Мишка Чиркунов. Это шествие показалось Анохину наигранным, неестественным. Мальчик играет роль.
— Товарищи! — круто повернулся, вскинул голову Маркелин, крикнул зычно поверх голов крестьян. — Дорогие мои! Два года Красная Армия ведет непрестанную борьбу со всеми врагами трудового народа. Два года без устали отражает нападение своих и иностранных бандитов, стремящихся вернуть помещикам землю, капиталистам фабрики и заводы. Несмотря на все препятствия, до сих пор нам удавалось накормить, обуть и одеть доблестную Красную Армию, спасти от голода и холода население центра Советской России…
Суровый мальчик раскачивался, рубил воздух рукой с плеткой, поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, но кричал поверх голов. Ни на ком не останавливал взгляд. Голос у него оказался неожиданно мощным, громким, зычным.
— …Все, что нужно нашей героической Красной Армии — мы дадим!Без полной поддержки тыла Красная Армия не может вести решительной и энергичной борьбы с мировыми хищниками. Наш боевой девиз: всё для Красной Армии, всё Красному фронту! Чем скорее, тем лучше! Да здравствует всемирная пролетарская революция! Да здравствуют вожди Революции товарищи Ленин и Троцкий!
4. Третья печать
Имеющий меру в руке своей.
Откровение. Гл. 6, cm. 5
Маркелин опустил руку. Народ молчал. На некоторое время наступила тишина. Слышно, как фыркнула лошадь за оградой, звякнула удилами. Маркелин, видимо, не ожидал такой тишины, что-то вроде растерянности появилось у него в глазах. Егор стоял в первых рядах возле ступеней паперти и хорошо видел его лицо.
— Да, забыл сказать, — не громко и не столь торжественно, как-то буднично проговорил в тишине Маркелин. — Вам нужно сдать дополнительно к продразверстке по двадцать одному яйцу с десятины, по двадцать пять фунтов хлеба и по двадцать фунтов картошки с едока…
Толпа охнула, колыхнулась, зашумела. Раздались крики:
— Почему?
— Мы выполнили!
— Все сдали!
— Тихо! — рявкнул Маркелин. — Говорю, дополнительно и добровольно! В подарок Красной Армии!.. Говорите по одному, и сюда! — указал он плеткой на паперть. — Я лицо контрреволюционера хочу видеть. Глаза в глаза!
Крики прекратились, но гул и ропот стояли. Охотников выйти на паперть не оказалось.
— Товарищ, товарищ, — заговорил негромко, обращаясь к Маркелину, стоявший неподалеку от Егора дед. Был он небольшого росточка, в старой шапке с надорванным ухом, в вытертом полушубке, в подшитых валенках. — Я спросить хотел…
— Поднимайся сюда, — приказал Маркелин.
— Не, я отцеда, я не нащот Красной Армии… Она тоже исть хочить. Я нащот товаров… По указу обещано нам, коль мы разверстку исполнили, мануфактуры два аршина, карасину поболе двух фунтов на едока…
— Я понял… Какое число сегодня, знаешь? Двадцать седьмое февраля, а в указе сказано — выдать до первого августа!
— Ну да, ну да, — согласился дед. — Это карасин и мануфактура… Месяц исшол, а где жа четвертушка фунта соли, полкоробка серников. Кажный месяц обещано давать… Ты не подумай чаво, я не контрреволюция… Соли нету…
— Будет вам соль, в марте за два месяца получите… Ну, так что, согласны сделать подарок Красной Армии? Давайте по домам. И срочно сюда, к церкви, хлеб, картошку, яйца. И пять подвод, чтоб отвезти на ссыпной пункт.
— Не согласны! — выкрикнула какая-то женщина из задних рядов. — Нету хлеба! Вымели под гребло. Хучь с сумой иди…
— Почему в Киселевке по восемь фунтов хлеба взяли, а с нас двадцать пять? — с другой стороны взвился мужской голос. — Мы рази богаче? Где Докин? Почему его нет? Где советчики? Мы их на чо выбирали!
Докин — председатель сельского Совета. Действительно, ни его, ни отца до сих пор не было видно. Где отец? Куда делся?
Прояснил Маркелин.
— Я арестовал ваш кулацкий Совет за контрреволюционную агитацию. Мы их будем судить революционным судом!.. Потому, прежде чем вы пойдете за хлебом, нужно избрать нового председателя сельского Совета. Я предлагаю кандидатуру Чиркунова Михаила Трофимовича! Кто против этой кандидатуры, поднимите руку! И повыше!
Егор оглянулся. Никто руки не поднял. Но один торопливый вскрик раздался:
— Не жалаем дезентира!
— Кто крикнул?! Кто? Выйди сюда, — шагнул к толпе Маркелин. — Найти крикуна! — вытянул он руку с плеткой в ту сторону, откуда крик раздался.
Два красноармейца, как гончие, завидев зайца, слетели с паперти, ввинтились в толпу, продираться стали к тому месту, откуда крикнули. Остались наверху вместе с Маркелиным Мишка Чиркун и чернявый красноармеец с веселыми смешливыми глазами. Он все время улыбался, шевелил густыми черными бровями, вскидывал их радостно иногда, словно был на спектакле. Мишка стоял рядом с ним и тоже посмеивался в усы. Не посерьезнел даже тогда, когда предложили его на место председателя сельского Совета.
— Здесь крикун! — донесся возглас из толпы. — Вот он!.. Сюда идитя… Ага, он. Держи его, держи крепче…
Гул, шелест по толпе прошел. Красноармейцы тащили человека, и почему-то их сопровождал сдержанный смешок. Улыбнулся и Егор, когда увидел, кого тащат красноармейцы. В их руках бился, вертелся Коля Большой, деревенский дурачок. Он сопел, упирался ногами в снег, высунув мокрый язык, сопатился. Красноармейцы подтащили его к ступеням, на паперть поднимать не стали. Поняли по смешкам, что не того взяли.
— Это ты крикнул? — строго спросил сверху Маркелин.
— Ага, — радостно кивнул Коля Большой и провел рукавом по верхней губе, размазал по щеке сопли.
— А что ты кричал? Крикни-ка еще раз.
— Не жалаем дезентира, — гнусаво просипел Коля.
Снова смешки раздались.
— Отпустите его, — сказал Маркелин и зычно заорал в толпу. — Выборы состоялись! Большинством голосов председателем сельского Совета избран Чиркунов Михаил! А Совет он себе подберет сам. Теперь расходитесь. Жду вас с хлебом…
— Где мы его возьмем? Всё сдали!
— Товарищи! Я не понимаю вас, в Красной Армии ваши же сыны, братья. И вы не хотите, чтобы они были обуты, одеты, накормлены? Товарищ красноармеец, — вытянул руку Маркелин в сторону Егора. — Да, ты, ты! Поднимись, расскажи, в каких условиях сражается Красная Армия! Иди, иди…
Егор смутился, оглянулся растерянно: отказаться?
— Иди, просють, — подтолкнул его кто-то сзади.
Анохин нерешительно поднялся на паперть.
— Коммунист? — спросил у него вполголоса Маркелин.
— Комсомолец…
— Ну, вот и врежь им по-комсомольски!
Растерянный Егор стоял на паперти, глядел на молчаливую толпу и не знал, что говорить. Дрожь охватила его, словно внезапный озноб налетел. Лиц ничьих он не различал, сплошная масса.
— Расскажи, какова на фронте житуха, — подсказал сзади Мишка Чиркун.
— Да, жизня на фронте не сладкая, — начал негромко Егор. — Пирогов в постелю не подають… — И запнулся.
Кто-то засмеялся в толпе, подковырнул ехидно:
— Оратель выискался!
Егор обиделся, разозлился, крикнул:
— Да, пирогов не подають! Да и постеля не кажный день бывает. Ляжешь у костерка на шинелюшку, да шинелюшкой и укроешься. И холод, и голод — все бывало. И под пулями, под пулями… — Он приостановился, перестал орать, сказал тише. — Без вашей помощи мы ничего не сделаем, не поборем белых хищников. Нужен хлеб, мужики, нужен…
— И нашим детям нужен! — крикнул дед в драной шапке, тот, что спрашивал, когда соль будет, и Егор узнал его: это был Аким Поликашин. — Нам тоже с голодухи пухнуть неохота… Мы с твоим отцом в поле хрип гнули, а Маркелин прискакал — и под гребло. Мякину оставил! И ту забрать хочить… Ловок ты лялешничать!.. Нету хлебушка у нас, весь выгребли, пока ты сашкой махал!
Ничего не ответил Егор, хотел сойти с паперти, но Мишка ухватил его сзади за руку, приобнял, отвел за спину к Маркелину, который заорал яростно на Акима Поликашина:
— Ты мне контру не разводи! Выпорю!
— Зна-ам мы, скор на руку… Не думай, не век тебе царевать, дойдет и твой черед!
— Что-о! — шагнул с одной ступеньки Маркелин к деду и обернулся, приказал: — Выпороть! Сейчас же.
Те два пса, что вытащили Колю Большого, снова с готовностью скатились с паперти, подхватили деда под руки, довольные тем, что теперь легко смогут выполнить приказ. Один из них поймал на лету брошенную Маркелиным плетку. Анохин смотрел, как деда кинули на скамейку возле куста сирени, где обычно отдыхали старушки после заутрени, содрали штаны, взвилась плетка, и багровый рубец проступил на серой коже старика. Дед дернулся. Снова взвилась плетка. А Мишка совершенно не замечал истязания старика, говорил Егору, что рад его видеть. Расспрашивал: насовсем ли? Подошел Маркелин, протянул Егору руку. Познакомились. Маркелин похвалил за выступление, подбодрил: это начало, мол, научишься, и он, когда в первый раз перед народом встал, язык проглотил. А теперь часами может беседы вести, да некогда, деревень много, а народ, вишь, какой — кулаки, добром не отдают хлеб, каждый фунт вышибать надо… И чернявый руку протянул, назвался. Звали его Максимом. Заместитель комиссара продотряда, то есть Маркелина.
— Кстати, Егор сын Игната Анохина, члена сельского Совета, — сказал Мишка Маркелину с каким-то умыслом.
— Игната?.. Беспокойный мужик… — Маркелин заметил, что Егор морщится, страдальчески смотрит, как извивается на лавке дед под кнутом, и сказал: — Мужика пока не выпорешь, он не поймет, что от него требуется… — Потом крикнул своим псам: — Довольно! — И заорал в толпу: — Сход закончен! В течение двух часов чтоб каждый двор сдал яйца, хлеб, картошку… Найдете! А не найдете, я найду! Кто не привезет, пусть пеняет на себя!
Он повернулся спиной к крестьянам, глянул на Мишку.
— Пожрать надо сообразить что-нибудь… У кого, ты говоришь, сальцо есть, огурцы соленые? Давай, командуй, кто у тебя тут из ребят пошустрей?
Чиркун оглядел из-за его плеча расходящуюся понурую толпу, позвал громко:
— Андрей, поди сюда.
Андрей Шавлухин, ожидавший вместе с Ваняткой Егора, взбежал к ним.
— Хочешь быть членом сельского Совета, а?
Серые глаза Андрея загорелись, губы не удержались, расползаться стали.
— Ага, вижу — хочешь… Ты комсомолец — справишься! Первое тебе задание: надо реквизировать у Алешки Чистякова соленые огурцы, так, так… — Чиркун посмотрел на Маркелина.
— Пятьдесят штук, — бросил тот кратко.
— Пятьдесят штук огурцов и три фунта сала.
— Мало, пять, — подсказал Маркелин.
— У попа вот такие моченые яблоки, — выставил Андрей большой палец вверх.
— Молодец, соображаешь, — похвалил Маркелин. — Сто штук. Скажи, реквизиция производится по указанию уездного Совета.
— А если не поверят?
— Скажи, распоряжение у Маркелина, — он поднял вверх плетку, — если сомневаются, сам заеду, покажу, неделю чесаться будут.
— А к яблочкам, естественно, — улыбался хитренько Андрей.
Максим захохотал, хлопнул по спине Мишки.
— Ну и орла ты выбрал! Парочку еще таких, и за Масловку я спокоен, — и обернулся к Шавлухину. — И это, есессно, да поскорей!
— У кого, у Ольки Миколавны? — смотрел Андрей на Чиркуна.
— Вонючий у нее, зараза… У нее завтра реквизируем. Щас у Гольцова, у него почище и покрепче.
— Может, эта… Один я не донесу… Мне бы красноармейца… на первый случай, чтоб потом знали, а?
— Соображает, стервец, — улыбнулся в первый раз Маркелин и повернулся к красноармейцам, поровшим Акима Поликашина. — Ребята, под его команду ровно на полчаса. Возьмите сани!
Крестьяне разошлись, очистили церковный двор, ставший сразу просторным. По ту сторону ограды поджидал Егора Ванятка.
— Идем с нами, посидим, полялешничаем, — удержал Анохина Мишка.
Егор не отказался. Беспокоил отец. Узнать хотелось, что он наговорил им? Что с ним собираются делать? Отпустят ли? Может, за столом размягчеют, уговорит оних, отпустят отца.
5. Четвертая печать
И дана ему власть умерщвлять мечом и голодом.
Откровение. Гл. 6, cm. 8
Не успели из саней вылезти возле избы Чиркуновых, как услышали в притихшей деревне бодрое покрикивание, понукание, увидели скачущую лошадь. Подождали у плетня. Андрей Шавлухин, стоя в санях, погонял лошадь, покрикивал. Оба красноармейца сидели сзади. Подскакали. Андрей улыбался во весь рот.
— Готово, — доложил он и взял у одного красноармейца четверть сизого самогона, которую тот держал под шинелью. — Вот оно, лекарство от всех скорбей.
— Ух ты, даже гармошка! — воскликнул Максим. — Ну, ты, брат… — И не нашел достойного слова— похвалить.
В маленькой избенке Чиркуновых сумрачно. Стекла обоих окон затянуты толстым слоем инея. Отец Мишки, Трофим, худой мужик со спутанной бородой, увидев четверть, закряхтел на печи, развернулся, выставил зад в заплатанных штанах. Нащупал голой ногой гарнушку и, держась за грядушку печи, спустился на пол. Надел валенки с дырявыми носами.
— Чего ты не подошьешь? Палец отморозишь, — указал на дыру Андрей Шавлухин.
— А-а, — махнул вяло рукой Трофим. — Некогда.
— Весь день на печи, а некогда? — засмеялся Андрей.
Закурили разом, глядя, как мать Мишки, высокая сутулая баба, складывает в глубокие глиняные чашки яблоки, огурцы, как Трофим, кряхтя и покашливая, режет сало, хлеб. Комната быстро наполнилась дымом. Но его не замечали в сумраке, пили, ели, обсуждали — удастся или не удастся выколотить из мужиков хлеб с картошкой. Егор молча слушал.
— Загнул ты с двадцатью пятью фунтами, — сказал Чиркун Маркелину. — Многовато. Скости… Хотя бы пятнадцать или на худой конец двадцать.
— Отступать не буду… Увидишь — привезут.
— А с Советом что ты хочешь делать?
— С Советом? Погляжу, — хмельно оскалился Маркелин. — Еще не придумал, — и взглянул на Егора: — Не бойся. Оставлю я в живых отца… Но угомонить его надо. Слишком неугомонный. Много еще хлопот Советской власти принесет…
— Я враз угомоню, будь спокоен, — ухмыльнулся Мишка.
— Эх, зарубку я им на память сделаю! — воскликнул Маркелин, видимо, решив, как быть с членами сельского Совета. — Узнают, как Маркелину перечить!
Андрей Шавлухин улыбался, прислушивался к разговору, а сам потихоньку тянул гармошку туда-сюда у себя на коленях.
— Чего ты пиликаешь, — глянул на него Трофим. — Играть, так играй бодрея.
— Максим, рвани-ка! — подмигнул своему заместителю Маркелин.
Максим взял гармонь, подергал, приноравливаясь к ней. Сразу обнаружил, что два клапана западают, меха худые — воздух шипит. Но неважно, не на сцене, и заиграл уверенно и громко, запел. Егор узнал его высокий голос. Это он утром пел о том, «какая благодать кости ближнего глодать».
— Крутится-вертится шар голубой… Эх-да! Крутится-вертится да над головой… — пел Максим.
— Брось! — остановил его Маркелин. — Давай лучше «Цветы ЧеКа». — И объяснил всем: — Мне его из ЧеКа дали. Маркелину кого попало не дают. Знают… Мне наш губпродкомиссар наказывал: не жалей родных мать-отца, когда задания партии выполняешь! И я не жалею.
Максим с шипением сдвинул меха гармони и запиликал, запел, играя своими черными бровями.
На вашем столике бутоны полевые
Ласкают нежным запахом издалека,
Но я люблю совсем иные,
Пунцовые цветы ЧеКа.
Максим пел озорно, легко, вздергивал черную бровь, подмигивал Андрею Шавлухину, который влюбленно улыбался, глядя, как он играет, как поет.
Когда влюбленные сердца стучатся в блузы,
И страстно хочется распять их на кресте,
Нет большей радости, нет лучших музык,
Как хруст ломаемых и жизней и костей.
Вот отчего, когда томятся Ваши взоры
И начинает страсть в груди вскипать,
Черкнуть мне хочется на Вашем приговоре
Одно бестрепетное: «К стенке! Расстрелять!»
— Ловко, а! — захохотал Андрей восторженно, налил полстакана и протянул Максиму. — А с каких лет ЧеКа на работу примает?
— В ЧеКа с улицы не берут, — взял стакан Максим, держа гармонь на коленях. — Нужны заслуги перед партией, народом. Поработай в Совете, поглядим, может, и ты удостоишься доверия.
Поговорили еще немного, и Маркелин поднялся: пора дело делать, день короткий. Покатили назад, к церкви. Сани постукивали, подпрыгивали на ухабах, шипели по накатанной дороге. Сытая лошадь помахивала хвостом на бегу, попеременно показывала желтые подкованные копыта, бросалась снегом. Еще издали увидели возле ограды двое оставшихся саней, да отряд красноармейцев рядом. Никто из крестьян не привез ни фунта.
— Твою мать! — ругнулся зло Маркелин, снова входя в роль, хлестнул плеткой по задку саней. Блестящие глаза его остекленели. — Они запомнят, запомнят… Отряд! Слушай мою команду! Разобраться по пяткам!.. Солодков, со своим пятком в Вязовку! Ужанков, на Хутор! Трухин, на Масловку! Ивакин, в Крестовню! Юшков, в Угол! Быстро по дворам! Кто не сдаст хлеба, забирать всю скотину: овец, коров, лошадей, и гнать сюда, в ограду, — указал он плеткой на церковь. — И быстро! Засветло надо сделать. Выполнять приказ!
Красноармейцы с сумрачными лицами зашуршали снегом, по пятеро двинулись в разные стороны деревни. У Егора тоже было тревожно на душе, хоть и захмелел. Такое ощущение, будто ввязался он в неприятное, нехорошее дело. Он буркнул Мишке:
— Я пойду… скажу своим, чтоб сдали… — И, не дожидаясь ответа, пошел следом за красноармейцами в Угол.
Мать по-прежнему была хмурая, сердитая. Они со снохой сидели на полу, на тряпках, щипали козу, лежавшую со связанными ногами между ними. Серый козий пух воздушной горкой возвышался на старой шали под приступкой. Сноха притихшая, молчаливая. То ли чувствовала настроение свекрови и не тревожила ее разговором, то ли мать успела отругать ее за что-то. Ванятки не видать. Услышав скрип двери, мать обернулась, сказала ехидно:
— Оратель явился… Где отец? — Видно, кто-то, Ванятка или кто из соседей, сказал ей, что Егор выступал на сходе, и она не одобрила это.
— Арестованный… Со всем Советом… Отпустят.
Мать, сердясь, наверное, слишком большой клок пуха уцепила, рванула. Коза вскинула голову, закричала жалобно. Мать резко придавила ей голову ногой. Стукнули, заскребли по полу большие ребристые рога козы.
— Лежи!
Егор с виноватым видом, не раздеваясь, сел на лавку у двери.
— Мам, хлеб надо сдать… приготовить. Щас красноармейцы привалят…
— У тебя он есть, хлебушек, ты и сдавай! — кинула мать. Она яростно рвала пух так, что бок козы дергался. — Щедрый какой… Где его взять-та. Сами однем кулешом перебиваемся… За семенной браться? Пожрать, а потом зубы на полку? Так?
— Ничего рази нет? — тихо спросил Егор.
— Глянь, поди, в ларь… Пусто! До зернышка выгребли. Сроду такого не было.
— А как же быть? Они сейчас всю скотину заберуть, — пробормотал Егор.
— Как заберуть? Куда? Кто им дасть?
— Не спросють. Приказ Маркелина… Собрать в ограду церкви, и держать, пока не сдадите…
— Как же так? Майке телиться скоро…
— Вот и отелится… в снег. Да и с отцом как бы чего… если заартачимся…
С улицы шум донесся, крики, блеяние овец. Егор выглянул в окно. Мать поднялась с пола, тяжело опираясь на колени, подошла, долго смотрела, как овцы, коровы топнут в снегу по брюхо, как кричит на кого-то невидимого из окна красноармеец, грозит винтовкой. Началось.
— Царица небесная, заступница ты наша, когда жа кончится эта мука! — запричитала мать. — Господи, за какие жа грехи ты нас наказуешь! Чего жа мы сами исть будем, чем жа питаться? Святым духом…
Она, вытирая глаза, горбясь, двинулась в сенцы. Егор пошел следом.
Когда разгоряченные красноармейцы, стуча сапогами, ввалились к ним, Егор с матерью взвешивали безменом рожь и ссыпали в мешок.
— Сами привезем, — буркнул Егор.
Не мог вчера представить себе он, входя в тихую сонную деревню, что сегодня он увидит такое… Женские крики, взвизги под ударами плеток, мычание коров, утопающих в снегу, не понимающих, что от них хотят, куда и зачем гонят, хриплые голоса овец и тонкие, испуганные — коз. И это по всей деревне, со всех концов. Особенно шумно на лугу, у церкви. Все перемешалось здесь: овцы, лошади, люди, коровы, подводы. Кое-кто, как и Егор, наскреб оброк, сдавать привез. Очередь образовалась. Принимал и отмечал Мишка Чиркунов. Помогали ему Андрей Шавлухин и два таких же молодых паренька. Комсомольцы, догадался Егор, будущие советчики. Мужики неразговорчивые, сумрачные. Пакостно и на душе Егора, так пакостно, что ни на кого смотреть не хочется. И непонятно — то ли он виноват перед мужиками, то ли они перед ним. Жалко мать, отца. Он-то уедет через десять дней в свою часть, на готовенькое, а они перебивайся. Егор сидел на соломе в санях, смотрел исподлобья, как заполняется скотиной церковный двор, как распоряжается там Максим, покрикивает на ребятишек, чтоб помогали загонять. Маркелина не видно. Потом, когда пришли все красноармейцы, исчез и Максим.
Подводы, сгрузив зерно, картофель, яйца, отъезжали от Мишки Чиркунова. Мужики сразу оттягивали кнутами своих лошадей и мчались домой без оглядки. Только хриплые, густые голоса доносились: Но! Но! Зараза! — да шлепки кнутов по спинам невинных лошадей, мерное постукивание сбруй да хруст снега.
Скотина в церковном дворе орала на разные голоса, топталась в снегу. Ворота закрыли. Вдруг от двора Федора Гольцова, где в его крепком сарае были заперты арестованные члены Совета, донеслись выстрелы: нестройный залп и какие-то крики.
— Советчиков расстреливают, — ахнул кто-то.
Егор, готовившийся сдавать дань, прыгнул в сани, круто натянул поводья, раздирая удилами рот Чернавке, развернулся и погнал по разбитой дороге ко двору Гольцова. Сердце его яростно рвалось в груди, грохотало: убьют отца, зубами загрызу! Подскакал, и в это время новый залп грохнул, оглушил. Егор увидел человек шесть красноармейцев возле входной двери в сени избы Гольцова. Они смотрели в сторону сарая и смеялись. Из-за сарая выскочил белый мужик в исподнем, в нижней рубахе и в кальсонах. Бежал он по снегу босиком, держал в охапке полушубок, валенки и другую одежду. Егор не сразу узнал отца в этом ошалевшем мужике с растрепанной бородой. Узнал, кинулся навстречу. Отец шарахнулся от него. Анохин поймал его за рубаху, обхватил сзади, потащил к саням, чувствуя, как он дрожит, сотрясается весь, усадил на солому, стал помогать натягивать валенки на ярко-розовые мокрые ноги отца, укутывать в полушубок.
— Взвод! Пли! — услышал Егор и выпрямился, оглянулся на сарай, за которым что-то творилось. Треснул залп, раздался крик веселый: — Еще одну сволочь расстреляли! Тащи другую!
Егор, дрожа, кинулся туда, вылетел из-за угла и увидел, как от омета, засыпанного снегом, два красноармейца с веселыми лицами оттаскивали, волочили по снегу за руки мужика, который, как и отец, был в исподнем. Анохин, не помня себя, бросился именно на этих двух красноармейцев. Почему-то все зло, весь ужас расстрела сосредоточился на них. Ни пятерку бойцов с винтовками, ни Маркелина, командовавшего ими, ни Максима у двери сарая — он не видел, подскочил, врезал одному бойцу в челюсть, вкладывая всю силу. Тот не ожидал, упал навзничь, выпустил мужика. Егор сцепился с другим, оба покатились в снег. К ним кинулись, растащили. Егор извивался в снегу, бил ногами. Его скрутили, крича:
— Очумел, вахлак! Мы шуткуем! Смотри, очухался твой мужик. В омраке он, со страху! Вверх палили…
Анохин перестал биться, сел в снег. Лежавший на спине мужик, которого тащили от омета бойцы, зашевелился, перевернулся набок. Он оглядел всех белыми, как у бельтюка, глазами, потом поднялся, опираясь голыми руками о хрустевший проминающийся снег. Шум возле сарая отвлек от него. Егор увидел, как в распахнутую дверь выскочил из полутьмы сарая Петька Докин, председатель сельского Совета, без шапки, с редкими короткими седыми волосами и широкой бородой. В руках у него — винтовка. Выскочил, ткнул штыком стоявшего у двери Максима, бросил винтовку и кинулся мимо сарая за омет. Максим шарахнулся от него назад, пятясь, ухватился за ствол винтовки, споткнулся о сугроб у стены и упал в снег. Докин, видно, не причинил ему вреда, сугроб спас. Максим вскочил сразу, перехватил винтовку за приклад и первым побежал за омет, за Докиным. Произошло это мгновенно. Все онемели, опешили. Егор, сидя в снегу, видел, как Докин выскочил из-за омета по ту сторону сарая и по целику, по сухим будылкам, торчащим из сугроба, проваливаясь, прыжками, помчался к катуху соседнего двора. Хлестнул выстрел… Максим стрельнул. А Докин еще быстрее, еще энергичней запрыгал по снегу. Катух уже близко, в пяти саженях. Над головой Анохина захлопали, оглушая, выстрелы. Красноармейцы, кто стоя, кто с колена били по бегущему председателю. Перемахнуть через сугроб осталось ему и два шага до угла. Но упал на четвереньки в сугроб Докин, утоп обеими ногами, застрял, застыл на месте. А выстрелы все хлопали. Оглянулся Докин напоследок и ткнулся седой бородой в снег.
Егор поднялся, дрожа и покачиваясь, побрел к саням мимо сарая. Внутри, в полутьме что-то делали люди, слышались негромкие голоса.
— Сердечником он их… Сердечник в сарае валялся. Ох, не заметили мы…
— Тащи их на свет!
— Теперь им все равно: что свет, что тьма.
— А может?..
— На можа плохая надежа.
Навстречу Егору вытащили, положили в снег двух красноармейцев с пробитыми головами, с залитыми кровью лицами. Анохин узнал тех самых псов Маркелина, которые с такой охоткой, разудало ввинчивались в толпу за Колей Большим, потом пороли деда Акима Поликашина. Один из бойцов вынес из сарая железный сердечник от телеги, кинул в снег рядом с убитыми. Егор не остановился, прошел мимо. Отец лежал в санях, на соломе, возле мешков с зерном, дрожал: полушубок и шапка его содрогались. Анохин сел рядом, хлестнул лошадь.