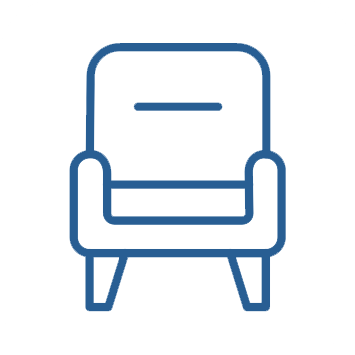- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
Дневник писателя
Мой путь в литературу
-

Петр Алешкин Дневник писателя
Приобрести произведение напрямую у автора на Цифровой Витрине. Скачать бесплатно.
В книгу «Дневник писателя. Мой путь в литературу» включены рассказы о моей жизни, о моих повседневных делах, размышления о себе, о своей жизни, о литературном труде, о встречах с писателями. Мне посчастливилось общаться со всеми крупными писателями России от Солженицына и Леонида Леонова, Бондарева и Солоухина до Распутина и Белова. Мною написано много разных произведений: романов, повестей, рассказов, пьес, статей, сценариев кинофильмов и телесериалов, написаны и защищены две диссертации по истории: кандидатская и докторская, опубликовано несколько исторических книг, два года назад я избран академиком РАЕН. Книги мои переводились на все основные языки мира, даже на китайский. О моих произведениях критиками написаны и изданы четыре книги и множество статей. Все они есть в интернете.
Какие эмоции у вас вызвало это произведение?

0

0

0

0

0

0
Читать бесплатно «Дневник писателя» ознакомительный фрагмент книги
Дневник писателя
Мой путь в литературу
Пишу не чью-нибудь судьбу,
Свою от точки и до точки,
Пускай я буду в каждой строчке
Подвластен вашему суду…
И все же кто-нибудь поймет,
Где грохот времени, где проза,
Где боль, где страсть, где просто поза,
А где свобода и полет!
Станислав Куняев
Моя тропинка
В детстве я считал, что живых писателей нет — они либо на дуэлях погибли, либо покончили с собой, — и я буду единственным живым русским писателем. Бывает, когда в веселом застолье я говорю об этом новым знакомым и добавляю, что окончил школу при керосиновой лампе, что впервые в город попал, увидел двухэтажный дом и телевизор в семнадцать лет, все считают, что родился я в глухомани, в тайге. Нет, родился я в центре России, в Тамбовской области, через четыре года после окончания войны.
Не помню, с каких лет я стал видеть себя писателем, не понимаю, почему, как и откуда ко мне, сыну неграмотных крестьян, — мать совершенно не может читать и писать, а отец окончил два класса, — откуда ко мне пришла мечта о литературной славе. Совершенно не помню и не понимаю. Помню только: был уверен, что лет в двадцать буду знаменит на весь мир. Начал я писать не рассказ, не повесть и даже не роман, а трехтомную эпопею. Чего мелочиться! А было мне в ту пору лет девять-десять. Никто — ни в семье, ни друзья не знали о моей мечте, не догадывались, что я пишу. Просто прилежный мальчик усердно выполняет школьные уроки.
Первой мечтой моей были самолеты: хотелось стать военным летчиком, и я, естественно, разболтал об этом. Брат мой Валера, — он старше на три года, — вышучивал меня, издевался, говорил: «Да, ты будешь летчиком, будешь не летать, а со стола куски хватать!». Это меня сильно обижало. В детстве я был маленького роста, слаб, отставал от сверстников физически и больше всего не переносил, когда надо мной смеялись. Поэтому никто в деревне не знал о моей мечте до тех пор, пока не вышла первая книга.
Помнится, в девятом классе я решил послать один из своих рассказов на конкурс в «Комсомольскую правду». После творческой неудачи с трехтомной эпопеей я перешел на рассказы. Запечатывал и подписывал конверт в интернате, где тогда жил, в большой комнате, и кто-то из одноклассников заметил, что на конверте я пишу адрес редакции, сказал ребятам, и они навалились на меня, пытаясь отнять письмо. Я вырвался, выскочил на улицу. Ребята за мной. Я влетел в женский туалет и бросил письмо в яму. Я страшно боялся, что моя мечта станет известна, и я буду посмешищем.
Я понимал, что писатель не только для меня, но и для моих односельчан существо сверхъестественное, небожитель. Естественно, как только узнают о моей мечте, мнение друзей и односельчан будет единым: у человека, который постоянно мельтешил среди них, как все косил траву, пас гусей, копался в огороде, а по вечерам гонял в клубе девок, и который, оказывается, хочет быть писателем, у такого человека не все в порядке с головой.
В школе мне ни разу не пришла в голову мысль поступать в Литинститут или во ВГИК. Куда мне! Мой самый счастливый удел — Тамбовский пединститут, литфак. С первого захода туда я не прошел по конкурсу. В то время школы с одиннадцатилетки переводили на десятилетку. Сразу два класса выпустили. И конкурс в вузы в два раза увеличился.
Год проболтался в деревне. Писал, читал, мечтал. Из книг о писателях узнал, что для успешной литературной работы нужен богатый жизненный опыт, и по комсомольской путевке отправился строить газопровод «Средняя Азия — Центр», поехал за тем, чтобы набраться впечатлений, жизненного опыта.
В Тамбовский пединститут поступил только после службы в армии, поступил и уехал в Харьков, где, помытарствовав немного, оказался на тракторном заводе. Здесь, в Харькове, я встретил первого живого писателя, здесь началась моя литературная жизнь, здесь я увидел первые свои опубликованные вещи, первую книгу.
Помнится, в первые дни в Харькове я прочитал объявление на одном из ДК, что набираются слушатели в Народный университет культуры на литературный факультет, который ведет член Союза писателей Г.М. Гельфандбейн, прочитал и немедленно записался.
Помнится, с каким трепетом ожидал я в небольшом зале ДК появления первого живого писателя, небожителя. Гельфандбейн оказался пожилым человеком, крупным, высоким, неторопливым, но очень энергичным и эмоциональным.
Помню, как неторопливо входит он в зал, подходит к столу, выдвигает стул, но не садится, оглядывает приветливо нас, слушателей — старушек, девиц и меня. Смотрел я на него с обожанием, слушал с восторгом, не знаю, предчувствовал ли я тогда, какую роль сыграет в моей жизни Герш Менделеевич Гельфандбейн, Григорий Михайлович.
После одного из занятий я шел к автобусной остановке вслед за Григорием Михайловичем, волнуясь, как подойти к нему? Как начать разговор? Не знаю, догадался ли он о моих мучениях, но приостановился и заговорил со мной. Вероятно, он давно приметил своего усердного слушателя, не пропустившего ни одного занятия. Я проводил его к остановке, признался, что пробую писать. Он сам попросил показать ему мои вещи. Я пообещал, но не принес, постеснялся. Перечитал дома, и показалось таким жалким все то, что я написал. Стыдно.
В те дни я уже работал сборщиком на тракторном заводе, жил в общежитии, и все свое свободное время проводил в читальном зале заводской библиотеки. Какая замечательная читалка была у завода! Богатейшая, многолюдная, с приветливыми, влюбленными в свое дело библиотекарями, и работала тогда аж до десяти часов вечера. Прямо из цеха, заканчивалась смена в четыре часа дня, я шел в нее, читал, писал контрольные работы и рассказы. Первая моя книга написана там. Библиотекари, думается, быстро поняли, чем я дышу, и однажды одна из них сказала мне, что при читалке работает заводская литературная студия, и спросила — не желаю ли я пойти туда.
Как вы понимаете, я желал, да еще как желал! Она повела меня в комнату, где я увидел, кого вы думаете?.. Я увидел Гельфандбейна.
С этого дня для меня началась новая жизнь — та жизнь, о которой я мечтал в деревне Масловке. Не знаю, почему Григорий Михайлович сказал, когда началось занятие, что напрасно он не хотел идти на ХТЗ руководить студией. Он только что сменил другого руководителя. Потом Гельфандбейн повторит эти слова, когда я принесу на обсуждение свои стихи. Да-да, в студию я пришел со стихами. Не знаю, почему он так сказал, но мне, грешному и тщеславному, так хочется связать его слова с моим появлением в студии, где были тогда почти одни пенсионеры. Ирина Полякова появилась одновременно со мной и сразу влюбила в себя всех своими романтическими стихами. Было ей тогда, как и мне, девятнадцать лет.
Григорий Михайлович был строг и безжалостен к нашим литературным текстам, не жалел и пенсионеров. Он часто повторял: литература — дело жестокое! Старики были обидчивы и, как все пишущие, легко ранимы. После разгромного разбора их стихов и романов больше не появлялись в студии. Не знаю, как бы я повел себя, если бы на первом же занятии мои стихи разгромили безжалостно, а они этого достойны, но встретили их доброжелательно, заинтересованно. Отметили и достоинства и, конечно, кучу недостатков.
Больше стихов я не приносил, но рассказы мои обсуждались два раза в месяц. Задумав рассказ, я делал заявку заранее, а потом, чтобы не обмануть руководителя и новых друзей, заставлял себя его написать. Вскоре меня избрали старостой студии.
Один за другим появлялись молодые ребята. Мы быстро становились друзьями. Одного раза в неделю на обсуждение наших стихов и рассказов нам, молодым и голодным, было мало, и мы образовали свой кружок, стали собираться на квартире Андрея Коновко, читать и разбирать свои произведения.
Мы часто выезжали в лес, позагорать на Донце или просто побродить, поговорить о литературе. О ней можно говорить бесконечно. Вместе отмечали праздники и дни рождения. Мы влюблялись и флиртовали в студии, находили здесь свое личное счастье. Поэты Ирина Полякова и Володя Глебов поженились, и Андрей Коновко встретил свою жену здесь. Теперь у них взрослые дети, счастливые семьи. Мы были друзьями, но как мы были безжалостны к неудачным рассказам друг друга, и как радовались удачам! Помнится, Славик Еремкин так разделал один из моих рассказов, критиковали его и другие, но он был особенно насмешлив и жесток, говорил такие слова, что я потом всю ночь не спал, лежал в лихорадке, всю ночь спорил про себя со Славиком, доказывал ему, что он не понял меня, что рассказ не так плох.
Вероятно, и после моих разборов некоторым моим друзьям тоже не спалось. Но тем не менее такая критика нас не разъединила: у меня после разгрома всегда было страстное желание написать сильную вещь, доказать, что рассказ, который разбили, моя временная неудача. Я писал, приносил, читал, слушал похвалу, с удовольствием писал другой, считал его удачным, думал — опять похвалят, но его разбивали так, что стыдно было находиться в студии. Многое из того, что я тогда написал, я никогда не включал в свои сборники, и лишь небольшую часть вставил в трехтомник.
И все мы были влюблены в Григория Михайловича, с трепетом ждали появления его в нашей комнате читального зала, каждый раз провожали после занятий до автобусной остановки, жадно впитывали его слова о литературе, о литературном труде, о своих вещах. А разбирать он умел наши рассказы и стихи мастерски, просто мастерски.
Уехав из Харькова, я посещал литстудии в Тамбове, в Зеленограде, в Москве. В частности, был старостой в одном из семинаров «Зеленой лампы» при журнале «Юность», который вели профессора Литинститута известные писатели Андрей Битов и Владимир Гусев, был несколько лет членом литобъединения при Московской писательской организации у Валерия Осипова и Леонида Жуховицкого, участвовал в V Московском и VIII Всесоюзном совещаниях молодых литераторов, где руководили семинарами самые славные писатели, но никто из них, никто не мог так умело, так точно, так доброжелательно и глубоко разбирать наши произведения, как Григорий Михайлович Гельфандбейн.
Учеба во ВГИКе на сценарном факультете, где мастерская — та же литстудия, оставила в моей судьбе слабый след. А как я стремился во ВГИК! Думал, раз в Харькове так интересно, то что же в Москве! И был разочарован. В Москве важную роль в моей литературной судьбе сыграл писатель Эрнст Сафонов, этот большой, удивительно добрый, чуткий и неравнодушный к судьбе молодых литераторов человек. И главное, я не просил его о помощи! Он сам почувствовал, сам увидел, что нужно подставить свое большое плечо, поддержать, поделиться частичкой своей энергии, чтобы молодой неокрепший литератор уверенней зашагал дальше.
Думается, что сам Эрнст Сафонов сейчас и не догадывается, какую роль он сыграл в моей жизни, как он помог мне, так это для него органично, просто и естественно помогать другим. Пока есть такие люди, русская литература будет жива.
А как литератор я — сын литстудии ХТЗ. Впервые от Гельфандбейна я услышал имена Василия Шукшина, Валентина Распутина, Василия Белова, Виктора Астафьева и Виктора Лихоносова, благодаря Григорию Михайловичу я был очарован их повестями и рассказами, с нетерпением ожидал появления в читалке свежих журналов, искал в оглавлениях эти имена, если находил, тут же с наслаждением проглатывал.
Как я тогда много читал! Удивляюсь сейчас, как я мог всюду успевать, дни что ли были резиновые. Я работал в те года сначала слесарем-сборщиком на ХТЗ, а затем паркетчиком на стройке; учился заочно в пединституте, окончил и сразу поступил снова на заочное во ВГИК; следил за журналами, не пропускал ни одну заметную вещь, читал книги мастеров прозы, много читал; писал свои вещи, как видите, не так уж и мало написано; был активнейшим комсомольцем в цехе, членом бюро, даже до такой глупости доходил — выпускал цеховую стенгазету раз в две недели и аж с литературным приложением, мне это было интересно; и я не был аскетом — любил кутнуть с ребятами, погулять с девчатами, и времени у сна никогда не отнимал.
Где же я находил время?
Почему же сейчас, когда я столько же часов бываю на работе, так мало времени остается для жены, для друзей, для книг своих и чужих? Да, золотое было времечко! Я счастлив, что у меня была литстудия ХТЗ, счастлив, что встретил Григория Михайловича, писателя Андрея Коновко, рядом с которым я иду двадцать с лишним лет. Григорий Михайлович сейчас по-прежнему живет в Харькове, а литстудией ХТЗ руководит Ирина Полякова.
А в те дни слава о делах литстудии ХТЗ покатилась по Харькову, потом за его пределы. Нас стали приглашать выступать на предприятия, в ДК, на радио, на телевидение. Подборки наших стихов и рассказов охотно печатали газеты, писали о работе студии. Литобъединения других городов желали встретиться с нами.
Наконец, услышали о нас и заинтересовались в отделе культуры ЦК компартии Украины. Однажды заведующий отделом культуры ЦК приехал по своим делам в Харьков и пожелал поприсутствовать на занятии нашей литстудии. Помнится, тогда я читал рассказ «Шутов палец». Зав. отделом то ли сделал вид, то ли действительно был в восторге от того, как прошло обсуждение, говорил, что он не ожидал встретить такое в заводской литстудии. Я обнаглел, выступил, как староста, сказал, в ответ на его слова, что для своих книг мы еще не созрели, а вот коллективный сборник прозы мы бы осилили. Зав. отделом пообещал посодействовать и не обманул.
В планах харьковского издательства «Прапор» появился наш сборник «Солнечные зажинки» и года через три, в 1976 году, увидел свет. В нем была моя первая публикация — повесть «Рачонок, Кондрашин и др.». С одной стороны — я был рад, я начал печататься, я есть, я существую как литератор; с другой — мне было стыдно за слабенькую повесть. Не с такой вещью хотелось появиться на свет. Но другие не печатали.
К тому времени я уже написал рассказ «В тамбовской степи», назывался он тогда «Первая правда». Задумал я большой роман о Викторе Антошкине. Он у меня живет в рассказе «Шутов палец». А рассказ «В тамбовской степи» писался как начало романа. Эпиграфом к роману служили слова Шукшина: «О человеке нужно знать три правды: как он родился, как женился и как умер». «В тамбовской степи» я рассказал, как родился Виктор Антошкин, потому он и назывался вначале «Первая правда».
Писал, писал я роман, чувствую, что не вытягиваю, и бросил, отложил. Потом решил из первых глав сделать рассказ, переписал и принес на обсуждение. Встретили его хорошо, кое за что покритиковали. Я доработал и понес в областную студию, которая работала при Харьковской писательской организации. Литстудия ХТЗ — это как бы школа, а областная литстудия — институт. Ее посещали кандидаты в члены Союза писателей, все самые одаренные и признанные молодые литераторы. Они теперь составляют костяк Харьковской писательской организации.
Помнится, после того как я малость пообтерся в студии ХТЗ, наслушался об областной от новых друзей, и меня потянуло туда. Руководители наших студий были приятелями, и Гельфандбейн рассказывал Зельману Кацу о новом перспективном мальчике, обо мне, поэтому, когда я робко заглянул туда и попросил прочитать свой рассказ, Кац согласился. Я читал рассказ «Осина», который позже включил в состав «Шутова пальца».
Сладостно вспоминать, что было после того, как я сошел с трибуны. Владимир Муровайко, украинский поэт, студент университета, ему было тогда, как и мне, двадцать лет, эмоциональный парень, вскочил, закричал с места: «К нам пришел талант!». Он еще что-то говорил восторженное на украинском языке, но я тогда плохо понимал украинский, понимал только, что рассказ ему понравился. Мне передали, что в перерыве одна молодая поэтесса сказала Кацу о рассказе, мол, это литературщина, а Кац ответил, что у него сердцевина живая. Я тогда, мальчишка, не понял, что ворвался в студию с триумфом, принял хвалебные слова как должное, мол, так и должно быть.
Читал я там и другие вещи, но их разбивали безжалостно, особенно весело растоптали повестушку «Рачонок, Кондрашин и др.», справедливо растоптали. И я во второй раз ночь не спал, возражал ребятам. Это была вторая и последняя такая ночь.
Я стал привыкать к критике, а теперь к ней почти равнодушен, спокойно размышляю над критическими замечаниями. Если дельная критика, я ее непременно учитываю, перерабатываю.
Рассказ «В тамбовской степи» я принес в областную студию, когда уже прочно закрепился там, был комсоргом. Зельмана Каца сменил Микола Шаповал, и его вот-вот должен был сменить Виктор Тимченко, слепой поэт из Дергачей, удивительно энергичный и доброжелательный человек. Он у себя в Дергачах создал крепкую литстудию. За неделю до обсуждения я дал ему прочитать «Тамбовскую степь». Иду я по улице один на занятие, и за два квартала до писательской организации встречают меня Виктор Тимченко и Виктор Бойко, украинский поэт. Тимченко взволнован. Он хорошо относился ко мне. Когда он станет руководителем студии, меня изберут председателем бюро.
— Возвращайся немедленно назад, пока тебя не видели! — возбужденно сказал мне Тимченко.
— Почему? — остановился я ошарашенный.
— Ты молодой, ты не понимаешь, что ты написал! На тебе поставят крест! Тебе закроют путь в литературу! Уходи! Скажешь потом, что заболел. Уходи!
— Нет, я буду читать! — ответил я.
— Дурачок, ты многого не понимаешь. Вернись! Тебя растопчут.
— Ну и что... Я буду читать! — твердил я.
— Тебе жить. Смотри... Но я буду тебя критиковать, — сказал Тимченко.
— Хорошо, — согласился я. — Только вы выступите в конце обсуждения.
— Договорились.
Прочитал я рассказ, и началось. С тех пор прошло около двадцати лет, мне тогда было двадцать пять, и больше никогда, ни об одном из моих рассказов и романов не говорилось столько хороших слов. Я понимал, что на этот раз заслуженно, чувствовал, что от настоящей литературы рассказ отделяет всего один шаг. Но все говорили, что напечатать мне его удастся не скоро. Они оказались правы. Я послал его в «Новый мир» и получил хорошую рецензию Кондратовича с рекомендацией журналу — печатать (позже я узнал, что Кондратович был раньше замом Твардовского). Главным в «Новом мире» тогда был Сергей Наровчатов, но он вскоре умер. Пришел Карпов, и через два года рассказ мне вернули. Я перебрался в Москву и снова решил предложить его в журнал. Послал в «Наш современник». Ходить по редакциям журналов и издательств я стеснялся. До сих пор чувствую неловкость, входя в комнаты отделов прозы. Мне кажется, что хозяева спросят, зачем я сюда приперся, и погонят. «Наш современник» откликнулся быстро, меня вызвали в редакцию. Редактор отдела прозы Фатима Бучнева встретила приветливо, удивилась, что я — плотник и молод, сказала, что «Тамбовскую степь» они напечатать не могут, чтобы я показал другие рассказы. Пока я готовил другие рассказы, Бучнева ушла из журнала, а новых редакторов я не смог заинтересовать, хотя показывал все, что писал. Рассказ «В тамбовской степи» я напечатал только через четырнадцать лет. Три книги вышло у меня в разных издательствах, из всех выбрасывали. Тогда я схитрил, включил его в роман «Заросли», как якобы написанный одним из персонажей Петром Антошкиным. Я не могу сказать, что он влился в роман органично, но, во-первых, очень хотелось увидеть его опубликованным; во-вторых, в романе мне хотелось показать жизнь нашего общества как можно шире. И этой цели он служил.
А в те дни юности мне очень хотелось напечататься. Хоть и признан я был в областной студии, но не чувствовал себя там комфортно. Почти все ребята печатались, а у меня ни строчки. Тогда я стал искать, что бы такое написать, чтобы и мне было интересно и напечатать можно. Все редакции охотно печатали о рабочем классе. А я сам был рабочим, с ХТЗ я ушел, был паркетчиком на стройке. И решил я описать один день из жизни бригады паркетчиков. Придумал сюжет и написал повестушку «Хочешь, я расскажу тебе сказку...».
В Харькове готовился к печати сборник «Солнечные зажинки». «Тамбовскую степь» не хотели печатать, просили принести о рабочих. Закончил повесть я летом. Студии на каникулах. Сразу перепечатал и отдал в издательство. Там мне ответили: годится! Только сократим. Велика для сборника. Название изменим, назовем «Рачонок, Кондрашин и др.» Я обрадовался, тут же собрал свои рассказы, повесть, оформил в единую рукопись, в папку и по почте отправил в Киев в издательство «Молодь». Осень, занятия в студии. Несу повесть на обсуждение. На ХТЗ раскритиковали. Я решил — не поняли! Подправил явные ляпы, и в областную студию. Ох, и потоптались там на ней! Стыдно было, что послал в Киев. Как там теперь надо мной потешаются!..
Ответ с рецензией и с рукописью пришел быстро. Редактор Иван Кирий писал, что рукопись им подошла, что рассказы они печатать не будут, берут одну повесть. Нужно заменить название. Если я за один месяц смогу дописать ее, увеличить страниц на тридцать-сорок, то книга может выйти в следующем году. Я был ошарашен. Повесть я уже выбросил, поставил на ней крест. И вдруг такое! И как ее можно увеличить? Все, что хотел, я уже написал. Как быть? Неделю мучился, еще неделю обдумывал разные варианты, две недели писал-перепечатывал. И точно в срок отправил повесть, назвав ее «Все впереди». Через полгода получил верстку, а через три месяца сигнальный экземпляр книги. В издательстве я ни разу не был, не знал, как оно выглядит. С редактором встречался только один раз, в Доме творчества в Ирпене, где проходила встреча двух студий — ХТЗ и киевского завода «Арсенал». Таких встреч студий было много.
Книга «Все впереди» вышла в рекордно короткий срок для молодого автора, ровно через год как я отправил рукопись в издательство. Но повесть слаба, и в трехтомнике ее нет. Были на нее дежурные отклики, говорили и читали по радио, но говорили не о ее художественных достоинствах, а о том, что ее написал молодой паркетчик. Умалчивали о том, что этот паркетчик учится во втором институте.
Но как бы эта повесть, на мой взгляд, ни была слаба, я до сих пор думаю, что правильно сделал, что опубликовал ее. С выходом книги родился новый литератор. Какой бы он ни был слабенький, а он есть, он существует, он подал голосок. Конечно, если бы с такой книгой вышел в свет сын интеллигентов, всосавший культуру с молоком матери, я не понял бы его. Но так сложилось, что имя любимого моего писателя Бунина, имя Лескова услышал я и прочитал в восемнадцать лет.
Помнится, когда мне было уже за двадцать, я был оглушен тремя книгами, неделю после каждой под впечатлением прочитанного жил, не видел ничего вокруг. Это — «Братья Карамазовы», «Мастер и Маргарита» и «Один день Ивана Денисовича». Очень поздно я открывал для себя мир настоящей литературы. У каждого своя тропинка! Главное, чтобы привела она к настоящим произведениям, к настоящей литературе. Кто помнит сейчас о моей книге «Все впереди», кроме меня и двух-трех друзей? И кто ответит — был бы этот трехтомник, если бы не было этой повести, этой книги?
Вторая книга рассказов «Там, где солнечные дни» выходила в Харькове, как и положено, долго, переносилась из плана в план. Вышла, когда меня уже не было в Харькове, когда я, поработав в Тюмени на строительстве железной дороги «Сургут — Уренгой», перебрался в Москву.
В судьбе третьей, вышедшей в Москве в издательстве «Современник», интересен один факт: когда в редакции по работе с молодыми мне вернули рукопись с отрицательной рецензией, я, выйдя из редакции, вынул рецензию из папки и тут же отдал рукопись в редакцию прозы, в соседнюю комнату. Там вначале брать не хотели: молод, не член Союза писателей, но, узнав, что у меня две книги, взяли. Рецензировали дважды. И оба рецензента хорошо отозвались о ней. Книга вышла без приключений. Думается, помогло то, что журналы начали меня печатать.
Произошло это неожиданно. Я, конечно, стучался в двери журналов, но мне их не открывали. Никто за мной не стоял, я не стремился искать покровителей, чтобы замолвили за меня словечко, могли протолкнуть рассказ — стыдно было. Я не принадлежал ни к каким литературным кланам: критики ни с той, ни с другой стороны не включали мое имя в обоймы — я считал, что пока недостоин, что те, кого включают, талантливее меня. Вспомнил сейчас о том времени и подумал: нам уже всем за сорок, а где же произведения тех, кого включали в обоймы лет пятнадцать назад, где они? Нет, сами-то бывшие молодые писатели все живы и здоровы, я — человек общительный, лично знаком почти с каждым, а книг нет. Желаю одного: дай Бог им хороших книг! От этого русская литература только станет богаче.
Однажды получил я телеграмму из журнала «Знамя» с приглашением зайти в редакцию. Я тогда работал редактором в издательстве «Молодая гвардия», поступил я туда с улицы, по конкурсу, помогли уроки литстудии ХТЗ, где я научился неплохо разбирать произведения. Получил телеграмму и удивился. Я ничего не давал в журнал. Решил, что хотят пригласить меня на работу. Дело в том, что в издательстве я как-то сразу приобрел славу хорошего редактора, опять помогли уроки Гельфандбейна.
Через полтора года профсоюз издательства решил, что по итогам года я — лучший редактор в своей редакции. Меня стали зазывать на работу в журналы и издательства с повышением. Потому-то я и подумал, что «Знамя» предложит мне работу. Но я ошибся. Недавно я отнес рукопись очередной книги в издательство «Московский рабочий», и ее отдали на рецензию заведующей отделом прозы журнала «Знамя» Наталье Ивановой. Рукопись она одобрила, а одну повесть решила предложить в журнал. Для этого она и вызвала меня.
Повесть «В новом доме» была напечатана. Никто не знает, какое значение для моей литературной работы имела публикация этой повести в «Знамени». Я научился писать. И научили меня редакторы журнала. Нет, они не задавались такой целью. Они просто были добросовестными редакторами, черкали мою повесть вдоль и поперек, вначале редактор, потом Наталья Иванова. Они черкали, а я внимательно следил, что вычеркивают, не возражал. Видел, они правы, текст становится лучше. Никто еще не редактировал так мои вещи. Мне было стыдно перед ними, что я так плохо пишу, что они думают: какой я слабак! Вряд ли читала Наталья Иванова после этого хотя бы одну мою строчку, и вряд ли она знает, что я больше не пишу так, как писал.
Повесть «В новом доме» стала первой частью романа «Заросли», вошедшего в первый том сочинений. Я понимаю, что «Заросли» — не лучшее, что я написал, лучшее, на мой взгляд, — это роман «Время великой скорби. Эпизоды из жизни тамбовской деревни». Написал я этот роман тогда, когда, порвав с «Молодой гвардией», оказался на вольных хлебах.
Эти полтора года оказались самыми плодотворными. Я дописал романы «Заросли» и «Трясина» и написал первую часть романа «Время великой скорби», которую направил с оказией в Париж в журналы «Континент» и «Грани». Владимир Максимов, главный редактор «Континента», знаменитый писатель-эмигрант, позвонил мне из Парижа, сказал, что будет печатать главы из романа, спросил, какие книги у меня вышли: он хочет познакомиться со мной поближе, посмотреть книги в парижской библиотеке. Я засмеялся: откуда мои книги в Париже, сказал, что вот-вот выйдет мой роман «Заросли», и я непременно пришлю ему. Мне было приятно, когда шло по телевидению первое в СССР интервью с писателем-эмигрантом Владимиром Максимовым, все время в кадре, на столе, перед ним была моя книга «Заросли».
Вскоре я стал директором издательства «Столица» и хотел печатать в издательстве книги Владимира Максимова и журнал «Континент». Как горько, что не получилось ни того, ни другого! Об этом я уже рассказал в документальной повести «Предательство». А разные главы из романа «Время великой скорби» были опубликованы одновременно в «Континенте» и «Гранях».
Я все время жаждал одного: научиться, научиться писать по-настоящему, чтобы тексты мои были художественными, чтобы читатели за моими книгами испытывали такие же чувства наслаждения, печали, счастья, какие вызывают у меня книги Бунина и Виктора Лихоносова.
Мне хотелось знать, чего мне не хватает для этого, где искать, что делать? Я жаждал найти учителя, который откроет мне глаза. Я знал, что молодые ребята посылают свои вещи мастерам, но мне было стыдно за свои неуклюжие вещи. Но когда я уехал в Сибирь, в тайгу, остался без литературной среды, я рискнул — отправил рассказы Валентину Распутину и получил короткий вежливый отказ: завален рукописями, некогда читать. Я представил, как ему со всех сторон шлют рукописи такие же, как я, и если все читать и отвечать, то вряд ли у него останется время для своих книг, и не огорчился.
И все же хотелось знать мнение мастера слова — на правильном ли я пути? Как мне работать дальше? Тогда мне было двадцать семь лет, и была у меня одна книга. Я снова рискнул, послал рассказы Виктору Астафьеву и удивительно быстро получил ответ. Буквально через две недели. Астафьев писал, что у меня есть нюх и слух, что литературная судьба моя только в моих руках, нужно работать, работать так, «чтоб зад трещал и шатало», когда поднимаешься из-за стола. Я был счастлив, окрылен поддержкой Астафьева. Я на правильном пути, а работать я любил, писать мог в любых условиях, научился отключаться, не слышать и не видеть, что происходит вокруг. Первую книгу написал в читальном зале, вторую — в Сибири в холодной комнате общежития, сидя на кровати в валенках, в телогрейке и в ватных брюках, зажав между ног тумбочку: стола не было.
Однажды я писал на тумбочке, а рядом со мной ребята, с которыми я жил в комнате, попьянствовав, затеяли избивать своего приятеля. Они не мешали мне писать, а я не мешал им учить приятеля быть справедливым. Они меня уважали. Кстати, я был рабочим во многих местах, все знали, что я пишу, скрыть трудно, и относились к этому моему занятию спокойно, никогда не пытались вышучивать меня, иронизировать. Третью книгу я написал, лежа в кровати на животе, подложив для удобства под грудь подушку. Жили мы с женой в крошечной комнатушке. Стол поставить негде. Помнится, однажды я писал лежа, а маленькая моя жена забралась мне на спину, свернулась клубком: слышу — уснула. Я писал, а она спала, согревая меня своим теплом, как котенок.
А кинодраматурга из меня не получилось, хотя во ВГИКовском моем дипломе написано, что по специальности я кинодраматург. Я писал киносценарии и заявки, носил их в киностудии, но всюду отказ, отказ, отказ. И вдруг — взяли. Я написал заявку на сценарий спортивного фильма «Я — гонщик». Ею заинтересовался «Мосфильм». Нашелся режиссер с известной фамилией, Вышинский. Пригласили меня на встречу с ним. Шел с трепетом.
О том, как ведут себя режиссеры со сценаристами, ходили по ВГИКу разные истории. Рассказывали, как одна выпускница ВГИКа во время работы с режиссером, после каждой встречи с ним — одиннадцать раз! — ложилась в больницу с нервным истощением. Мой режиссер тоже оказался жестким, уверенным в себе. Один фильм его получил Серебряного Льва на Международном кинофестивале в Венеции. Мы договорились писать сценарий вместе. Я пишу, он исправляет. Работаем пока по одному. Сделали первый вариант, представили на «Мосфильм». С нами заключили договор, выплатили аванс. Обсудили сценарий на худсовете, сделали замечания и вернули нам на доработку. Все шло по плану.
Дорабатывать решили вместе в Доме ветеранов кино в Матвеевском. «Как мы будем работать? — волновался я, вспоминая ту сценаристку, которая многократно ложилась в больницу. — Не придется ли и мне вызывать скорую!».
Я не ошибся.
В конце первого дня работы над сценарием, вечером, мне пришлось вызвать скорую помощь: у режиссера случился сердечный приступ. Дорабатывал сценарий я один. Доработал, представил на «Мосфильм» в срок. Там его приняли, выплатили деньги, поставили в план выпуска фильма и запустили в производство. К тому времени режиссер оклемался. Нужно было писать режиссерский сценарий. Мы договорились писать его вместе там же в Матвеевском.
На этот раз у режиссера случился инфаркт, а режиссерский сценарий писать я не умел. Там своя специфика: метры, кадры, секунды. Пока режиссер выздоравливал, фильм выбился из графика, и вылетел из плана. А вскоре режиссер умер. Так фильм и не появился на экране. После этого я еще раза два толкнулся в дверь киностудии и уступил дорогу другим. Не мое.
Мне сорок три года. Самый плодотворный возраст для прозаика. Кое-что я уже написал. Три тома перед вами. Я не подвожу сейчас даже предварительных итогов — ведь заложен всего лишь фундамент. Дом пока только в моем воображении: никто не видит, никто не знает, каким он будет. Не знаю этого и я. До воплощения его путь неблизкий. Сколько изменений, сколько уточнений произойдет за годы строительства! А сколько работы! И радостной, и мучительной...
Или так: корабль построен, спущен на воду, корабль у причала. Пора в путь! Какая будет дорога, какие приключения ожидают меня в пути, покажет жизнь. Я надеюсь, что со мной всегда будет мой Ангел и Бог! В путь! В путь!
Москва. Сентябрь 1992 г.
Это послесловие к моему первому собранию сочинений было опубликовано, как видите, тридцать лет назад. За эти годы мною написано много разных произведений: романов, повестей, рассказов, пьес, статей, сценариев кинофильмов и телесериалов, написаны и защищены две диссертации по истории: кандидатская и докторская, опубликовано несколько исторических книг, два года назад я избран академиком РАЕН.
Книги мои переводились на все основные языки мира, даже на китайский. О моих произведениях критиками написаны и изданы четыре книги и множество статей. Четыре года назад я составлял очередное свое собрание сочинений для издательства «Ридеро» и сам удивился, что написано мною 24 тома, включая исторические произведения и киносценарии.
В книгу «Дневник писателя. Как я рубил окно в литературу» включены мои повседневные размышления о себе, о своей жизни, о литературном труде, о встречах с писателями и некоторые отклики читателей на мои произведения и высказывания за семь лет.
2015
3 апреля 2015 г.
Как я был советским безработным
Поэта Иосифа Бродского в СССР посадили за тунеядство, а я с двумя высшими образованиями больше года не мог найти себе работу. Даже в ЦК КПСС обращался, чтоб меня трудоустроили, но меня там послали… Было это так.
В Москву я приехал из Сибири, где строил железную дорогу «Сургут—Уренгой», и устроился в РСУ Главного архитектурного планировочного управления паркетчиком 5-го разряда. В то время я заочно учился на третьем курсе сценарного факультета ВГИКА, имея за плечами Тамбовский пединститут.
Помнится, в первый день работы меня поставили класть паркет в комнате здания ГлавАПУ на площади Маяковского. Паркет на гвоздях. Я принялся за работу, клепаю паркетину за паркетиной в одиночку. Часа через два ко мне в комнату стали заглядывать рабочие и с удивлением рассматривать меня. Это были мои собригадники, паркетчики. Потом, когда мы подружились, они со смехом рассказали мне, что тогда к ним в бытовку пришел прораб и сказал обо мне:
— Там какого-то хрена с Управления прислали. Он за два часа полкомнаты паркетом застелил.
Вот они и приходили посмотреть на этого чудака. Работали в РСУ ни шатко, ни валко. А я-то вернулся из Сибири, где кувалдой в шпалы костыли загонял, а тут какой-то молоточек с гвоздиками.
Проработал я в РСУ два года, закончил ВГИК, а через полгода РСУ какая-то комиссия проверяла и обнаружила, что у них — паркетчик с двумя высшими образованиями. Меня вызвали в Управление и попросили уволиться.
Я стал искать работу. По специальности с улицы не берут, рабочим — мне тоже дорога закрыта. Я туда, я сюда, пометался по разным организациям полгода: нету мне места в этой жизни. Таня в те дни работала в ПЖРО, получала 80 рублей, а за комнатку надо платить 40. Остается 40 рублей в месяц на жизнь на двоих в Москве.
Шел 1981-й год. Я тогда был членом КПСС. В 21 год на заводе вступил. Таня мне и говорит:
— Обратись в ЦК КПСС, в приемную! У тебя две книги изданы, два высших образования, может, они своего члена трудоустроят куда-нибудь!
Я готов был работать кем угодно, хоть младшим редактором, хоть подсобным рабочим на киностудии или телеканале. Пришел в приемную ЦК КПСС. Меня приняли, выслушали и послали в Московский горком партии, мол, это их компетенция.
Как вспомню я сейчас свой визит в приемную МГК, так во мне до сих пор все закипает. Как мне хотелось потом встретить эту… простите, не буду ругаться, нехорошую женщину из приемной МГК, которая облила меня грязью с ног до головы. Выслушав, зашипела: понаехали тут, всем Москву подавай!
Вышел я из МГК несолоно хлебавши, раздавленный, униженный, что делать: не знаю!
Вагоны на вокзалах разгружал, чтоб хоть три рубля заработать. Так еще полгода пролетело… Ангел мой весь этот год, видимо, с доброй усмешкой наблюдал, как я кручусь. Знал, что ждет меня впереди.
Получаю я вдруг письмо из издательства «Молодая гвардия». Главный редактор приглашает зайти к нему.
Дело в том, что я, между делом, третью книгу написал. Несмотря на то, что я всегда был активный внешне, в душе я очень застенчивый. Страшно стеснялся по редакциям ходить. Я до сих пор не знаю, как выглядит издательство «Молодь», где вышла моя первая книга. Все дела вел по почте. Написал я третью книгу, приготовил рукопись и, стесняясь идти в издательство, отправил ее из почтового отделения, которое было рядом с «Молодой гвардией».
Рукопись отдали на рецензию Сергею Чупринину, теперешнему главному редактору журнала «Знамя». Тогда он был уже известный требовательный критик. Передали ему рукопись неизвестного автора из самотека для того, чтобы он дал отлуп, как потом мне сказал редактор рукописи Игорь Соболев. Но Чупринин неожиданно для редакции написал отличную рецензию. Ему не поверили и отдали рукопись на отзыв другому суровому критику Игорю Виноградову: Царствие ему небесное, умер он недавно, будучи главным редактором журнала «Континент». Но что такое: и он принес хорошую рецензию.
Оба отзыва у меня сохранились, могу опубликовать, но боюсь, что мой фейсбучный друг Сергей Чупринин рассердится, ведь рецензии внутренние, не для публикации.
Главный редактор издательства Николай Машовец, прочитав обе рецензии суровых критиков, решил лично познакомиться с этим неизвестным Петром Алешкиным. Я в то время посещал литстудию «Зеленая лампа» при журнале «Юность», даже старостой был в семинаре Андрея Битова — Владимира Гусева, дружил со многими студийцами. Рассказал в ЦДЛе своим друзьям Валерию Козлову и Сергею Маркову, что меня зовет к себе главный редактор издательства и что я хочу предложить ему заявку на книгу очерков о строителях Уренгоя и попросить его послать нас троих на месяц в командировку от издательства для сбора материала. Они согласились.
Я тогда еще не знал, зачем меня позвал главный редактор, не знал о судьбе своей рукописи прозы.
Я накатал на полторы странички заявку на книгу публицистики и приехал в издательство.
Помнится, я ожидал увидеть в редакторском кресле солидного человека, ведь «Молодая гвардия» — одно из крупнейших издательств СССР, но в огромном кабинете встретил меня совсем молодой человек Николай Петрович Машовец. Познакомились. Он сказал, что рукопись моей книги принята к публикации, отдал мне рецензии Чупринина и Виноградова.
Я ему тут же сунул заявку на книгу очерков. Он прочитал и пригласил в кабинет зав. редакцией коммунистического воспитания подростков Лидию Афанасьевну Антипину. Сказал ей, что есть интересная заявка для ее редакции, надо поддержать молодых ребят.
Антипина стала расспрашивать меня, кто я такой. Узнала, что у меня уже две книги и два гуманитарных образования и что я ищу работу, спросила у Машовца:
— Может, ко мне попробуем?
— Дай рукопись, — согласился Машовец.
Ангел мой решил направить мою судьбу по иному пути. Оказывается, у Антипиной освободилось место редактора. Галина Кострова, жена поэта Владимира Кострова, перешла из ее отдела в редакцию прозы. Я не знал, что на это место уже есть пять претендентов, и один из них сын моего мастера по ВГИКу.
Антипина дала мне в своем кабинете рукопись кировского писателя Владимира Ситникова и попросила написать на нее редакционное заключение. Я на другой же день набросал текст и принес Антипиной. Она почему-то с удивлением прочитала мое редзаключение, позвала Галину Кострову и спросила:
— Вы знакомы?
Мы видели друг друга в первый раз. Как потом мне сказали, я отметил те же достоинства и недостатки рукописи Ситникова, что были в рецензии Костровой. Антипина, видимо, не поверила, дала мне отрецензировать другую рукопись. И снова я попал в точку. Меня взяли редактором с испытательным сроком на два месяца.
Влился я в коллектив редакции мгновенно. Через два месяца Машовец позвал меня к себе и сказал:
— Выбирай, или книга в издательстве, или работа! И то, и другое — нельзя!
Я без колебаний ответил:
— Работа!
Так провалился наш проект с книгой очерков о строителях Уренгоя, и книга моей прозы, хорошо принятая двумя суровыми критиками, не увидела свет в «Молодой гвардии».
Через несколько лет мы с Сергеем Чуприниным выпивали в кабинете главного редактора журнала «Октябрь» Анатолия Ананьева, и я спросил у Сергея Ивановича, помнит ли он, что писал хорошую рецензию на мою рукопись. Конечно, он не помнил, через его руки тогда проходили сотни рукописей.
Николай Машовец повел меня знакомиться к директору издательства Владимиру Ильичу Десятерику, замечательнейшему и добрейшему человеку. Тот объявил, что меня зачислили в штат редакции, и с веселой улыбкой шутливо пожелал мне стать директором издательства. Через два с половиной года я возглавил редакцию художественной литературы для подростков, минуя должность старшего редактора, а еще через пять лет московские писатели избрали меня директором издательства «Столица».
Я никогда не мечтал быть издателем. Главным редактором журнала видел себя в мечтах, но директором издательства — никогда. Но вот уже двадцать шестой год директорствую!
Евгений Туинов
Петр, помню тебя заведующим редакцией художественной литературы для подростков издательства «Молодая гвардия». Там и познакомились... Там после публикации в «Звезде» впервые вышел мой роман «Человек бегущий»...
Виктор Пеленягрэ
А ведь мы могли встретиться еще в ГЛАВАПУ — я там электриком подрабатывал в студенчестве. Классная контора! Полчаса в день — смена. Сто рублей — за труды. Еще чуть-чуть и стал бы Чубайсом!
Галина Левина
Стремительный поток действия в Вашей жизни, отраженный в Вашем творчестве, выводит из состояния инертности, оживляет. К тому же поток этот позитивен, патриотичен и эстетичен. После чтения Ваших произведений жизнь ощущается ярче и полнокровнее. Спасибо!
5 апреля 2015 г.
Как я оказался в Сибири
Я писал уже, что жену свою, с которой мы живем почти сорок лет, я качал в люльке, когда она была младенцем, а влюбился в нее в 17 лет, ей тогда было 13. В армии я служил в городе Ровно на Украине, когда она училась в школе.
И вот 1978-й год. Я студент-заочник ВГИКа, работаю на Украине плотником-паркетчиком на Домостроительном комбинате. Однажды на сессии во ВГИКе узнаю, что Таня перебралась в Москву по лимиту, работает на заводе. Я тут же помчался в справочную, узнал адрес, прилетел к ней в женское общежитие. И закрутилось! Любовь, страсть!
Я тут же привел ее в загс, быстренько расписались… а надо было бы повременить. Уволиться с работы, устроиться в Москве по лимиту на стройку, где было общежитие, а потом уж бежать в загс. Разве все предусмотришь, когда голова в любовном угаре? Столько лет я добивался любви Тани! Вдруг передумает, пока увольняться буду? Страсть владела мной. Я всегда был романтиком.
Уволился я с работы, и чтоб в Москве ласковей приняли, решил взять комсомольскую путевку на Олимпийскую стройку. Столица тогда была в лесах, готовилась к Олимпиаде.
Я был комсоргом в областной литературной студии, меня знали в обкоме комсомола. Зав. отделом Дейнека выписал мне комсомольскую путевку. По иронии судьбы, когда я стану в Москве директором издательства «Столица», Дейнека будет моим заместителем, а тогда в 78-м, он казался мне, плотнику, очень большим начальником.
И вот я в Москве, захожу в отдел кадров Олимпийской стройки. Кладу на стол кадровику пачку своих документов, сверху трудовая книжка, чтоб кадровик увидел мои рабочие специальности и с радостью принял на работу, но он вытянул снизу мой военный билет, открыл первую страницу, прочитал, что я окончил Тамбовский пединститут и женат, вернул мне документы со словами:
— Женатых и с высшим образованием по лимиту в Москву брать запрещено! До свидания!
Влип! Что делать! Куда ни сунусь, не берут даже дворником. Закон запрещает.
У меня уже вышла первая книга, и я был членом КПСС. Решил обратиться в партком Московской писательской организации. Вдруг поможет, или что-нибудь посоветует партийный секретарь? Тот выслушал меня (фамилию его я не запомнил), полистал книгу и развел руками. Мол, если бы ты был членом Союза писателей, тогда что-нибудь придумали бы. А так… до свидания!
Думаю, что ангел мой здорово повеселился, глядя на мои переживания, ведь он знал, что не пройдет и десяти лет, как я стану заместителем секретаря этого парткома Московской писательской организации.
А я мучился: куда податься бедному плотнику? И подался я в ЦК ВЛКСМ. Узнал, что там есть отдел по работе с молодыми писателями, и явился к инструктору Михаилу Кизилову. Теперь он уже много лет главный редактор журнала «Смена». Видимся изредка.
Кизилов встретил незнакомого ему человека чрезвычайно приветливо, с готовностью взялся мне помочь. Побежал с моими документами к своему начальству. Вернулся грустным, расстроенным: не могут они мне помочь!
Ангел мой, конечно, знал, что через несколько лет я буду номенклатурным работником этого ЦК ВЛКСМ, но я-то не догадывался об этом, и душа разрывалась от горечи!
Долго мы с Таней бились, крутились, но ничего не могли сделать. Не нужны Москве женатики и лица с высшим образованием. Своих полно!
У Тани тогда была временная прописка в Москве, работала по лимиту на заводе. Как нам быть? Хоть назад в Масловку возвращайся. А в те дни в нашей деревне даже начальную школу закрыли. Где там работать?
И придумали!
Приехал я снова в ЦК ВЛКСМ к Михаилу Кизилову и попросил у него комсомольскую путевку на стройку. Он выложил передо мной список строек: выбирай хоть на юг, хоть на север! Выбрал я строительство железной дороги «Сургут — Уренгой». В тайге я еще не был, и железную дорогу не строил.
Так я стал монтером пути в поселке Ульт-Ягун между Сургутом и Когалымом. Дипломный сценарий во ВГИКе я защитил об этой стройке. Позже появился и хорошо был встречен критиками роман «Трясина Ульт-Ягуна».
Виктор Широков
Несгибаемый ты человек, Петр! В советское время стал бы во главе СП СССР.
Иса Капаев
Петр Федорович, какие удивительные воспоминания! Но поразительно то, что в Вашей писательской судьбе участвовали знакомые мне люди. И Машовец, и Кизилов в свое время помогли мне.
Супруга Машовца Татьяна редактировала мою книгу «Гармонистка» в издательстве «Современник». Михаил Кизилов даже жил в Черкесске.
Галина Левина
Роман замечательный, как и все произведения Петра Федоровича. Я в феврале начала читать одну из его книг и погрузилась в читательский запой. Прочитала все, что было в нашей сельской библиотеке — 5 томов. А роман «Богородица« читаем в Интернете с учениками. Очень много мыслей и чувств и у меня, и у детей. Бесконечно благодарны автору, ждем в гости.
Вера Сучкова
Да, мы начали проходить с учениками (студенты) произведения Петра Федоровича вчера! По их просьбе!
Будем писать сочинения!
Ура! Так интересно самой, аж дух захватывает!
А одна студентка говорит: «Вера Александровна, у меня память плохая, в школе лентяйничала. Все физкультурой увлекалась. Вы мне давайте наизусть Петра Федоровича отрывки из «Анохина». Там где про любовь покрепче, чтоб пробирало. Я выучу. Точно выучу. Даже длинные. Не жалейте меня. Давайте такие отрывки...».
8 апреля 2015 г.
Как я оказался в Москве
Молодая жена моя Таня, проработав четыре года на заводе в Москве по временной прописке, получила, наконец, постоянную в женском общежитии и, чтобы вызволить меня из Сибири, уволилась с завода и поступила инженером в ПЖРО, где сотрудникам давали служебные комнаты.
Я приехал в Москву. Мы сняли комнатку за 40 рублей, а зарплата у Тани была 80. Комната была так мала, что в ней помещались только софа, на которой мы спали, и тумбочка. Писал я, лежа на животе на кровати. Как я уже рассказывал однажды, маленькая жена моя один раз расположилась на моей спине, когда я писал, и заснула. Я писал, а она спала.
Я думаю, вы понимаете, какие лирические строки выплескивались у меня в тот миг на бумагу. Так я написал свою третью книгу, рукопись которой послал по почте в издательство «Молодая гвардия». О ее судьбе я уже рассказал.
Служебную комнату Тане обещали в течение года, если она будет хорошо работать. Сорок рублей, которые оставались на жизнь, на месяц, в Москве не хватало на двоих. Как я ни бился, как ни обивал пороги строек и различных контор, на работу меня без прописки не брали! Подрабатывал то там, то сям, но это копейки. Средств на жизнь катастрофически не хватало. Это отравляло жизнь, душа томилась, мучилась, что я не могу найти выход.
И однажды в грусти я ляпнул в разговоре с Таней, мол, так тяжко, хоть в петлю лезь. Она приняла мои слова всерьез, всю ночь не спала, и видимо, мой ангел шепнул ей, что делать. Утром она взяла оба наших советских паспорта и открыла их на середине, где фиксировались скобки. Сейчас паспорта прошиты, а советские были на скобках. Печать московской прописки в Танином паспорте была сверху на отдельном листе в середине паспорта. Таня осторожно разогнула скобки, вытащила две странички из своего паспорта и вставила в мой паспорт. Номера паспортов, которые были напечатаны на каждой странице, естественно, не совпадали, но в остальном было чисто и незаметно, что страничка вставлена из другого паспорта. По печати нельзя было догадаться, что прописка в женском общежитии.
Но в военном билете не было печати постановки на учет в Москве. И внимательный человек мог легко распознать подлог.
Я нашел объявление, что в РСУ ГлавАПУ требуется паркетчик и отправился на прием к начальнику РСУ. Он взял мои документы, в том числе и партийный билет. Открыл паспорт. Пока он рассматривал мою прописку, я в напряжении ждал, думая, если вдруг он заметит, что прописка из другого паспорта, выхватить у него из рук документы и бежать. Но он закрыл паспорт, стал изучать трудовую. В ней было записано, что я — плотник-паркетчик четвертого разряда. Он оставил у себя трудовую книжку, остальные документы протянул мне, говоря:
— Судя по лицу, вы не пьющий…
Я согласно и облегченно кивнул.
— Зачисляем вас паркетчиком пятого разряда. С завтрашнего дня можете приступать к работе.
Ангел мой улыбнулся мне.
Так я после долгих поисков работы стал паркетчиком в РСУ ГлавАПУ, имея высшее образование и заканчивая второй вуз. Мы с Таней были счастливы! То, что на работу мне надо было ехать почти два часа и обратно два часа, нас не смущало. Мелочи жизни! Почему-то хватало времени и книги читать, и писать свои, и учиться, и на Таню хватало, и на развлечения с друзьями тоже.
А сейчас почему-то не хватает времени ни на что.
Эти первые годы в Москве я описал в своем самом большом романе «Заросли». Когда он вышел в издательстве «Советский писатель» еще в советское время, мне пришлось добывать пачку своих книг через директора книжного магазина.
Тридцать тысяч экземпляров улетели за один день. Продавали из-под прилавка. Я смог уговорить директора магазина продать мне пачку только потому, что был автором этого романа.
Александр Ксенофонтов
Моя покойная бабушка говорила: «Бесталанный ты, внучок», и я особо-то и не рвался никуда, остался в своем колхозе и не жалею, среди простых и добрых колхозников, среди природы… От денег одни проблемы, известность всегда приносит несчастье, видимо, за нее платить надо. Вот так среди коровушек пахнущих молоком и трудолюбивых лошадок и прошла моя жизнь.
Петр Алешкин
Прекрасный Вы человек, Александр! Хотелось бы познакомиться лично, написать о таком, как Вы. Вы — настоящий герой в этой жизни, а мы просто зеркало, и довольно часто кривое, мутное.
Alex Vanzetti
Александр, написавший эти строки человек, напротив, жив и живет. Вы живы, и признаюсь честно, прочитав ваш коммент, по-настоящему обрадовался тому, что есть такие люди, и они тут, рядом, без поз и выделываний тихо делают свое дело и называются не иначе, как... Соль Земли! Спасибо Вам...
10 апреля 2015 г.
Обалдеть!
Мне для работы понадобилась цитата критика о моих произведениях. Я заглянул в книгу Ирины Шевелевой «Душа нежна. О прозе Петра Алешкина», вышедшую 13 лет назад в издательстве ЮНЕСКО «Магистр-Пресс». Помнится, когда мне подарили книгу, я был сильно занят, было не до нее, быстренько пролистал и забыл. А сейчас открыл и обалдел, прочитав вот это:
«Произведения Петра Алешкина нельзя отнести ни к одному из современных литературных направлений. Ни к деревенской прозе, с устойчивыми языковыми ориентациями и социальными задачами, ни к социально-бытовой, с очерченным кругом вопросов, ни к лиро-эпической, с реализмом без берегов. Дело не только в полном отсутствии подражания, следования определенному стилю, жестким жанровым условностям.
Писатель — рассказчик и кто-то еще, автор эпики — и опять еще некто. Его произведения существуют вне определений, классификаций. И это таинственно настораживает, если вспомнить, что именно так определялись, то есть не определялись при их появлении творения почти всех наших великих писателей. Слишком глубоки корни отечественной традиции, они не вмещаются в рамки любой школы.
Если окинуть взглядом русскую литературу ХХ века, всюду обнаружишь недремлющее око «внутреннего редактора». Неизбежные инстинктивные умолчания, как лакуны, зияют в произведениях. И только там, где душа писателя была свободна, захвачена истинным вдохновением, где не было никаких внутренних споров, сомнений, где текла сама жизнь в созвучии с душой, оживала великая русская литература. Петр Алешкин словно бы с молоком впитал это главное в русской литературе. Для него словно и самого наличия «внутренних споров» и «внутренних редакторов» не бывало. Будто бы и не давила на этого автора подминающая вся и все литературная «вышколенность» века, перенесенная и через рубеж тысячелетия — неважно авангардистского ли толка, среднелитературной псевдонормы или вобравшая технику и приемы мировой литературы. В своих произведениях он полностью раскрепощен, свободен...
Достоинство писателя в том, что он обнародовал великую тайну русской души. Ради любви совершает деяния русский человек. Проза Петра Алешкина — исследование и того, сумел ли русский человек, житель городской и деревенской России, сберечь любовь или сдался, погубил, предал. У Алешкина — ни разу не предал.
Вдохновленная любовью русская душа, неистраченной любовью, когда-нибудь сможет объять нежностью всю Россию с ее истинной, красно украшенной беспредельностью. Главное, что жива любовь и что ею движется русская словесность.
Верность в любви — потаенная традиция русской литературы. Но какая, оказывается, живучая. В романе «Откровение Егора Анохина» она проходит через столетие».
Просто не верится, что это о моих вещах написано. Надо внимательно прочитать книгу Ирины Шевелевой… Но в ней 160 страниц. Ох, дела, дела!
Вера Сучкова
Я верю, что ничего в жизни не бывает случайно. Возможно, Вы нашли время прочитать это именно в тот момент жизни, когда это наиболее необходимо. Это потрясающе красивый и искренний отзыв. Я в восхищении. Говорит лишь о том, что все эти годы Вы были на правильном пути. А как это замечательно; по-моему, это самое прекрасное в жизни: чувствовать, что любовь, которую Вы отдали людям — так искренне и так объемно, так красиво и тепло, — всецело возвращается к Вам.
Примите очередные поздравления! Спасибо, что поделились с нами!
Название у книги какое красивое! Действительно, захотелось прочесть.
Вера Арнгольд
МДА. Это не критика! Это признание в любви!
Ольга Жукова
Очень глубокий анализ. Ирина талантлива была.
Ефим Ярошевский
Поразительная статья! Стоит, действительно, прочитать книгу Ирины Шевелевой «Душа нежна. О прозе Петра Алешкина»!