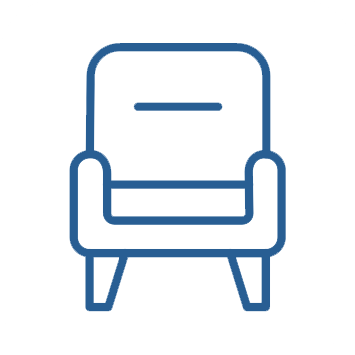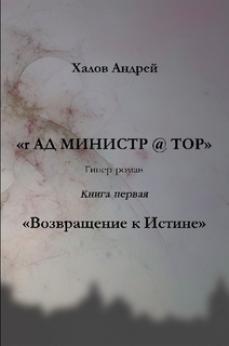Памяти моей
сестрёнки Светланы
безвременно ушедшей
01.11.2016 г. посвящается….

… Судьба не приносит
нам ни зла, ни добра, она поставляет лишь сырую материю того и другого и
способное оплодотворить эту материю семя….
Мишель Эйкем де Монтень, «Опыты»
Первое время, лет до двадцати, я прожил, не имея никаких иных средств,
кроме случайных, без определенного положения и дохода, завися от чужой воли и
помощи. Я тратил деньги беззаботно и весело, тем более что количество их
определяла прихоть судьбы. И все же никогда я не чувствовал себя лучше….
Мишель Эйкем де Монтень, «Опыты»
…Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно, но лишь
только мы оказываемся вне бытия, мы не поддерживаем больше общения с тем, что
существует. И потому Солон был бы более прав, если б сказал, что человек
никогда не бывает счастливым, раз он может быть счастлив лишь после того, как
перестал существовать….
Мишель Эйкем де Монтень, «Опыты»
Глава 1
Оставалось совсем немного времени до
того дня, когда нас должны были выпустить из училища. Каждый как мог готовился
к этому событию, заботясь о своём будущем благополучии. Никогда раньше я не
замечал такой озабоченности у своих товарищей по учёбе, как сейчас. Бывало, что
мы вместе валяли дурака, творили шалости, совершенно не заботясь о завтрашнем
дне, и были, казалось бы, все одинаковы. Правда, и тогда существовало кое-какое
различие в строгости наказания для одних и несправедливости по отношению к
другим, но всё это казалось случайным совпадением обстоятельств, и механизм
действия был скрыт под пеленой наслаивающихся друг на друга событий.
Но вот настали теперь другие
времена. Чем ближе мы подходили к выпуску из училища, тем отчётливее
вырисовывалась картина нашего различия по своему положению, понятий «кто есть
кто». Постепенно на первый план стали выдвигаться разговоры о протеже и о
«волосатых» лапах у того-то и того-то, ведущиеся полушёпотом. Сильные мира сего
помогали своим чадам, племянникам, детям друзей, невидимо и незаметно, где-то
там, наверху, в высоких кабинетах, устроиться получше, получить выгодное и
приличное распределение, поехать в хорошее место, где не слишком ощущались бы
те тяготы и лишения воинской службы, которые нам предписывалось стойко
преодолевать в уставах Вооружённых Сил. «Волосатики» ходили, если и не задрав
носы, то не беспокоясь, во всяком случае, за своё будущее: за них беспокоились
другие. На фоне этой «волосатой» элиты незавидно было положение «безрукого»
большинства, строить розовые планы на будущее которому, увы, было пустым
занятием, и для которого лучшее в жизни было не там, в светлом завтра, а
сегодня, или чаще всего, уже вчера. Все это понимали. Это было немного грустно,
но всё-таки в особом унынии никто не пребывал, и кто как мог пытался изменить
свою судьбу к лучшему, пробуя для этого различные способы.
Незадолго до
главного события последних четырёх лет жизни нашей батареи один пронырливый
шустряк умудрился достать списки, утянув их из учебного отдела. В них были наши
направления после окончания училища. И тогда действительно подтвердилось, что
лучшие места достались «блатным», тем, о ком заранее побеспокоились наверху.
Среди этих «счастливчиков» можно было увидеть фамилию двоечника и последнего
лентяя, у которого по настойчивым слухам были связи в Генштабе или кругах
близких к нему. Неплохое распределение получили или, во всяком случае, должны
были получить дети городской элиты, «местной мафии», так сказать: сыновья
директора пивзавода и заведующего центральным домом быта, второго секретаря обкома
и другие. Редким гостем среди них затерялись фамилии наших курсовых отличников,
многие из которых своим личным усердием, кропотливым трудом, зубрёжкой
бессонными ночами постоянным каторжным
напряжением своих сил все четыре года зарабатывали себе красный диплом и
«хорошее» место. Последние на протяжении всей учёбы в училище вели себя
лояльно, не нарушали дисциплину, не впутывались ни в какие конфликты между
курсантами и командирами и, в случае возникновения подобных эксцессов, почти
всегда становились на сторону командования, первыми, вместе с «шестёрками», о
которых я ещё скажу, внося смуту и разлад в ряды сокурсников.
«Шестёрок» же, общеизвестных и
тайных угодников, каких у нас хватало с избытком, тех, что с самого начала, с
момента поступления в училище, не имея ни мозгов, ни протеже, сделали ставку на
пресмыкание и низкое лизоблюдство, также ждали неплохие направления, пробитые
для них батарейным и курсовым – кто перед кем лебезил – звеном управления.
Я же, как и большинство из
сокурсников, был из простых, что называется «из народа». Не было у меня ни
особого усердия к учёбе, не из-за лени и слабоумия, а от того что было
неинтересно. Может возникнуть законный вопрос: «Почему я поступил в военное
училище?» Резонно было бы меня спросить об этом. Но я воздержусь от ответа на
него, потому что слишком много придётся тогда рассказывать, чего делать мне не
хочется. Как-нибудь в другой раз. Скажу только, что не все поступают в такие
заведения от хорошей жизни.
Таким образом, могу сказать лишь,
что не был я ни блатным, ни незаурядным трудягой-отличником. Не был я и
подлизой. И поэтому не ожидал от предстоящего распределения ничего хорошего,
может быть потому, что я и сам чувствовал, что не заслуживаю этого.
По рассказам тех,
кому довелось служить в забытых богом местах, а бывшие курсанты иногда
заглядывали в училище, жизнь там едва-едва теплилась, текла медленно и
мучительно тоскливо, как болотная вода, тухла в угаре беспробудного пьянства и
дикого разврата. Отсутствие даже зачатков культуры, удалённость и замкнутость
убогого мирка военных городков помогали заживо гнить в серости, однообразии и
заскорузлой повседневности и душе, и телу. Правда, находились некоторые
весельчаки, которым такая жизнь нравилась, и они рассказывали о ней с
удовольствием.
Помнится, один
такой старший лейтенант как-то зашёл поаукаться со своим курсантским прошлым,
поздороваться с командирами, кто ещё остался в училище. Разговорившись с нами,
рассказывал он о некой Безречке где-то в далёком и тоскливом Забайкалье и
поведал нам байку о своём командире полка.
Судя по рассказу,
в части у них царило страшнейшее разгильдяйство, в казармах не хватало стёкол
на окнах, и рамы затягивали полиэтиленовой плёнкой. Котельная давно сломалась и
не давала тепла уже несколько лет.
Зимой солдаты
спали в повал в каптёрках, сушилках, Ленинской комнате, словом, в местах, где
не было окон, а небольшой объём помещения помогал согреть воздух дыханием.
Семьи офицеров
жили, как могли, топили свои бараки буржуйками – печальным изобретением
разрухи. В общем, люди там не жили, а выживали.
Но зато офицеры на
службе били баклуши, играли, в основном в «преф», а командир полка,
прослуживший там, в этой самой Безречке, безвылазно лет эдак пятнадцать к ряду,
каждый год в августе месяце начинал утренние разводы полка словами: «Мне вчера
звонил Перест Дэ Куэллер. Он сказал, что в Забайкалье будет зима!» После этого
он делал многозначительную паузу и обводил строй строгим и красноречивым
взглядом, означавшим, что «писец подкрался незаметно».
Но рассказчику
нашему это всё почему-то нравилось, и он рассказывал о Безречке с каким-то
ностальгическим сожалением, словно только и мечтал поскорее туда вернуться. А
потому речь свою он закончил примерно такими словами: «Не пугайтесь, ребята, в
такой службе есть свои прелести. Впрочем, есть места и похуже. У нас хоть вода
не привозная, да и природа хоть кой-какая имеется. А то ведь есть местечки, что
вообще живут люди: степь или песок вокруг».
Другой же как-то
раз убеждал нас, как весело и романтично жить в заполярной тундре, видеть
солнце несколько месяцев в году, зато круглый день, и ездить на охоту на оленей
с автоматом и мешком патронов. Холостяки в этот самом Заполярье доходят до
такой дури, что топят печки в своих комнатах сливочным маслом, которое им
выдают на продпаёк.
Слушая подобные «рассказки», я с
тоской думал, что наверняка угожу в одно из таких захолустных мест и буду
потихонечку сходить с ума, научусь, как компот, пить водку, и закончу свою
службу в лучшем случае каким-нибудь пропойцей-капитанишкой, а то и вовсе не
дотяну до пенсии.
Подобные рассуждения нередко
наводили на мысль о моей никчёмности, но я старался гнать их от себя и спасался
от гнетущего будущего в сегодняшнем дне.
Большинству ещё предстояло узнать,
что они не имеют ни единого шанса на успех, потому что всё уже давно куплено и
продано, и они, без протеже, последние на этом пиру жизни. Как-то на занятиях
преподаватель-подполковник сказал нам между делом, что для сына крестьянина в
армии потолок – стать подполковником, и он этого уже добился. Тогда на его
слова мало кто обратил внимание, а зря. В словах его была какая-то неуловимая,
но печальная мудрость жизни.
Я был не самым дерзким нарушителем
дисциплины и порядка, но так уж получалось, что попадался регулярно с мелкими
нарушениями, что было столь же наказуемо. Иные были гораздо дерзче в своих
поступках, но почти никогда не попадались. Я же всегда попадался на всякой
обидной ерунде, на своём мальчишестве. Это злило командиров гораздо больше, чем
если бы я совершил какой-нибудь крупный проступок, но один. Только к концу
третьего курса я задумался над создавшимся положением вещей, и стал
«исправляться»: теперь я ни перед кем не хвастался своими похождениями, как
прежде, вёл себя тише воды, ниже травы. Результат не заставил себя долго ждать,
и к середине четвёртого курса создалось мнение, что Яковлев начал исправляться,
наконец-то, взялся за ум. Теперь я жалел лишь о том, что слишком поздно понял,
как нужно вести себя в жизни, во всяком случае, курсантской.
Зато в это же время поступки мои
приобрели дерзость во сто крат превышающую то, что делал я прежде. И именно
тогда у меня началась двойная жизнь, одна за пределами училища, о которой не
знал никто, а вторая - в его стенах, у всех на виду, в которой я вдруг стал
пай-мальчиком.
Ещё с первого курса я обратил на
себя внимание тем, что командир взвода никак не мог добиться от меня, чтобы я
носил поясной ремень, как положено. Он был у меня всегда «распущенным». С этого
вот и ещё с таких же мелких нарушений в форме одежды и началась моя глупая
война с командиром взвода, а затем и с командирами повыше. За четыре года у
меня поменялось два командира взвода и четыре командира батареи, но тяжёлое
клеймо разгильдяя передавалось от одного к другому по наследству до самого
конца.
Теперь же, когда близилось время
получать «расчёт», все оказались «хорошими», а я «плохим». Конечно, мне было
досадно. Не помогало справиться с обидой даже то, что я-то понимал, что во всём
виноват сам.
На третьем курсе, когда жить
по-прежнему действительно стало невмоготу, я вывел для себя несколько принципов
поведения, которые крайне необходимы, чтобы тебя оставили в покое.
Во-первых, быть честным лишь тогда,
когда это тебе не повредит. Это лицемерие, но я не встречал человека, который
будучи самым большим негодяем и вралём, не считал бы, тем не менее, себя
честным человеком. Успокаивая своё самолюбие и заглушая голос совести, он
придумывает нормы своей внутренней морали, соответствующие его взглядам на
жизнь. Но думаю, что и он не раз терзался, что ему приходится врать. Человек
может вести себя честнее, чем другие, но быть абсолютно честным всю жизнь не
удаётся, пожалуй, никому. Рано или поздно, в какой-то период жизни любой
смертный начинает кривить душой, он устаёт быть честным.
Что и говорить о том, что все люди
имеют свои слабости. Без этого не было бы самой жизни. Даже у самого сильного
духом человека воля не везде и не во всём крепка как сталь. Желание постоянно
противоборствует ей с переменным успехом. Герой отличается тем, что в
решительный момент может сконцентрировать усилие духа и подавить возникающее
желание. Но истребить желание полностью, как часть человеческой души,
невозможно и не удастся никому, не изуродовав, не искалечив своей сущности.
Желание – это такое же проявление духа, как и воля, поэтому человек не может
существовать без колеблющегося равновесия этих двух составляющих, враждующих
друг с другом, но невозможных друг без друга, ибо без желаний человек станет
биороботом, а без воли превратится в безмозглое животное, творящее только то, что
заблагорассудится его плоти. Они, запряжённые в одну телегу бренного
существования, подавляют и ограничивают друг друга, не допуская уродства. К
тому же, воля помогает разобраться в своих желаниях и чувствах, выбирая
какое-то одно из них. Кстати, по этому поводу лучше обратиться к Полу Брегу и
его «Чуду голодания», ну или почитать философов, всё равно каких.
Итак, первый принцип – быть
лицемером. Второй – никогда не перечить начальству, особенно, если остаёшься в
меньшинстве, а ещё хуже – в одиночестве. Нарушение этого принципа грозит
немалыми неприятностями. В лучшем случае, будешь обойдён благосклонностью
начальства даже в самых элементарных вопросах.
Третий мой принцип, а он вытекает,
как следствие, из второго, был - поменьше гонора. И, как говорят американцы:
«Всё будет о’кей».
В противном случае, в то время как
вокруг вас будут потихоньку втихомолку творить всё, что угодно, вы будете вести
изнурительную и напрасную войну за своё личное достоинство, в которой потеряете
много сил и вряд ли чего добьётесь. В конце концов, вы увидите, что все обошли
вас уже на десять голов.
Вот, пожалуй, и все принципы,
которыми я стал руководствоваться в жизни. И, судя по ним, стал ужасным и
подлым лицемером. Возможно, но я жал лишь о том, что стал им слишком поздно.
Впрочем, я, наверное, просто сломался, но, не желая в этом признаваться,
обманывал самого себя. Ведь быть прямым – это так тяжело и трудно, что не
каждому по плечу.
Хочу заметить, что учиться в училище
не составляло для меня особого труда. Способностей моих вполне хватало, чтобы
вести не утруждённую штурмами бастиона знаний и науки жизнь. Возможно, при
желании я мог бы удивлять всех своими успехами, но такого желания не возникало.
Во-первых, мне не хватало характера, чтобы отличаться от основной массы. За
этакое отличие я горько поплатился ещё во времена школьного детства, и теперь,
обжёгшись на молоке, дул на воду. «Массы» не любят, когда от них отрываются
простые смертные, они ненавидят их, и, пока те не успели уйти слишком далеко,
стараются их задавить. За моей же спиной не стояло никакого авторитета прошлых
поколений, с которого можно было бы, как с трамплина, пойти вверх. Не было в
моём роду ни учёных, ни писателей, ни певцов, ни музыкантов, ни даже
какого-нибудь партийно-комсомольского функционера хотя бы районного масштаба.
А, значит, был я простым смертным, и, как никогда не говориться, но всегда
подразумевается: в моих жилах текла простая холопская кровь. А с такой кровью
нельзя стать кем-то, не совершив изрядной подлости. Наш строй не терпит, если
такие, как я начинают незаслуженно вырываться из тесно сплочённых рядов, шеренг
одинаково неопасных, равноценно бездарных и приутюженных им людей, называемых в
официальных бумагах «советским народом».
Так устроено, что если кто-то
выпадает назад, то это считается нормально, ему помогают, с ним сюсюкаются,
берут его на поруки, если он ещё не совсем отбился от рук. Стройные шеренги
могут даже замедлить шаг, чтобы отстающие не потерялись и были «с коллективом».
Это равнение на последних, на средний показатель, для которого неудобны и
опасны выскочки, вырывающиеся вперёд, не имеющие сил, терпения и
«сознательности» идти вместе со всеми, тянуть за собой последних, перекладывая
на свои плечи бремя замедленного бега, эта уравниловка – бич всех, кто
талантлив, одарён, но не признан официально, цепи их жизни, ярмо, не дающее
взлететь. Поэтому я, хотя и знал, что могу учиться лучше, сознательно не делал
этого, не желая тянуть чью-то лямку, прикрывать чью-то бездарность и лень. Я
протестовал этим против эксплуатации способностей «интересами коллектива»,
«волей большинства». Приспосабливаясь под середину, я и сам примкнул к этому
«большинству». Позиция эта весьма удобна и всячески поощряема.
Правда, мне не удавалось совсем уж
не высовываться. Поэтому свою энергию я направил по пути более привычному для
курсантской среды, тайному и потому менее возбраняемому. Я стал искателем
приключений, вместо того, чтобы стать отличником и служить примером для
подражания. Как не удивительно было, что сын какой-нибудь «шишки» - отличник,
так не удивительно было и то, что я - разгильдяй и «самовольщик». И ему, и мне
это предначертано нашим происхождением. За ним каждое воскресенье приезжает
служебная машина, и он уезжает отдыхать, мне же выпадает частенько сидеть в
училище в выходные дни, лишь изредка попадая в увольнение, и потому для меня
обычным делом становятся самовольные уходы «за забор». И у таких, как я,
искусство это развивается до неуловимости. Конечно, перед этим приходится
набить немало горьких и обидных шишек. Но при таком поведении я был на своём
месте, предопределённом мне системой, я был в своей тарелке. Иначе я был бы
белой вороной, быть которой неприятно всегда.
Во-вторых, моя непоседливость, тоска
по «зазаборной» жизни толкали меня на «подвиги». Это отнимало у меня много
времени. Кроме того, за свои проступки я очень часто отбывал наказание:
внеочередной наряд. В то время как более усидчивые и осторожные жили без особых
забот.
Это всё и разлучало меня с учёбой,
со спокойной жизнью. Я как бы всегда догонял собственный хвост в то время,
когда другие шли вперёд. Это и завернуло меня на ту дорожку, по которой идут
все нарушители порядка. Чем же я отличался от них? Наверное, тем, что им было
наплевать, а у меня сохранились честолюбивые претензии к жизни. Я хотел, что
называется, выйти сухим из воды.
Всё это я рассказываю для того,
чтобы были понятны причины всех моих дальнейших зло- или приключений –
называйте, как вам будет угодно.
Хочу ещё добавить, что нерегулярные
и поверхностные занятия науками стали постепенно сказываться на моём характере
и успеваемости, и если на первом курсе мне без труда удавалось отвечать на
«хорошо» и «отлично», совершенно не готовясь к занятиям, используя лишь то, что
урывками осело в моей голове на лекции, то на третьем и четвёртом курсе я
ощущал значительную нехватку тех знаний, которые прежде требовали моего
пристального внимания к себе. Пирамида знаний оказалась подгрызена мышами. Я
попытался заниматься, но привычка не отягощать себя систематическими занятиями,
сделала своё дело. Мой характер растерял последние крохи усидчивости,
пропитался отвращением к занятиям и неутолимой жаждой к приключениям,
подкрепляемой опытом тайных, безнаказанных и неразоблачённых похождений и
одиночеством, от которого я всё время старался убежать. У меня не было
настоящих друзей, сослуживцы отвернулись от меня ещё в те времена, когда я
пытался доказать что-то себе и окружающим, прежде всего командирам. Впрочем,
кое-какой авторитет я себе заработал. Но это был авторитет неисправимого и
удачливого гуляки.
Глава 2
Как я уже сказал раньше, близилось
время выпуска, и вперемежку с привычными развлечениями и проказами, занимавшими
всё моё свободное время, настала пора задуматься о будущем. Мне, сказать по
правде, вовсе не хотелось попасть в какое-нибудь захолустье, в эдакую дыру, из
которых, обычно, вырываются только к увольнению в запас. Не все надежды
оставили меня, где-то в глубине души я всё же был фаталистом и верил в улыбку
судьбы, пусть это и было самонадеянно в моём положении. Не будь этой надежды…
Не раз бывало
желание наложить на себя руки от тоски и сознания никчёмности своей жизни, и
только её слабая, ниточка удерживала меня от рокового шага. Да ещё отголоски
угасшего христианского семени, посеянного в души моих предков, шептали и
подсказывали мне, что надо терпеть, что жизнь – это испытание божие на право
быть в царствие Иисусовом, а самоубийство – величайший грех и преступление
смертного.
Если бы была
прочна во мне вера в вечную человеческую душу, пребывающую здесь лишь для
испытания божьего её чистоты и непорочности в терниях и искушениях грешной
земной жизни! Но моя воплощённая душонка, которую всю жизнь взращивали в
атеистическом отвержении «религиозного бреда», малодушно отталкивала
христианские заветы жизни и влачила грешное безбожное существование, а потому,
наверное, и возникали не раз мысли о прекращении такой жизни.
Конечно, надеяться
попасть в очень «тёплое» местечко я и не помышлял, для этого нужен был «блат» и
довольно весомый, но получить что-нибудь более или менее приличное, хотя бы
чуть выше провинциального, было моим скромным желанием.
В огромной России, зажатой тисками нищеты и
нужды в результате бестолкового хозяйствования и хищнического надругательства
над её землёй и народом, «хороших», что называется, мест почти не осталось,
кругом было сплошное захолустье и развал. Безалаберность, кажется, навсегда
поселилась на её пространствах, и серая, затхлая плесень, мгла угасания и
тления расползалась по стране как раковая опухоль. И чтобы хоть немного
обеспечить себе безбедную жизнь, надо было попасть в одну из малочисленных и
редких, как волосы на лысой голове, закордонных групп советских войск, которые
практически все ликвидировали в начале 90-х годов. Как говорится: «Заграница
нам поможет».
Мечтою каждого
было попасть в одну из «дружественных» стран, где находились наши части, хотя
на наших вояк там смотрели, как на непрошеных гостей. Каждый хотел
«прибарахлиться», но никто в этом не признавался и завидовал молча. Попасть
туда хотелось всем, но доступно было только «волосатикам».
Оставалась большая
голодная Россия. Но и в этом огромном государстве не везде жили одинаково. Были
регионы, где можно было сносно существовать, но были и места, где жизнь
находилась на грани исчезновения, вымирания. Направление в такой край считалось
сущим наказанием, несмотря на все льготы, которыми там пользовались офицеры.
Выбирать мне не приходилось: куда
пошлют – туда пошлют, хоть на Кудыкину гору. Но я всё же надеялся.
Теперь бы я и сам
рад был отмежеваться от репутации нарушителя, злостного нарушителя порядка, но
ярлык, однажды прилипший ко мне, никак не хотел отставать. Близился час
расплаты, час, когда мне суждено было узнать наказание за все прегрешения. Не
раз говорил мне комбат, вызвав к себе в канцелярию: «Ну, что, товарищ курсант,
я думаю, что мы будем в расчёте с вами по выпуску из училища».
Недавно я имел
возможность убедиться, что он не бросает слов на ветер и мне ничего не забыто и
не прощено.
Один из
пронырливых собратьев по учёбе, имеющих определённые художественные
способности, один из тех, кто обычно вращается в сферах отделов училиша и
преподавателей, прибегающих к услугам его таланта, один из тех, кто каждую
сессию отделывается какой-нибудь оформительской «халявой», ухитрился достать в
управлении училища списки нашего распределения, правда, ещё не утверждённые в
Министерстве обороны. Показать их он намеревался тайно, да и то лишь своим
близким приятелям. Но кто-то из них оказался не в меру болтлив, кто-то слишком
бурно отреагировал на увиденное и не смог удержать в себе эмоции, и вскоре
весть о том, что в батарее есть списки распределения, дошла до ушей каждого.
Вокруг горе-художника образовалось плотное кольцо сокурсников, требующих
показать «и им тоже». Тот долго отпирался, но потом, вняв просьбам и напору,
сдался. «Смотрите, только я ничего не знаю», - сказал он, каясь, что связался
со своими неблагодарными друзьями.
Мелованные листья
бумаги понеслись по рукам, закружились, точно в водовороте, сотни пальцев
потянулись за заветными листочками. Каждый хотел заглянуть в своё завтра,
которое всячески от нас скрывалось до самого выпуска. Каждый хотел вкусить
запретного плода.
Я тоже ринулся в
обезумевшую, одуревшую толпу и вместе со всеми, такой же обалдевший, ввязался в
схватку за листочки. Долго они перескакивали над моей головой, прыгая от одного
к другому, пока, наконец, не оказались у меня.
Мои глаза с
жадностью впились в них, отыскивая фамилию, но список оказался другой
алфавитной группы, и пришлось снова ловить, вырывать их у других, пока я,
наконец, не увидел, что клеточка напротив моей фамилии пуста.
Вокруг меня
раздавались то радостные возгласы, то крики отчаяния и рухнувших надежд, обиды
и разочарований, а я пребывал в недоумении, глядя на пустую клетку. Кто-то
вырвал список у меня из рук. Я развернулся и увидел «Бегемота», который с
жадностью искал свою фамилию. Машинально я снова забрал у него листок, хотя он
мне уже и не был нужен, просто хотелось удостовериться, что я не ошибся. Я
ожидал чего угодно, но только не пустой клетки. «Бегемот» поднял глаза,
нахмурился. Он был одним из наших «кровопийц». В батарее, даже в училище его
боялись решительно все курсанты, потому что, обладая центнером веса, он обычно
решал все споры кулаком.
«Давай быстрее,
Яшка», - сказал он мне. Он мог спокойно влепить мне затрещину, но, видимо,
решил не связываться, зная мой настырный характер, который был аргументом не
хуже, чем его кулаки.
Я последовал его
совету, решив не вводить человека в искушение применять силовые приёмы
разговора, и замер озадаченный тем, что нисколько не ошибся: клеточка была
пуста.
«Бегемоту» надоело
ждать, и он в нетерпении вырвал у меня листочек, но сам застыл в изумлении,
потому что клетка напротив его фамилии тоже была пуста.
Надо сказать, что
«Бегемот» был одной из первых кандидатур, кого должны были «заслать» куда-то
очень далеко, на край земли, к белым медведям: так много крови «попил» он нашим
командирам, что его готовы были со свету сжить. Это был один из первых и самых
известных разгильдяев, самовольщиков и нарушителей, не боявшийся никаких угроз
и не внимавший никаким увещеваниям и уговорам. Он жил в училище как ему
заблагорассудиться.
Попав в училище со
срочной службы, «Бегемот», как и многие такие же и не думал учиться, а ждал,
пока «накапает» положенный срок, чтобы побыстрее протекли его два года службы.
Другие, пришедшие с ним из войск, давно уже отчислились из «артяги» по
неуспеваемости или недисциплинированности, а он словно за корягу зацепился и
остался: лень было шевелиться. «Бегемот», он бегемот и есть. Бывало, он
частенько хвастался нам, как «халявно» служил в армии и даже бивал там морду
некоторым «салабонам-лейтёхам». Он уверял, что в армии всё по-другому и сильно
отличается от того, чему нас тут, в училище, учат. «Бегемот» не раз говорил,
что ему абсолютно всё равно, куда пошлют.
Помнится, были у
«Бегемота» на первом курсе ещё два закадычных «корешка», тоже из солдат,
прошедшие «суровую армейскую школу». Первый – «Лобзик», сержант Лобзов, и
второй, Степан Яшковец по кличке «Бацал». Лобзов, высокий, но худосочный, всем
своим видом напоминал жердь. Яшковец же, широкоплечий здоровяк-ефрейтор, был
верзилой из верзил. Куда до него «Бегемоту». С самого начала было ясно, что это
люди временные, но их не трогали. В то время как мы проходили курс молодого
бойца, обливаясь на раскалённом августовским солнцем плацу ядрёным потом, они
ездили на сенокосы и другие хозяйственные работы в учебный центр,
располагавшийся далеко за городом, тискали там деревенских бабёнок, словом,
культурно отдыхали от армейской службы.
С самого начала
они общались с командиром батареи, что уж там говорить про взводного, на
каком-то особом, недоступном для нас, вчерашних школьников, языке, что
называется, по-свойски. Словом, они были «бывалые» вояки.
«Бацал» сразу
облюбовал себе нижнюю каптёрку, находившуюся в подвале старинного здания
училища. Там хранились лопаты, грабли и прочий хозяйственный инструмент
батареи. Он сразу же, едва попал в училище, подошёл к комбату и сказал, что
хочет быть в ней каптинариусом, и тот его тут же и поставил.
Солдаты,
приехавшие поступать в училище из разных мест, одни с востока, другие с запада,
тем не менее, быстро нашли общий язык. Тех, кто пришёл в училище после школы,
они не подпускали к себе и на пушечный выстрел. Не знаю почему, но офицеры не
кричали на них, как на нас. И относились к ним чуть ли не как к равным. Так, во
всяком случае, казалось.
Прибывшие из войск
прохлаждались в глубоком подвале, поигрывая в карты в каптёрке, а мы «умирали»
на марш-бросках. Он не спеша, но с какой-то дьявольской сноровкой выполняли все
задания комбата. Всё у них получалось ловко и быстро, и, главное, для нас,
непосвящённых, непонятно – каким образом.
Что ни просил у
них взводный или комбат, они доставали как из-под земли, зная все лазейки и
премудрости этого искусства. Мы только готовились принимать присягу, не
помышляя даже заглядывать «по ту сторону Луны», они же уже знали, как свои пять
пальцев окрестные вино-водочные точки, частенько наведывались в город и водили
по ночам в каптёрку подзаборных потаскух, извечно ошивавшихся около училища. Мы
наверху спали без задних ног, намаявшись за день, устав от неразношенной, непривычной
военной формы, а они в это время в нижней каптёрке резались в «секу» на деньги,
пили водку или драли баб. Уже потом, когда почти все они с училищем
распрощались, оказалось, что «с молотка» пущено всё, что плохо лежало в
батарее.
Об их похождениях
такие, как я, узнавали из третьих рук, от тех, кто был с ними на короткой ноге.
Они приблизили к себе более шустрых и проворных, тех, кто до поступления в
училище успел разобраться во многих вопросах жизни, был не из последних на
улице и уже тогда имел определённый успех в общении с женщинами. Эти ребята
быстро поняли, что законы улицы живы и в стенах училища.
«Бегемот»,
«Лобзик» и Степан были любителям хорошо выпить. Иногда в дело шёл даже дешёвый
одеколон, «реквизируемый» из тумбочек у «сослуживцев».
Именно это
пристрастие не только решило судьбу двоих из них, но, мало того, чуть не
подвело под монастырь.
Как я уже заметил,
товарищи из войск поступали в училище не совсем для той цели, для которой оно
было предназначено. Время службы у них шло себе, не зная остановок. Полгода, а
то и больше, они отдыхали от своей части, командиров, армейской службы,
вспоминая всё это, как дурной сон. К тому же, после отчисления их направляли на
оставшийся период службы не куда-нибудь в Забайкалье или на Дальний Восток, а в
части в ближайших районах европейской части страны. Жили они по принципу:
«Солдат спит – служба идёт».
Командиры
нисколько не задумывались, сколько вреда наносилось этими проходимцами за те
несколько месяцев их пребывания в батарее, какое растлевающее действие
производила эта когорта на юные головы и души. Многие, между тем, возмущаясь
про себя их положением, помалкивали, видя, как с ними разговаривают офицеры,
наблюдая потворство. Складывалось впечатление, что мы, остальные, были не
посвящены в армейские тайны, знание которых давало право на такое общение.
Да, бывшие солдаты
любили покуковать над рюмкой. Но больше других усердствовал в этом сержант
Лобзов. За три месяца, проведённые в училище он отстоял по его собственным
подсчётам в наряде по батарее «вне очереди» около шестидесяти раз: его то и
дело снимали за плохое несение службы, а вечером, в тот же день он заступал в
наряд снова.
Таким образом,
сферы влияния поделились сами собой. По ночам Лобзов беспрепятственно обирал
тумбочки в батарее, когда того требовали обстоятельства или его организм.
Яшковец властвовал в подвальной каптёрке, гостеприимно распахивая её двери для
ночных посетителей. А «Бегемот» по расположению духа и желанию присоединиться
то к одному, то к другому, был завсегдатаем компаний и участником всех попоек.
К концу октября
первого курса судьба разлучила трёх дружков.
Случилось это
накануне Октябрьских праздников. Наша батарея тогда заступала в наряд по
училищу. Степан с Лобзовым поехали в учебный центр, в наряд по столовой, а
«Бегемот» остался в наряде по училищу, то ли в патруле, то ли ещё где-то.
Возможно, и его бы постигла участь этих двух искателей приключений, если бы он
оказался с ними.
Была суббота, и,
возможно, решив выпить по случаю выходных, Степан с «Лобзиком» сходили в
близлежащую деревню, крайние дома которой находились метрах в пятистах, за
небольшим яблоневым садом, отделявшим полуразвалившийся шлакоблочный забор
учебного центра от посёлка.
Следует заметить,
что учебный центр представлял собой комплекс из длинной одноэтажной казармы
красного кирпича, двухэтажной столовой, административных зданий с казармами
взвода обеспечения, офицерской гостиницы, продовольственного склада, караулки и
кочегарки. В некотором отдалении от всего этого находился парк с боевыми
машинами и автотехникой, а ещё дальше, ближе к овражистому лесу – подсобное
хозяйство училища: коровники, свинарники, овчарни, конюшни, летние загоны для
скота и даже своя училищная скотобойня, а также гаражи для тракторов,
сенокосилок и комбайнов. Последнее составляло гордость нашего зампотылу,
полковника Молчалина, с виду напоминавшего настоящего барина, негласного
хозяина богатых местных угодий, занятых училищным полигоном. Это для его коров
весь август косили сено, и для его свиней каждый божий день машина привозила из
училища огромную бочку отходов из курсантской столовой. Вся подсобка
существовала якобы для нужд училища, для курсантского стола. Но кормили в
училище довольно посредственно, и это была всего лишь байка для прикрытия
тёмных делишек.
Занятий в субботу
в учебном центре не было: обычно выезжавшие туда курсантские подразделения
спешили вернуться к выходным в город – всем, и командирам, и курсантам хотелось
отдохнуть в привычных условиях городской цивилизации. Поэтому он был пуст и
безлюден. Кормить было некого, и работы в столовой не было никакой. На душе и
так было тоскливо, а тут ещё суббота, выходной.
Вот Стёпа с
«Лобзиком» и решили развлечься, развеять пакостное настроение: пошли в село,
взяли дешёвой «барматухи», потому что на водку не хватало денег, запаслись
немудрённой закуской, вернулись в столовую, разложились в углу, за столиками,
пригласили для кампании нескольких человек и начали «гудёж».
В это время в
столовую вернулся прапорщик, дежурный по столовой, и обнаружил эту развесёлую
пирушку. Он сам где-то шатался целых два часа, делать-то всё равно было нечего,
но вот решил проверить, как там дела в столовой, и чуть в обморок не упал,
увидев, что там твориться, пока его нет.
Бешеный от злобы,
негодующий, он подскочил к нагло распивавшим винище кухонным рабочим,
заматерился, застучал по столу, попытался растащить невменяемую кампанию и
грохнул об пол две ещё не распитые бутылки «чернила».
«Ах, ты, подлюга,
- вскочил Степан, свирепея, - я же тебя сейчас урою!»
Бывший ефрейтор
бросился на прапорщика, тот пустился наутёк, крича на ходу, что найдёт на него
управу. Яшковец попытался догнать его, чтобы выполнить своё обещание, но ноги
слушались его уже очень плохо, а дежурный же по столовой ретировался весьма
проворно.
Погоревав немного,
Степан и «Лобзик» пошли мыкаться по учебному центру, заглянули в караул, где
стояли наши же ребята, среди которых были и их дружки, пожаловались там на
«нехорошего прапорюгу», попросили денег, а когда им отказали, начали рвать друг
на друге погоны, петлицы, проклиная крепкими словами армию и, в том числе,
своих сокурсников, которые «зажали корешам на выпивон». В караулке их усмирять
побоялись, потому что начальником караула стоял замкомвзвода из молодых, и они
пошли блудить дальше. Ноги понесли их снова в деревню за «бухлом».
Едва они скрылись
за забором, как в карауле появился офицер, дежурный по учебному центру, и
приказал поймать двух пьяных дебоширов (он-то не знал, что они только что были
здесь). Несколько свободных от смены караульных тут же пустились на поиски и
быстро настигли приятелей, пошли за ними не некотором удалении, не решаясь
подойти ближе. Так и сопровождали их до самой деревни.
По дороге в село
Степан и «Лобзик» то обнимались друг с другом, то ссорились, в чём-то не
соглашаясь, и тогда свирепо дрались «на ремнях», сеча друг другу лица острыми
краями бляшек. Потом вдруг окровавленный Яшковец бросался обнимать Лобзова и
просить у него прощения. Они оба рыдали пьяными слезами и снова шли, обнявшись,
но вскоре снова ссорились.
В деревне Степан
заторговался с каким-то мужиком за свои часы, предлагая купить их за два
червонца.
Часы были хорошие,
надо сказать, и грех было бы не отдать за них такие деньги. Но мужик, мерзавец,
взял, да и обдурил их самым хамским образом. Он забрал часы, сказав, что деньги
у него дома, и он их сейчас вынесет, зашёл в калитку и исчез.
«Лобзик» и Степан
стояли под оградой в ожидании денег ещё минут двадцать. Потом до Яшковца дошло,
видимо, что их обвели вокруг пальца.
«Падла!» - заорал
он, взвыл словно подстреленный волк, и бросился во двор.
Дом был наглухо
затворён. Степан оббежал его несколько раз, стуча в окна и двери, но никто не
отозвался. Тогда он сковырнул одну ставенку, разбил оконное стекло и влез
внутрь.
Стоявшие у
изгороди караульные минут десять к ряду слышали, как из дома доносились странные
звуки: звон стекла, скрежетание металла, удары, плески, маты. Вдруг входная
дверь с жалобным стоном вылетела из косяков, и на пороге показался Степан,
ничего не видящий перед собой от бешенства. Огромные кулаки его были
окровавлены, вылезшие из орбит глаза бешено вращались, как у быка на корриде.
«Где он?!» -
страшно так, что его услышала, наверное, вся деревня, зарычал Яшковец, «Где
он?!» - разнеслось по округе эхо его пьяного рёва. «Где он?!» - жалко плача:
часы-то были его, - пропищал Лобзов, выглядывая из-за плеча громилы. Но мужика
того и след простыл. Он даже и не заходил в этот дом, где, к слову, жила
одинокая старушка, а прошёл огородами и был таков.
Неизвестно, что
было бы дальше, но подоспевший к этому времени дежурный по учебному центру
приказал караульным схватить пьяниц и, повязав верёвками, бросить в кузов
машины.
Караульным
волей-неволей пришлось подчиняться. К тому же с офицером было несколько невесть
откуда взявшихся третьекурсников, тут же бросившихся крутить руки приятелям.
Как ни ругался
Яшковец, как ни угрожал расправиться со всеми, кто к нему и его «брату»
прикоснётся, их всё же связали и доставили в учебный центр. Правда, далось это
с большим трудом, потому что Степан был дюже здоровый и даже пьяный, еле
стоящий на ногах, раскидывал нападавших как пушинок. Едва его спустили на
землю, как он бросился на подошедшего посмотреть прапорщика, того, что разбил
их бутылки, и, так как руки у него были связаны за спиной, стал остервенело
пинать его под задницу и куда попало ногами. Прапорщик поскакал прочь как
кузнечик, крича: «Держите его, держите!» Яшковец же, не отставая, продолжал его
пинать и горланить на вовсю округу: «Убью тебя, сволочь!»
На него снова
набросились, подсекли ногу, повалили на асфальт и набросились сверху кучей. Он
упал прямо в лужу студёной осенней воды, одну из тех, что покрыли собой плац,
на котором развернулось действо, и закричал, зовя на помощь: «Лобзик! Ты где?!
Лобзик, выручай!»
Сержант Лобзов,
валявшийся без памяти в кузове машины, услышав призывы друга о помощи, очнулся
от забытья, поднялся кое-как и с криком: «Наших бьют!» - прыгнул вниз с машины,
да так неудачно, что тут же поскользнулся и сломал руку, грохнувшись навзничь
на асфальт, на завязанные за спиной руки.
Дебоширов
немедленно отправили в училище, посадили на гауптвахту, а к вечеру, когда
сменился наряд до нас дошли отрывочно, а потом всё более и более подробные
рассказы о случившемся.
Такого
«грандиозного шухера» не случалось потом ни разу за всё время моей учёбы в
училище.
Где-то через неделю после этого пришла на
училище бумага из суда. Бабулька, которой учинили пьяный погром, подала в суд
иск. Тут-то все в училище всполошились. Нашу батарею несколько раз усаживали на
всевозможные собрания, на которых публично осуждалось хулиганское поведение
этих двух прохиндеев. Они выступали, каялись, как положено, в совершённом,
обещали, что больше так не будут. Но так просто отделаться тут было тяжело:
дело-то пахло тюрьмой. Суд приближался, и не миновать бы им тюрьмы, если бы не
комбат и командир дивизиона, предпринявшие всё, чтобы уладить дело полюбовно.
Слава богу, на том и порешили, что бабульке возместят нанесённый ущерб, и она
не будет в претензиях. Она согласилась и запросила три с половиной тысячи
рублей. Торговаться не стали: отдали сколько назвала, лишь бы до суда дело не
дошло. Родители переводы из дома прислали, как узнали в какую историю их
сыновья влипли.
До суда-то не
дошло, да вот начальник училища сразу же после окончания разборов подписал
приказ об отчислении курсантов Яшковца и Лобзова из училища.
Уезжали они в
войска не как побеждённые, а как победители: ночью, накануне отъезда, собрали
всех своих дружков в последний раз в нижней каптёрке и устроили шикарные
проводы, как положено, с пьянкой и с песнями. Там, кроме солдатской братии
собрались и приближённые из наших рядов. Сначала пили водку, а когда она
кончилась, поднялись в батарею, собрали весь одеколон по тумбочкам и пили его,
слегка разбавляя лимонадом. «Лобзик» глушил одеколон, не разбавляя и не
закусывая, поэтому вскоре вырубился. Его обмякшее тело подняли наверх, бросили
на кровать, а сами пошли догуливать. Сам не видел, но говорят, что утром
простыни его постели были пропитаны зелёным потом от «Шипра».
Степан тоже быстро
«уготовался», но не отрубился, как его дружок, а пошёл наверх учинять прощальные
разборки всем «чмарям и гнидам».
В казарме в ту
ночь было тихо. Казалось, все вымерли, но тишина эта была обманчива. Вся
батарея, затаив дыхание, вслушивалась в ночную тишину, в шаги Степана между
рядов двуярусных кроватей.
Я тоже тогда
проснулся от этой непривычной, мёртвой тишины, среди которой раздавались
какие-то непонятные хлюпающие звуки, и, сообразив, в чём дело, притаился и
лежал тихо, как мышонок.
Степан, словно
приведение, ходил между рядами кроватей и выискивал, низко наклоняясь к каждому,
тех, кому хотел на прощанье набить морду или хотя бы сказать, кто он такой
есть. Когда он лупцевал очередного бедолагу по лицу, тот даже не пикал и не
сопротивлялся, а молча сносил побои. Лишь одного он помиловал, хотя и
намеревался поколотить, за то, что тот был его земляк, и, лишь «прочитав» ему
мораль, оставил в покое.
Только один
решился отдать ему отпор. С ним Степан дрался долго. Они валялись, катались в
проходе между кроватями в двух шагах от меня, и я видел эту страшную пьяную,
злобную драку во всех подробностях.
Степан таскал
своего противника за ворот нижнего белья, и то летал по коридору, цепляясь
руками за тумбочки и ряды кроватей. Силы были явно неравны, но всё же Степан
отпустил смельчака, сказав, что тот молодец: не побоялся с ним драться, но он
лишь огрызнулся в ответ, не подумав даже о благодарности за комплимент. Этого
человека я уважаю до сих пор, даже сейчас, перед выпуском из училища, хотя
никогда не говорил ему об этом.
Особых грехов у
меня перед Степаном не было, но всё же, когда он начал рыскать рядом со мной,
мне сделалось страшно: мало ли что ему могло не понравиться в моём поведении. К
тому же был один случай, произошедший ещё во время курса молодого бойца. Мне
тогда надо было попасть в нижнюю каптёрку за самой обычной вещью, за граблей.
Народу у входа в неё собралась целая толпа, и Степан выталкивал всех взашей.
Что-то дёрнуло меня тогда протиснуться сквозь летящих прочь к порогу его
богадельни, где мы и схлестнулись.
Против глыбы
Степана я напоминал общипанного воробья. Тело моё было тщедушно и хило. Но,
вот, поди ж ты, чувство собственного достоинства было намного сильнее. Степан
был тогда не на шутку разъярён, но удержался от того, чтобы заехать мне по
физиономии, а, немного помедлив, просто сказал: «Если бы ты знал, откуда я пришёл,
ты бы не стал так со мной разговаривать». Так и сказал. И я постоял, пытаясь
понять его слова, и отступил, почувствовав их силу, силу их откровения,
почему-то открытого мне. Только потом я испугался, осознав, с каким страшным
человеком вздумал только что спорить.
Потому-то и лежал
в страхе в ту ночь, думая, как мне вести себя, если Степан вдруг меня поднимет.
Личных врагов у него не было, но он, видимо, решил исполнить роль третейского
судьи. Меня чаша сия миновала.
Вот так «Лобзик» и
Степан уехали, а «Бегемот» остался, один из «святой» троицы, приняв у Степана
«по наследству» «подземное царство».
Ещё некоторое
время он возглавлял все сборища и пьянки, пока вдруг большая кампания не стала
распадаться на мелкие кучки, редеть и, в конце концов, совсем растворилась. А
«Бегемот» так и остался один с двумя-тремя непостоянными приспешниками. Зато за
ним тоже до конца училища закрепился волчий билет. Впрочем, он не сильно и
расстраивался.
И вот теперь он,
как и я, имел напротив своей фамилии в списке пустую клеточку и озадаченно
смотрел на неё.
Остаток дня я
провёл в скверном настроении. Обнаружилось, что пустые клеточки стоят ещё
напротив нескольких фамилий, в том числе и против фамилии моего дружка, Гришки
Охромова, поспешившего поделиться со мной этой печальной новостью. Вместе мы
принялись гадать, чтобы это значило, но так ничего и не придумали, и уснули в
тоске и тревоге.
Помаявшись
несколько дней, я перестал об этом думать, так как голова разламывалась от
бесплодных размышлений. То же самое я посоветовал сделать и Охромову. К тому же
буквально на следующий день об этом происшествии стало известно командованию.
Кто-то донёс, желая выслужиться.
Нас построили и
перед строем объявили, что в связи с несанкционированным разглашением списки
распределения будут аннулированы и «существенно переиграны». Все ходили
расстроенные, и только такие, как я, были довольны. Во всяком случае, все
теперь снова были в равных условиях.
До выпуска
оставался ещё месяц. Начались государственные выпускные экзамены. Стояло жаркое
лето, располагающее к купанию на речке. У меня была куча долгов, с которыми
надо было успеть расплатиться за оставшееся время. И эта извечная для меня
проблема – откуда взять деньги.
А вообще-то, всё
было прекрасно и великолепно! Если жить, не подгоняя события, не торопя жизнь,
вдыхая её упоительный аромат, ощущать, что ты силён, красив, молод, обожаем
женщинами. Эти качества, всё-таки, останутся со мной, куда бы я ни попал.
Я наслаждался
упоительным июльским воздухом, подставлял жаркому солнцу своё крепкое, худощавое
тело, отвлекаясь от тяжёлых мыслей и тоскливых будней запретным купанием на
городском пляже, и с тоской и упоением одновременно ощущал, как проходит каждый
день моей курсантской жизни, которая вот-вот должна закончиться.
Чем ближе был
выпуск, день нашего прощания друг с другом, тем острее ощущал я необъяснимую,
щемящую тоску, закрадывающуюся в душу.
Мне было грустно
расставаться со всеми, независимо от того, нравился он мне или нет. Но особую
печаль навивала мне мысль о том, что скоро не будет рядом со мной моего
единственного в училище друга, настоящего друга, которому я доверял все свои
тайны и который меня посвящал во все секреты своей жизни. Мы нередко вместе
пускались в различные приключения, вместе гуляли, у нас были общие знакомые и
подружки в городе и даже общие интересы и увлечения. Нередко нам приходилось
даже оспаривать друг у друга пристрастия, но из-за женщин мы никогда не
ссорились, считая их существами низшими и недостойными того, чтобы через них
происходили у нас разногласия.
Но, как бы то ни
было, беспощадное время пожирало день за днём нашей дружбы, оставляя всё меньше
и меньше времени.
Однако мы
продолжали жить весело, как бы там ни было.
Жизнь наша
продолжалась и днём, и ночью. Как перед гибелью мы спешили взять от этой жизни
всё. Как и у большинства, у нас впереди маячили далёкие гарнизоны в глухомани,
а вокруг ещё был город, такой прекрасный и манящий, особенно сейчас, когда жить
в нём осталось считанные недели.
Несмотря на то,
что мы учились, вернее, уже доучивались, на последнем, четвёртом курсе,
свободного выхода в город у нас так и не было. Но лишь только последний офицер
покидал курсантское общежитие, как начинались сборы на ночные похождения. Самые
проворные уже мчались, переодевшись в спортивные костюмы, самое любимое одеяние
нашего брата, по уличным закоулкам к забору, за которым их ждала другая жизнь.
Несколько минут, и целая орда «спортсменов» уже бежала наперегонки к проспекту,
ловить «тачки», чтобы разъехаться потом кто-куда: кто к подружкам, кто к жёнам,
а кто и просто пошалить в кабаке. Это было ночью, а днём, после обеда, когда
разрешено было заниматься спортом, мы с Охромовым, одев на плавки одни
спортивные трусы, скрывались в лесу, покрывавшем склон холма, на котором
высилось наше училище и мчались на городской пляж. Здесь в жаркий летний день
можно было встретить многих наших знакомых девчонок, поваляться с ними вместе
на горячем песке, порисоваться, ныряя с вышки, поплавать в тёплой, как парное
молоко, воде – в общем здорово отдохнуть.
Пляж всегда был
полон народа. Гомон, плеск, крики и прочие давно ставшие привычными и любимыми
звуки радостно волновали сердце, но вместе с тем мне бывало и грустно вдруг,
просто от того, что всё это скоро кончится, и придётся ехать неизвестно куда.
На пляже
забывалась армейская жизнь: строй, наряды, надоевшая порядком форма, учёба.
Казалось, что ты в каком-то беззаботном отпуске, который предоставил себе сам.
Жизнь вокруг фонтанировала ярким, сочным букетом и казалась праздником, на
который ты попал словно из затхлого пыльного чулана. Пёстрый мир врывался в нас
своими яркими красками и пьянил, крутил своей хмельной пеной. Возвращаться в
училище отсюда совсем не хотелось, но, скрепя сердцем мы всё-таки уходили,
когда время истекало и спешили обратно к своей серой, нелюбимой тоске, чтобы к
вечеру снова с ней расстаться. Когда же приходилось целыми днями сидеть теперь
в его стенах – это казалось сущим наказанием.
Время тянулось
тоскливо и медленно. Ничто внутри него уже не интересовало, и мы мыкались, не
зная, чем заняться. Тогда приходилось стоять в очереди к телефону-автомату у
КПП, а потом долго и бестолково болтать с какой-нибудь знакомой, если та
оказывалась дома, или звонить другой и жаловаться на свою судьбу и слушать
утешения.
Вообще, о наших
подругах можно было бы говорить долго. Все они были молодые развесёлые
девчонки, рядом с которым улетучивалась вся горечь из души, всё становилось
легко и просто. Конечно, случалось, что попадались и не в меру серьёзные. Но с
такими было скучно, сложно, тяжело. Они чего-то хотели от жизни, ещё не расстались
с иллюзиями и имели пуританское понимание отношений между мужчинами и
женщинами, берегли свою чистоту и девственность, мечтая встретить
единственного, кому отдадут свои прелести, а если случалось, что теряли и то, и
другое в связях с нами, то с надоедливостью назойливой мухи навязывали
лишившему их девичьей чести роль этого «единственного мужчины» до тех пор,
пока, разозлившись, им давали понять, как далеко им следует пойти.
Да, что касается
вопросов связей с противоположным полом, то тут среди курсантов было
подавляющее большинство пройдох вроде нас с Гришей. Тех же, «вислоухих», кто
однажды попав с бабёнкой в постель, страдал после этого, мучимый чувством
долга, считал себя чем-то обязанным перед ней, быстро опутывали, окручивали,
«окольцовывали». Ну, что ж, так им и надо. Лично я никогда и не питал насчёт
женского пола никаких иллюзий. Так уж у меня сложилась судьба, что я знал, что
рано или поздно всякая женщина становиться бабой-курвой, какой бы ни была она
воспитанной и хорошей на первый взгляд.
Примером тому
служила моя собственная мамаша, тоже с виду воспитанная и «правильная» женщина,
про которую, наверное, и подумать-то что-нибудь нехорошее было бы грешно, но
грешные тайны которой в большинстве своём были известны мне, её сыну, не раз
наблюдавшему постельные сцены из своей детской кроватки. Не знаю почему, но
видно, она считала меня глупеньким малышом, и не стеснялась при мне ложиться в
постель со своими хахалями, которые все до одного казались мне скотами. Тогда я
действительно мало чего понимал, но память моя сохранила эти сцены яркими,
ядовитыми пятнами до тех пор, пока я сам не вступил в пору половой зрелости. А
здесь я уже стал подлецом в понимании моралистов и практичным человеком со
своей точки зрения. С женщинами я был на короткую ногу, очень им нравился,
быстро, если хотел, совращал их, и так же быстро с ними расставался, чуть
только возникали какие-нибудь претензии.
Глава 3
Что и говорить,
были «жахи» и похлеще меня, но я был вполне доволен своей жизнью. Единственное,
чего долго не мог я приобрести, так это умение молчать. Я уже говорил, что не
раз за это жестоко поплатился, но, в конце концов, «поумнел» и научился держать
всё в себе, хотя это было трудно: мне непременно хотелось поделиться с
кем-нибудь своими похождениями. Но откровенности оборачивались против меня же,
и я учился держать язык за зубами, как бы тягостно это ни было. Между свободой
говорить и свободой действовать я выбрал последнюю.
Уметь молчать –
тяжёлая наука. Молчать о своих чувствах – значит, подавлять свою душу, молчать
о своих мыслях – значит, сушить свои мозги, но научиться молчать, чтобы
сохранить свою свободу, пусть рабскую, но свободу, в моём положении было
вопросом, определяющим качество моего существования.
Хранить тайну
подобно искушению. Человек, видимо, так устроен, что у него возникает потребность
поделиться своими мыслями, и, если не с людьми, то хотя бы с бумагой. Поняв,
что люди недостойны, чтобы доверять им, я завёл дневник, в который стал
записывать свои мысли, пережитые приключения и чувства. Иногда меня посещали
даже стихотворные формы, будто слепые, бродившие по закоулкам моего сознания,
которые, если удавалось, я записывал туда же.
Дневник этот не
видела ни одна живая душа, даже мой ближайший друг, Гриша Охромов. Я старался
писать в нём таким тарабарским почерком, что никто кроме меня самого не
разобрался бы в написанном там. К тому же простейшая шифровка, навыкам которой
я слегка подучился, избавляла меня от всяческого беспокойства. Спецслужбы,
вроде бы, заниматься мной не собирались, а простой любознайка сломал бы там
ногу, если бы сунулся что-нибудь почитать.
Вот эта
незатейливая тетрадочка с мудрёным названием «Философские тетради» и стала
хранителем всех моих тайн, впечатлений и печалей. Да, да, печалей, потому что,
хотя я и уверял себя, что жизнь моя прекрасна, очень часто мне бывало грустно.
К тому же не такая уж она прекрасная и была. Что в ней, вообще, было хорошего?
Взять хотя бы моих
родителей. Про мать я уже сказал немного. Вспоминая своё детство, я не могу
избавиться от грусти. Отец…. Как-то я записал в своём дневнике: «Сегодня
получил письмо от матери. Благодарит за фотографию, пишет, что я всё больше
становлюсь похожим на отца. Зачем она это делает? Зачем вспоминает его? Кто он
ей теперь? Кто он ей с того момента, как она в первый раз его предала? Есть ли,
вообще, у этого лицемерного существа – женщины – что-нибудь святое? Ставила ему
рога, а теперь умиляется воспоминаниями о нём. Тварь. Она моя мать, но она
тварь, низкое животное, не достойное любви. Интересно, знает ли она, что я всё
видел и помню это ещё острее, чем раньше. Это её заслуга, что я не верю теперь
ни одной из женщин. Не знаю, любил ли её отец, но я её ненавижу. Неосознанно,
со скрытой яростью. Она даже не догадывается, как я её ненавижу».
Об отце своём я
знал совсем немного. Его почти не бывало дома, а когда он приходил, хотя и
уставший, но находил в себе силы шутить и смеяться.
Помню, мать всегда
упрекала его в том, что мы живём плохо только из-за него, что в том, что мы
нищие, виноват только он, что все его бывшие друзья и однокашники давным-давно
уже выбились в начальники, «вышли в люди», обеспечили себя и своих детей.
Подобные разговоры
мне приходилось слышать очень часто, но однажды мать зашла в своих обвинениях
слишком далеко:
-Что ты сделал
полезного для своей семьи за те десять лет, что мы прожили с тобой вместе? У
других, как у людей: и машина, и дача, и всё прочее. А что у нас? У нас же
ничего нет. Я уже забыла, что такое театр. Ты мне хоть можешь сказать, когда мы
с тобой в последний раз были в кино вместе?
-А разве ты не
ходишь в кино? – спросил он с такой печальной улыбкой, что она аж покраснела, а
мне сделалось не по себе, и я ощутил себя виноватым во всём, что происходит в
нашем доме.
Мать замялась, но
всёже ответила:
-Хожу, но одна…. А
ты?! Ты, ты!.. Что ты сделал для меня, для семьи, для сына? Что? Что?! Десять
лет прошло, как я согласилась выйти за тебя замуж. Десять лет! Десять лет этой
сумасшедшей жизни и никакого результата! Что ты сделал за эти десять лет? Мы
по-прежнему нищие, такие же, какими начинали жить.
-Я делаю... делаю.
Я хочу, чтобы были счастливы все, а не отдельные люди. Я делаю это для всех.
-Я устала от твоих
вселенских прожектов, понимаешь?! Устала! Я хочу быть обыкновенной женщиной,
иметь обыкновенного мужа. Я вполне довольна была бы, если бы ты занимался
только домом. Не надо думать про других. Они сами о себе побеспокоятся. Ты
очень плохо знаешь людей. Все они сволочи!
-Зачем ты так
говоришь? Ведь ты тоже человек. Все люди изначально добрые. Просто у многих
болеет душа, и серьёзно болеет. Всё наше общество нищее духом и больно злым
нравственным недугом, - ответил ей отец.
-А ты что,
лекарь?! Ты лекарь! Посмотрите на него! Взялся вылечить наше общество! А то,
что семья сидит голая и босая, так это ничего! Главное общество! Об-щест-во! –
закричала мать в издевательском тоне.
-Ты слишком
преувеличиваешь, Галя. Да, мы бедны, но не настолько, чтобы впадать в отчаяние.
Да, я знаю, как живут другие. Но ты же знаешь, что я никогда не опускался и не
опущусь до воровства.
-Правильно, ты у
меня правильный! Ты – хороший! Но что ты знаешь?.. Что ты знаешь?!... Ты даже
не можешь сказать, откуда что берётся в этом доме. Этот дом держится только на
мне, исключительно на мне!..
-Ну, честь тебе и
хвала за это. Женщина всегда была хранительницей домашнего очага.
-А я устала
держать очаг в этом доме!
-Ты просто устала
меня любить, Галя, вот и всё, - ответил ей отец и ушёл….
Вскоре после того
разговора отца арестовали. Потом был суд. Меня туда не пустила мать. «Ты должен
забыть, как его звали, - сказала она мне тогда. Сказала и не пустила. – Это не
для твоих детских ушей».
Сама она тоже на
суд не пошла, а вместо этого взяла и напилась на кухне до свинского состояния.
Такой, как в тот раз, я её ещё никогда не видел.
Отцу дали большой
срок, а я даже не знал – за что. На суде его последним желанием было повидать
сына. К нам домой пришли и передали его просьбу. Мать, совсем пьяная, сначала
начала кричать, потом билась в истерике у порога, хотя меня насильно никто не
собирался вести, а потом ушла в спальню с одним из пришедших.
Когда мужчина
вышел из спальни, то сказал в дверь: «Ладно, он никуда не пойдёт. Я найду, что
сказать вашему мужу». За ним из дверей вышла моя мать, запахивая махровый
халатик, под которым было видно голое тело. Она облокотилась о косяк двери,
глядя в никуда потухшим взглядом.
Уходя, мужик
сказал уже на лестничной клетке своему товарищу: «Ну и стерва. Я такой ещё
никогда не видел!» Тот улыбнулся с пониманием, а мне сделалось так гадко, так
отвратительно, что я долго не мог прийти в себя.
Да! Жили мы, действительно,
бедно. В доме кроме старого, еле живого телевизора, да ветхого проигрывателя
никакого богатства не было, поэтому рос я с тяжёлым чувством ущербности и
тайным, тайным до страшного, желанием разбогатеть.
Десятилетие, в
которое мне суждено было родиться, отметилось бурными событиями. Его вспоминали
как время лихолетья, как насмешку над нашим образом жизни и покушение на устои
нашего общества. Но я был мал и мало что понимал, хотя отец говорил, что это
попытка вернуть свободу, которая не удалась.
Отца часто и
подолгу не бывало дома. С мамой было хорошо, но я почему-то скучал и ждал,
когда он вернётся. Всякий раз, когда он появлялся на пороге дома, я с радостью
бросался к нему и обнимал его за усталые ноги. Он ласково гладил меня по
голове, и говорил только одно: «Здравствуй, сынок!»
Я, улыбаясь,
прижимался к его коленям, и прямо с порога тащил его к кубикам, солдатикам,
машинкам и другим мальчишеским забавам. Наступали счастливые часы. И не умытый,
в дорожной пыли, голодный папа сидел со мной и играл в игрушки. В конце концов,
я засыпал у него прямо на руках, и он относил меня в мою кроватку и укладывал
спать. А потом, просыпаясь ночью, я видел, как, включив настольную лампу, он
что-то пишет, склонившись над письменным столом.
Мать моя хотела
жить «для себя». Так жили все вокруг. Она находила нужных знакомых,
приспосабливалась, как могла. Отец же, когда узнавал о её хлопотах, выходил из
себя. В такие минуты он сначала молчал, постепенно делаясь багровым, надуваясь,
а потом всё накопленное залпом выкладывал. В этом состоянии он мог назвать маму
не только «мещанкой», «рабой денег», но и словами покрепче. Мама, выслушав его
обвинения, быстро урезонивала мужа:
-Ты вот, колбаску
кушаешь, а ты знаешь, откуда она, эта колбаска? Ты пойди, купи её в магазине! В
магазине-то, чай, ни разу не давился за нею?.. Да и то там только «варёнку»
дают! А пойди, сухую достань или копчёную! Выложишь половину своей несчастной
получки за одно колечко. Да если бы не моя приятельница, Ирина Антоновна, из
обкомовского спецбуфета, шиш бы ты чего увидел хорошего. Ты думаешь, приносишь
две с половиной сотенных домой, так и король?!... Фига с два. Ты пойди на эти
денежки купи чего-нибудь! Мы без штанов сидели бы, если бы ты по магазинам
ходил, да на базар! Только благодаря моим знакомствам концы с концами сводим. Я
ещё только про еду говорю. А если про шмотьё, то сиди, вообще, не заикайся!
Один только твой костюм полторы твоих получки стоит….
После такого
отпора отец, обычно, замолкал и больше не спорил. В самом деле, мы сводили
концы с концами только благодаря маминой пронырливости, или, как называется это
по-другому, её умению жить. Многие наши знакомые не дотягивали до следующей
получки, и говели неделю, а то и две. У них не было знакомых в спецбуфетах.
Правда, и мамины
возможности были более чем скромные. Любая буфетчица, занимая столь выгодное
место, не прочь была бы использовать своё знакомство с большей пользой, чем
снабжение какой-то назойливой, надоедливой и даже, можно сказать, нагловатой
женщины, машинистки в какой-то захудалой конторе, от которой нет никакой пользы
ни вообще, ни в частности. Мама брала верх лишь своей бессовестной
настырностью. Только её умение надоедать людям, играть на остатках их
растерянной в жизненных передрягах совести помогало ей «что-то достать».
Отец не только не
умел заводить выгодных знакомств, но и не хотел. Напротив, он считал это
низким, гнусным, недостойным его делом. Словом, был он человеком непрактичным и
даже, можно сказать, вредным, в понятии окружающих, для нормальной семейной
жизни.
Всё, что он ни
делал, встречало непонимание и критику. Он пытался найти сочувствия у моей
матери, но та обычно отвечала: «Сам виноват!»
Иногда
деятельность отца оборачивалась наносила прямой ущерб нашему существованию.
Как-то мать
«пробила» ордер на квартиру. Мы очень долго ютились в грязном углу, снимаемом у
одной старухи, проживавшей в аварийном доме, и платили ей за это «удовольствие»
деньги обременительные для нашего и без того тощего кармана. Но не успели мы
даже обрадоваться такому долгожданному, «своему» жилищу, как ордер наш
аннулировали, как объяснила мне мама, «из-за папы», который когда-то пытался
разоблачить квартирные махинации городской элиты, но кроме как «по шапке» за
это дело ничего не получил.
Было много и
других, мелких, правда, но от того не менее обидных случаев, когда мне
приходилось страдать за своего отца, и я даже не знал, почему.
Отцу и самому не
раз доставалось. За то, «квартирное», дело пытались привлечь к уголовной
ответственности, как клеветника, пытающегося дискредитировать партийно-государственный
аппарат, и только покаяние, к которому его вынудили, публичное, принародное
унижение, спасло его от тюрьмы.
Тогда его,
кажется, сломали. После этого он заметно сдал, сделался больным и грустным. И,
хотя он стал осторожен, давление не прекращалось, и мы постоянно чувствовали
себя чуждыми элементами в нашем обществе.
Мама вскоре решила
отделиться от этого печального айсберга и пошла путём, про который я уже
упоминал. А отца продолжали потихоньку гноить живьём. У него то и дело
случались неприятности на работе, хотя он и старался добросовестно исполнять
свои обязанности. Случалось с ним и нечто иное, что с первого взгляда казалось
случайностью.
Однажды, незадолго
до Нового года, он напоролся в городе на группу малолеток, которая ни с того,
ни с сего вдруг прицепилась к нему. Его избили так, что он несколько недель не
мог подняться с больничной койки.
Однако, отец был
упрям и не желал оставлять свои донкихотские замашки и жить, как все, не
высовываясь.
Мать уговаривала
его жить, как все люди, на что он отвечал ей с печальной иронией и грустной
улыбкой:
-Ничего-то ты не
понимаешь, радость моя.
Слова «радость
моя» получались как-то особенно грустно. И она так же грустно улыбалась и
отвечала:
-Я-то всё понимаю,
да просто жить так, сил больше нет. Не могу я так больше!..
Да, в те времена в
её спальне ещё не было посторонних мужчин….
И каждый шёл своей
дорогой: отец продолжал заниматься своим делом, а мама жила, пытаясь хоть
как-то обхитрить судьбу, выиграть у неё рублик-другой.
Отец говорил ей:
-Пойми, если все
будут такими, как ты, страна никогда не выберется из трясины.
Она парировала:
-А если мы будем
такими, как ты, то просто-напросто сдохнем с голоду, вот и всё!
Отец понимал, как
печальна, безнадёжна и неприкаянна наша жизнь, что, если жить честно, прокормить
семью невозможно, но, видимо, не мог поступиться своей совестью и честью,
никогда не только не шёл на грязную сделку, но и всячески боролся с этим.
Он был умён. Он
был даже мужественный человек, потому что, как сам говорил, в течение последних
десяти лет на его глазах родились, боролись и умерли его идеалы, мечты и
надежды, но он всё же продолжал бороться, в полном одиночестве, не падал духом
до самого конца, пока его, в конце концов, не упрятали за решётку. Впрочем,
борьба эта была похожа на сражение Дон Кихота с мельницами или битву с тенями
прошлого: время настало другое, а потому конец её был предсказуем.
В то время, когда
отец был рядом, я был ещё мал и глуп и не интересовался его жизнью. Теперь же,
спустя время, когда вернуть ничего уже было невозможно, я понимал, что это был,
если и не великий, то выдающийся человек.
Вот говорят: «Он
был человеком своего времени», или «он был предвестником грядущих перемен». Про
моего отца сказать так или иначе было бы неверно, хотя и первое, и второе
отвечало истине. Он предвестил своё время, жил в нём, но и, самое печальное,
пережил его, но об этом я узнал много позже.
Мало что
сохранилось от того скоротечного десятилетия, в котором уместилось моё детство:
мало достижений, документов, первоисточников информации, позволяющих пролить
свет истины на событиях тех лет таким, как я. Но, главное, мало осталось людей,
живых свидетелей тогда происходившего. Хотя это было совсем недавно, но мгла
реакции пожрала тех, кто мог бы сказать правду, расправилась с ними, сгноила их
заживо или упрятала за решётку, сшельмовав обвинения. С моим отцом тоже
расправились, потому что он не мог и не хотел молчать.
Когда-то, очень
давно, у нас собирались кампании папиных друзей. Встречи такие были редкими. На
них частенько что-то вспоминали, ругали на чём свет стоит реакцию, одержавшую
верх над интересами народа и страны, мечтали, что наступят когда-нибудь лучшие
времена, и правда вернётся на эту землю.
Мама была
недовольна такими собраниями. Ей не нравились разговоры, которые затевались на
этих посиделках, да и по чисто практическим соображениям, гости сильно били по
семейному бюджету, который она извечно стремилась поправить. Она с трудом
наскребала ужин на трёх-четырёх лишних человек, и после таких посещений мы
два-три дня жили впроголодь.
Может быть,
поэтому у мамы была такая изумительная фигура: тонкая и стройная, как у
девушки. И мужчины обращали на неё повышенное внимание, взглядами, менее чем
приличными, провожая на улице её ноги.
Времена наши,
действительно, были не из лёгких. Чтобы купить что-нибудь приличное из одежды,
надо было копить деньги и довольно долгое время ограничивать себя буквально во
всём. Папа говорил, что, когда меня ещё не было на свете, жить было легче, чем
сейчас.
Заграничные вещи –
это была недоступная роскошь для многих, за исключением тех, кто мог зайти в
магазин с «чёрного» хода или имел большие деньги для их покупки на «чёрном»
рынке, где цены были сказочно недоступные. Только лихие люди, да сынки больших
начальников жили себе без забот и трудностей.
Помниться, в
классе со мной учился Олег Жульков, отец которого был заведующим областной
снабженческой базой. Вот тот, да. Всегда одевался с иголочки, имел какую-то там
японскую квазивидеосистему, которая стоила сумасшедших денег, и множество
других дорогих мелочей и игрушек. Про себя ему все завидовали, все хотели с ним
дружить, искали его расположения. В классе он был королём, и все девчонки сохли
по нему и готовы были позволить ему обладать собой, едва бы только он поманил
пальцем, да ещё хвастались этим друг перед дружкой. Даже учителя говорили с ним
заискивающе и благоговейно, и Олег не вылазил у них из круглых отличников и
примерных учеников, хотя и был первым лентяем и прожжённым хулиганом, знаемым
не только среди сверстников, но и ребят постарше.
Лишь один из
преподавателей восстал против Жулькова и его всемогущего папаши. Это был
молодой, почти мальчишка ещё, учитель физики. Он только пришёл к нам в школу
после института. Увидев происходящее в школе вопиющее безобразие и
несправедливость, он вступил в неравную схватку. Ровно год длилась эта
необъявленная война. Физик беспощадно строчил в журнале напротив фамилии
мальчика-мажора двойки, а Жульков со своей стороны, держа в руках вожжи и
поворачивая мнение класса по своему желанию, куда ему вздумается, ополчил против
бунтаря не только класс, но и преподавательский коллектив школы. Через год
война закончилась, учитель вынужден был перевестись в другую школу, а Жульков
остался и закончил учёбу с золотой медалью.
До сих пор стыдно,
но и я тоже был на поводу у Жулькова, склонившись перед властью положения и
денег в мире людей.
Глава 8
-Ну, что, товарищ курсант? – спросил
меня командир батареи, старший лейтенант Скорняк.
-Что? – спросил я тоже, не найдя
ничего лучшего для ответа.
Я был в растерянности. К тому же
сопение замкомвзвода за моей спиной сильно отвлекало меня. Оно было мне противно.
-А что вы «чтокаете»?
-Не знаю.
-Хорошо, отвечайте на вопрос: где вы
были?
Я немного подумал, но не найдя
подходящего ответа, сказал:
-В самовольной отлучке, товарищ
старший лейтенант.
-Мне это понятно, я спрашиваю, где
именно вы были?
Я упорно молчал, и тогда комбат
задал другой вопрос:
-Хорошо, почему так поздно пришли?
«Как в детском садике», - подумал я
и ответил:
-Потому что не мог раньше.
-В чём причина, причина вашего
опоздания? Почему вы не пришли вовремя?!
Я молчал.
-Вы можете указать причину?
-Нет….
Этот бестолковый разговор
продолжался до трёх часов ночи. Сначала в нём принимали участие только мы с
комбатом, и беседа проходила довольно спокойно, почти мирно. Затем в него
вступили взводный с замкомвзводом, и тон его сразу изменился в сторону психоза
и истерики.
Скорняк лишь ненавязчиво обратил моё
внимание на то, что каждый получит по заслугам, сделал какие-то смутные намёки
на скорый выпуск и распределение. Взводный же принялся читать мне мораль, а
потом пообещал, что обязательно посодействует тому, чтобы я попал к чёрту на
кулички. Замкомвзвода тоже разорился бранью и пообещал, что устроит мне
«сладкую жизнь» в оставшееся до выпуска время. Две последние угрозы я не
воспринял всерьёз, но вот то, что сказал комбат, очень меня обеспокоило.
Выходя из канцелярии сонный и
удручённый состоявшейся промывкой мозгов, я уже едва держался на ногах от
смертельной усталости и готов был упасть и заснуть прямо на полу, в коридоре,
мёртвым, беспробудным сном.
«Плохи твои делишки, - подумалось
мне сквозь полудрёму, заволакивающую моё сознание, - однако, какие всё-таки мы
рабы».
Не помню, как я добрался до своей
кровати, как разделся и лёг. Проснувшись утром, разбитый и не выспавшийся, я
ещё раз с неприятным чувством вспомнил вчерашние события.
Сердце стянуло тоской жестокой
неудачи и огорчения. История со стариком и похождением в его злополучный дом
вспоминалась теперь как полуночный бред, как дурной сон, как пустая трата
времени, не случись которой, всё было бы хорошо. Вчерашний день хотелось
забыть, как можно скорее.
Голова разламывалась. Тревога не
покидали мою душу целый день. Я не мог обрести покоя и жил в ожидании
наказания. Беседа в канцелярии никак не шла у меня из головы.
Это продолжалось два дня, пока не
подошёл Охромов.
-Ну, что?.. Ты надумал? – спросил
он, тряся кулаками в карманах и щурясь на один глаз, то ли от того, что ему в
глаз било солнце, то ли от ощущения своего превосходства надо мной, разбитым и
раздавленным.
-Чего надумал? – не понял я сразу.
-Ты что, забыл наш разговор в баре?
– удивился Гриша.
-Нет, не забыл.
Мне не хотелось с ним разговаривать:
пережитые события полностью поглотили меня ожиданием кары. Кроме того, я
понимал, что проблема с долгом куда страшнее и опаснее всех тех событий,
которые сейчас переживал, но словно страус прятал голову в песок: история с
долгом пугала и отталкивала своей неразрешимостью.
«Всё гениальное просто, - пришло мне
на ум, - но простота – хуже воровства! Тогда по закону треугольника, что же
тогда гениальность по отношению к воровству?!.»
Чтобы хоть как-то разрядить
обстановку, я спросил Охромова:
-Знаешь, что со мной произошло?..
-Что? – живо заинтересовался
приятель, поскольку вопрос прозвучал так интригующе, будто я хотел ему
поведать, что после его ухода из пивбара на меня свалился миллион.
Вдруг я поймал себя на мысли, что
хочу рассказать про старика и его логово только затем, чтобы хоть кто-то знал,
что я прокололся с «самоходом» не из-за мальчишеской глупости, а в силу
серьёзных обстоятельств. Но тут же решил, что не стоит выдавать тайну, быть
может, даже глупую, ради для того, чтобы хоть кто-то знал, что я не простак и
не позорник. Опаздывать из увольнения считалось среди курсантов делом не
зазорным, хотя и наказывалось командованием, опаздывать же из «самоволки» в
курсантской среде считалось проступком неприличным, и мало того, что
наказывалось начальством, но и для уважающего себя курсанта было клеймом
позора. Не умеешь – не берись!..
-Да нет, ничего, - я поплёлся прочь.
-Постой! – Охромов догнал меня,
потянул за плечо и развернул к себе. – Постой!..
Я терпеть не мог, когда со мной так
поступают: вот так хватают, разворачивают, когда, вообще, ко мне прикасаются,
принуждая к чему-нибудь, и потому едва не двинул Грише по физиономии. Когда же
он попытался трясти меня за плечо, я уже не выдержал и вспылил, в ярости
пытаясь сдёрнуть его руку со своего плеча. Но пальцы Охромова лишь крепче
вцепились в отворот моего кителя. Он был сильнее меня, и моя попытка оказалась
тщетна.
«Настроение итак паршивое, а тут ещё
этот козёл прицепился», - подумал я.
Курсанты, вообще, любители
посмотреть на выяснение отношений с помощью кулаков, поболеть, посочувствовать,
подсказать в трудную минуту стычки. Ну а, когда дерутся приятели, тут не
удержатся в стороне даже самые ленивые и равнодушные к подобным вещам. Поэтому,
едва мы с Охромовым сцепились, как сразу же вокруг нас образовалась кучка
болельщиков: все знали, что мы с Охромовым – «братаны» по жизни.
Однако, кроме этой немой сцены, да
нескольких минут насупленного стояния потом вот так, сцепившись, ничего
интересного в коридоре не произошло: настроения драться, хотя я и был взбешён,
не было никакого.
Мериться со мной кулаками в планы
Гриши тоже, видимо, совсем не входило. И потому пару минут мы постояли друг
против друга, ожидая, что драку начнёт другой, но ничего больше не происходило.
Народ, поняв, что «кина не будет»,
стал расходиться.
-Чего ты от меня хочешь? - спросил я
у Охромова.
-Надо поговорить, - примирительно
ответил он.
-Говори.
-Нет, здесь не могу….
Я, довольный тем, что не получил при
всём честном народе по морде, направился к выходу из казармы, с удовольствием
слыша позади себя его шаги. Вслед нам смотрели десятки любопытных глаз. И это
было моей маленькой победой над Гришей.
С четвёртого этажа общежития мы
спустились на улицу и через плац перед зданием прошли на спортивный городок.
Я глянул на верх. В окна смотрели
самые любопытные: если вдруг драка начнётся здесь, то они всех «свистнут
наверх», в смысле - вниз. Некоторые подозревали, что драка ещё впереди.
-Хочу услышать твой ответ насчёт
моего предложения, - Охромов тоже глянул на окна казармы, обернувшись назад. –
Разве ты не понимаешь, что нам его надо сделать, иначе обоим крышка?! Можно
«кинуть» кучу «лохов» здесь, но люди, которые занимают такие деньги, с нам из
города уехать не дадут. У них всё повязано! Тем боле, что я поручился за весь
долг, и мне его надо отдавать весь, даже если ты прыгнешь в сторону и скажешь,
что ничего не знаешь. А одному мне не справиться.
-Хорошо, - согласился я. – Только
зачем так грубо? Ты же знаешь, что я не терплю, когда ко мне протягивают руки.
Ты, конечно, посильнее меня, но сдачи получить можешь….
-Ладно, забыли, - примирительно
согласился Гриша. – У нас на разборки времени совсем нет!..
-Тогда валяй, рассказывай, что там у
тебя за выгодное дело, которое нас спасёт.
Охромов рассказал мне, что кредитор
предложил ему дельце:
-… С одной стороны дело
действительно плёвое, и не понятно, почему он собирается простить нам за него
наши долги, да ещё и столько же отвалит. Но, если подумать, то в нём есть доля
опасности и риска. Я бы не стал тебе рассказывать про него, не заручившись
твоим согласием. Но сейчас я тоже рискую, потому что у меня нет другого выхода.
Мне нужны деньги, много денег. И я предлагаю тебе стать моим компаньоном, но
очень выгодном деле. Я даже не просто предлагаю тебе это. Я даже не прошу тебя
об этом, а требую от тебя участия, иначе я пропаду.
-Хорошо, ты тут так много наговорил,
но я не услышал ни одного слова о самом деле.
-А как ты смотришь на моё
предложение? – поинтересовался Охромов.
-Честно говоря, никак.
-Почему?
-Почему? Да хотя бы потому, что ты
тараторишь, тараторишь, но я так и не узнал, что за дело надо сделать. По всей
видимости, тебе навязывают какую-то крупную авантюру, иначе люди, которые тебе
это предложили, идиоты. А это мало похоже на правду.
Охромов задумался, нахмурил к
переносице брови и, наконец, ответил:
-Хорошо, я расскажу. В общем, надо
ограбить одно частное собрание, архив с какими-то редкими и ценными книгами.
Люди готовы заплатить. Хватит и с долгами расплатиться, да ещё и покутить.
-Заманчиво звучит!.. Но я не верю, -
ответил я.
-Но мне-то ты можешь поверить?!. Я
же твой друг!
-Тебя тоже могли вокруг пальца
обвести….
Я был разочарован: дело, даже со
слов Охромова, уже не казалось таким простым и лёгким, как он до того
рассказывал.
Гриша долго молчал, ковыряя носком
сапога перед собой землю, потом заключил:
-Послушай! Если ты согласишься, то
все твои долги я перевожу на себя: как в училище, так и в городе. Одно твоё
согласие – и у тебя долгов нет! ... Они становятся моей проблемой! Разве это не
гарантия того, что дело стоящее?..
Я задумался. Было заманчиво вот так,
вдруг, сбросить со своих плеч тяжёлую глыбу непомерного долга, погасить который
я был не в состоянии. Только теперь я вдруг признался самому себе, что, не
смотря на все прочие неприятности, это тяготит меня больше всех прочих
напастей: глубине души я думал о долге ежесекундно. Ради того почувствовать
себя свободным, я готов был рискнуть, и потому ответил:
-Хорошо, я согласен.
Лицо Охромова просияло:
-Ну, спасибо! Поверь, кредитор наш
очень надёжный человек: он выкупил мой карточный долг!..
-Карточный долг? – изумился я. – Ты
что, в карты играешь?
-Хм…. Сейчас уже нет. Но с тех пор,
как рассчитался с карточным клубом, больше туда ни ногой. Он помог мне закрыть
долг!.. Мне никто бы не смог помочь, ни друзья, ни родители. А он,
представляешь, рассчитался за меня!..
-Представляю. И много, если не
секрет, у тебя было долга?
-Около пятнадцати тысяч.
-Сколько?! Ничего себе! И он
заплатил?!...
-Ну, да, заплатил….
-Да, влип ты, парень, - сказал я
озадаченно.
-Это почему же?
-Не знаю, мне так кажется.
Охромов замолчал, задумавшись.
-Возможно, ты прав, - сказал он,
наконец. – Но не всё так плохо. Просто человек помог мне, когда было мне плохо.
А теперь мне надо сделать то, что он просит. Вот и всё!
-Да, но пятнадцать тысяч за красивые
глаза никто не выложит! С ума сойти! Пятнадцать тысяч!..
-А он и не просто так выложил.
Недавно он нашёл меня и сказал, что у него сейчас очень плохо с деньгами, и мне
нужно срочно вернуть ему долг…
-Поэтому я и говорю, что ты влип. Но
ты влип даже не тогда, когда он заплатил за тебя такие сумасшедшие деньги, и
даже не тогда, когда ты проиграл их! Ты влип, когда пошёл играть на деньги в
карты! Это же шулеры!.. Что ты теперь собираешься делать?
-Я сказал ему, что у меня таких
денег нет….
-Как ты не можешь понять, что он
тебя уже купил?!
-Свои соображения оставь при себе. Я
убедился, что этот человек настоящий товарищ.
-Ну да, а я тебе не товарищ?! Ты мне
даже ни разу не заикнулся, что играешь в карты!
-Но ведь ты же всё равно не смог бы
за меня заплатить…
-А он смог! Он смог! Я тебе ещё раз
говорю, что он тебя купил. И, вообще, напрасно ты связался с этой уголовщиной.
Карточный дом…. Там таких, как ты, дураков только и ждут, чтобы обуть.
-Откуда ты знаешь?..
-Слушай, Гриша! Если бы ты был мне
настоящим другом, то рассказал бы о своём опасном увлечении ещё тогда, когда
только собрался им заниматься, а не теперь, когда пора заказывать панихиду.
-Что ты несёшь?!... Какую
панихиду?!... Не надо меня раньше времени хоронить! – обиделся Охромов.
Глава 9
Позволю себе небольшое отступление
от увлекательного повествования о своих приключениях, поверьте мне не таких уж
радужно-романтичных и даже вовсе не романтичных, если они происходят не где-то
и не с кем-то, а с тобой самим, если ты участвуешь в них, рискуя своим
здоровьем, благополучием и даже самой жизнью. Все краски романтики сразу
куда-то исчезают, едва мало-мальски опасные приключения начинают преследовать
тебя помимо твоей воли в жизни, и ты уже сам не рад, что на свете бывает такое
… и не только в книжках, но и наяву.
Стоит ли говорить, что я вовсе не
желал того, о чём рассказываю. Но что уж поделаешь, если всей своей беспутной
жизнью сам приготовил себе столько опасных и многотрудных испытаний,
свалившихся на меня именно в тот момент, когда это меньше всего ожидалось и
менее всего было мне нужно.
Да, что ни говори, а время для
приключений, тем более таких, было не самое подходящее. Вот-вот должен был
состояться выпуск, и мы, вчерашние курсанты, должны были расстаться с училищем
навсегда. Надо было напрячься, чтобы хоть как-то поправить свои дела и более
менее достойно покинуть его стены. А тут свалились такие напасти.
Да, но я хотел всё-таки отвлечься от
темы и поговорить немного о женщинах, а, если точнее, о взаимоотношениях,
которые складывались между курсантами и молодыми представительницами
прекрасного пола, населяющими город, где имело счастье или несчастье
располагаться наше военное училище.
Взаимоотношения эти заслуживают
внимания, поскольку именно из-за них-то у меня появилась…. Но! Всё по порядку!
Итак, отвлечёмся во славу прекрасного пола! … Всё по порядку….
«Ох уж, эти женщины!» - воскликнут
мужчины.
«Ох уж, эти мужчины!» - ответят
женщины.
«Ох уж, эти отношения полов!» -
дружно возгласят и те, и другие.
Но … куда от них всё-таки денешься?
Это сама жизнь, и, причём, большая её часть.
Драмы, трагедии, катастрофы. … Почва
всего этого – половые отношения и те страсти, подспудные интересы и желания,
возникающие в связи с ними.
В каждом городе, а это, как правило,
большие города, не меньше областного, где есть военные училища, отношения
курсантов с местным населением складываются по-разному. Я бывал в гостях у
многих своих друзей, учившихся со мной в суворовском училище, и имею право
сказать, то контрасты разительны.
Дело в том, что во многих крупных
городах с населением близким к миллиону, как правило, военных училищ не меньше
двух. Конечно, есть такие города, где их вообще нет, но речь не о них. Поэтому
там, где училищ больше одного, как говорится, у дам больше выбор кавалеров, да
и сами кавалеры не прочь помутузить друг друга и не только по причине того, что
не поделили женщин, но и в силу глубокой нескрываемой неприязни к другим родам
и даже видам войск. И это помимо того, что стычки с гражданскими парнями также
регулярны и не редки. В таких городах существуют поклонницы у каждого училища,
и каждая девица, не питающая глубокого отвращения к военным, рано или поздно
должна определиться и отдать предпочтение одному из училищ, а, вернее, его
представителям или представителю, в зависимости от потребности в количестве
(про качество разговор особый).
Так вот, в таких крупных
конгломератах и сосредоточениях накопителей отборных самцов, извиняюсь за
сравнение, какими являются военные училища, завязываются тугие узлы сложнейших
и противоречивых отношений.
Хорошим примером тому могли бы
служить такие города, как Харьков, Ленинград, Москва, Свердловск, да и ещё
множество других.
Возьмём, к примеру, Харьков.
Здесь прижилась и коренилась с
незапамятных времён жестокая вражда между авиационным училищем, танковым,
ракетным, да ещё несколькими другими. Только и держись! Если в патруле «синие»
погоны, то ловят пушкарей и танкистов, - своих не трогают. Если в город вышел
патруль танкистов, те ловят и волокут за малейшей придиркой в комендатуру и
летунов, и ракетчиков. И это не касаемо войсковых частей, что стоят в городе и
вносят свою лепту в этот гордиев узел.
Что же касается нашего училища, оно
было единственным в этом украинском областном центре. И наши курсанты были
здесь безраздельными властителями женских сердец в военной форме. Не было в
«мисте Сумы» более ни частей, ни других воинских формирований. Поэтому те
многочисленные страсти, характерные для других «сити», имеющих собой место
дислокации множества разнообразных армейских образований, миновали его.
Да, нам было намного проще!
Девочкам не надо было перебирать
между училищами. Они твёрдо знали, что если курсант, то с «артяги», а если
военный, то, значит, – курсант.
Но, может быть, в этой-то простоте и
была сама сложность нашей жизни. Именно эта вот эта однозначность и следующая
из неё предвзятость мышления местных жителей, а особенно – жительниц.
Вообще, представительниц прекрасного
пола, возраста «близкого к юному» и моложе, по отношению к курсантам можно было
разделить на несколько групп поведения.
Ну, во-первых, самые умные что ли,
или осторожные, или… как их ещё назвать? Эти вообще никогда не касались
курсантской среды, ни разу не пытались познакомиться с кем-нибудь из курсантов.
Мотивы были самые разные. Одни были на короткую ногу с городской
субкриминальной «блататой» и держали «фишку», потому что там с такими не
церемонились. Питая подспудное презрение к военным вообще и к курсантам, в
частности, местная блатная публика не подпускала к себе таких девиц и на
пушечный выстрел, разве что пользовалась ими, как постельной подстилкой при
случае, но не более.
Вторая группа состояла из девочек,
однажды по своей наивности и неопытности связавшихся с курсантами. Но лишившись
самым глупым и далеко не романтичным образом невинности, да ещё и испытав при
этом надругательства с их стороны, интимные или публичные, подпалив, так
сказать, основательно крылышки, они уже опасались повторять подобные
знакомства, взяв в голову нехорошее предубеждение против военной формы вообще.
Третья группа представляла собой
немногочисленный отряд девушек, задавшихся целью или, давайте назовём это
по-другому, – мечтой: выйти замуж за военного. И не просто военного, а за
офицера; есть же ещё и прапорщики, в конце концов.
Эти общались только с курсантами.
Конечно, у каждой из них судьбы складывались по-разному, но многие из этих
расчётливых девиц достигали своей цели.
Четвёртая группа состояла из девочек
лёгкого поведения. Среди них были и искательницы приключений, и просто любящие
повеселиться особы, от которых в городе уже все шарахались, а то и вовсе
больные молодые женщины, - что скрывать, бывают и такие; я имею в виду особый
род женской болезни, некую половую ненасытность, сродни обжорству, что делает
обладательницу таковой несчастной рабой своего неуёмного желания. Этим не нужно
было от курсантов ничего, кроме весёлого вечерка и, по возможности, такой же
развесёлой ночки. Как говорится: «Ночка тёмная была!»
Вот, пожалуй, и все основные группы,
внутри которых были, бесспорно, различные вариации и отклонения.
Ну, это что касается городских
девочек в отношении курсантов. Кстати, и не только городских, потому что в
гражданских ВУЗах города учились и иногородние, и сельские девицы. Этих можно
было встретить в третьей или в четвёртой группе, очень редко в первой, и уж почти
никогда – во второй.
А как же относились к девочкам
курсанты?
Здесь «групп» было значительно
меньше.
Вообще, мужчины в своём большинстве,
как известно, проще смотрят на взаимоотношения с женщинами, чем те сами. В
этом, кстати, кроются многочисленные беды слабого пола, часто обманывающегося
собственными иллюзиями. Но всё-таки я попытаюсь выделить среди курсантов, по
крайней мере, три группы.
Ну, первая, это, пожалуй,
бессовестные повесы и прожиги, не желающие от женщины ничего, кроме собственно
женщины. Эти самцы перепортили множество наивных и глупеньких «самочек», но в
основном развлекаться предпочитали с разведёнными дамами, не претендующими ни
на что, кроме лёгкого общения, скрашивающего их одиночество, и постели.
Разведённые, конечно, -
разведенными, но хотелось порезвиться и с более юными, невинными и наивными
созданиями! … Что правда, было более рискованно. Вот потому наши повесы и
кутилы «опекали», в основном, иногородних и сельских девиц, родители которых
были далеко, и те не могли серьёзно вмешаться и учинить скандал. Иногда под их
влияние попадали и местные, - городские, - девицы из тех, что любили
повеселиться и провести время в какой-нибудь безалаберной компашке.
Среди таких вот курсантов-повес было
много людей изобретательных на всяческие увёртки, пронырливых и «скользких».
Они не только не гнушались называться чужими, но, иной раз, и придуманными
именами и фамилиями.
Помнится один случай, - а сколько я
таких насмотрелся за четыре года!
Пришла в училище как-то одна девица,
и к начальнику училища.
«Я, - говорит, - беременная от
вашего курсанта. А он от меня скрывается!»
Такие случаи были не редкость, и
начальник училища нисколько не удивился: мало ли что в жизни бывает. Ну, и
говорит девице этой: «Хорошо, если такое случилось, мы поможем вам найти «папашу»,
но только скажите нам его фамилию, имя, с какого он курса! Иначе как?! … Нам
его не найти: в училище-то не две, не три и даже не пять сотен курсантов –
полторы тысячи!..»
А девица и выдаёт: зовут его, -
говорит, - «Валик Торсионный!»
Генерал про себя-то смеётся: сам
ведь курсантом был, а девице отвечает: «Извините, девушка, но курсантов с таким
именем и фамилией у нас в училище нет! И, вообще, фамилия такая крайне редко
встречающаяся!»
Вот такие дела. Девчонка, ясное
дело, в слёзы. А что делать?!. И поделом, не будет такой доверчивой и наивной.
Жалко её, конечно, но кто виноват, что нет у неё технических знаний, а никто ей
не подсказал, что валик торсионный – это нечто из области ходовой части
бронетанковой техники.
Бывали и другие случаи, но суть всех
оставалась в том, то девчонок всегда подводила наивность, доверчивость, узость
кругозора и неграмотность. Но что уж тут поделаешь: такая, значит, у них
невезучая судьба!
Вообще, хочу заметить, хорошим
девчонкам в общении с «курсачами» не везло больше всего, потому что они как раз
наивными-то и были.
Втора группа – продуманные товарищи,
заводившие связи по расчёту. Их в училище было немного. Они искали знакомства с
дочерями училищных полковников и городской элиты, старались быть им примерными
кавалерами, а, в последствии, и мужьями. Но где расчёт, там нет любви и
страсти, и потому эти тоже искали любовных приключений на стороне и были даже
более изощрёнными в подлости, чем откровенные гуляки.
Третья группа представляла собой
тех, кто либо не лишился ещё благородства и остатков чести, либо был застенчив
и скромен. Иные из них заводили знакомства с девушками, но часто сами попадали
в ловко расставленные сети. Другие же и вовсе всю учёбу в училище
монашествовали, ни разу так ни с кем и не познакомившись. Нет, это не были
сухари, да и никакими видимыми сексуальными болезнями не страдали, но всё же –
вот такой у них был образ жизни – знакомств с прекрасным полом они не только не
заводили, но и, надо сказать, прямо-таки избегали. Конечно, среди таких
курсантов было немало тех, чьи «половинки» пассинарных отношений были вдалеке,
ждали их в других городах, откуда они приехали учится, но хватало и влюбчивых,
способных страдать от своих чувств парней, любовь которых часто была обращена к
женщинам, совершенно не обращавшим на них внимания.
Ну, вот, теперь, когда всё стало
понятно, невольно хочется спросить: а к какой из перечисленных категорий,
собственно говоря, относился я?
Ответить не просто. Наверное, сперва
я принадлежал к последней категории, но потом как-то «поумнел» и переместился
во вторую. Однако не смог в ней удержаться, и последние курсы училища
предавался гульбе и кутежу.
Когда я только поступил в училище,
то оставался юношей, не только не имевшим опыта в постели, но даже никогда и не
любившим. Согласитесь, что в наше время факт этот довольно редок и заставляет
задуматься. Тем более удивительно, что до того я провёл два года в стенах
«кадетки», что отнюдь не способствовало воспитанию скромности и кротости нрава.
Первых два курса серьёзных знакомств
с женщинами у меня тоже не получалось: то ли времени не хватало, то ли время не
пришло. Судьба не располагала к тому, чтобы послать мне любовные переживания.
Впрочем, я и сам не очень-то старался завести какие-нибудь знакомства.
Однако на третьем курсе меня самого начало
заедать, что за два года я не имел ни одной любовной связи или истории. Не то
что бы мучилось в тоске сердце, но самолюбие…. Оно не давало мне уже покоя.
Ведь престиж курсанта во многом зависел от числа его любовных похождений и
разнообразия успехов на фронте общения с противоположным полом, от количества
его побед над женщинами.
К тому времени, когда мы перешли на
третий курс, мало кто не хвастался хотя бы одной своей романтической историей.
Некоторые выдавали их дюжинами и, конечно же, придумывали их в подавляющем
большинстве. Особенно много таких рассказчиков появлялось после отпусков,
потому что никто не мог опровергнуть то, что якобы происходило с ними дома. И
даже «скромники» вдруг представали сексуальными героями, … пусть не первой
величины, но к ним уже не было никаких «претензий»: они становились «своими»,
такими же, как все.
Выдумывать то, чего не испытал, мне
было противно. Я ощущал в душе неприятный осадок, когда случалось врать, чтобы
не ударить в грязь лицом перед сверстниками ещё в далёком детстве, хотя и темы
для вранья были до ничтожества пустяковыми. И сочинять про себя любовные
приключения секса у меня просто язык не поворачивался, может быть, просто не
хватало мужества и смелости описывать нечто непознанное.
Да, на третьем курсе я всё ещё был
девственником, и даже не целованным мальчиком. И признаваться в этом парню в
таком уже возрасте было крайне постыдно, особенно перед себе равными. Во всяком
случае, такое признание не делало ему чести.
Я подозревал, что многое из того,
что рассказывают в курилках или на перерывах между занятиями, - чистейшая
«туфта» и выдумка. Во всяком случае, я уже знал, кто на что способен, и кто
рассказывает то, что действительно было, а кто сочиняет и импровизирует. То же
знало и большинство слушавших, но врать никогда не запрещалось, тем более, что,
зачастую, выдуманное звучало ярче и сочнее реального.
Тем не менее, как ни хорошо было то,
что я не обливал себя понапрасну грязью и не усердствовал в сочинениях на
любовные темы, сложилась такая обстановка, что моя персона стала перекочёвывать
в разряд белых ворон.
Это ужасно тяготило, создавало
гнетущее внутреннее состояние. Особенно больно было мне слышать, как за моей
спиной проходятся по поводу моей непорочности в различных вариациях. Шушуканье
задевало меня, резало по живому, не давало покоя.
И вот настал такой момент, когда моё
положение сделалось просто невыносимым. Я ощутил всю тяжесть отсутствия любви.
Моё одиночество вдруг предстало со всей пронзительностью и отчаянием. Пусть
молодой и красивый, но неизвестно, насколько красивый, и достаточно ли для
того, чтобы понравиться хотя бы одной женщине. Сомнения и тоска стали моими
верными спутниками в этот период, не давая мне покоя ни днём, ни ночью. Мне так
захотелось быть любимым, нравиться, знать, что где-то там, в городе, тебя ждёт
красивая девушка, что она будет ждать тебя не только сегодня и завтра, не
только здесь и сейчас, но и через месяц, через год, через десять лет, в любой
глуши, вдали от цивилизации. … Так мне хотелось.
Наверное, состояние, испытываемое
мною в те дни, и есть та прелюдия, что готовит человека к первому бурному
всплеску чувств, называемому первой любовью.
Не знаю, возникает ли оно от
предчувствия грядущего или, наоборот, является его причиной, той благодатной
почвой, попав в которую, прорастает это удивительное семя, но … Не прошло и
недели дикого отчаяния, как я по уши влюбился и совсем потерял голову от
юношеской страсти.
Такого потом не бывало со мной
никогда, да и не могло быть: первая любовь чиста и неповторима так же, как и,
почти всегда, несчастна: слишком много новых эмоций. Разве буря или ураган
могут быть созидательными, даже в чувствах и отношениях?
Заинтересованные пикантными
подробностями, вероятно, не удержатся, чтобы не спросить: а в кого же я так
сильно влюбился? Не могу ответить – судите сами. Просто трудно быть объективным
к тому, кого любишь или ненавидишь.
Да, едва у меня возникла
необходимость, потребность в любви, как я тут же влюбился.
И увлечение это было довольно
странным и необычным.
Дело в том, что наши с «Охромычем»
интересы пересеклись и крепко схлестнулись на почве этой влюблённости.
Ну, разве не странно, когда два
закадычных друга одновременно влюбляются в одно и тоже юное существо и после не
знают, что им делать.
Так вот случилось и у нас. Произошло
это сразу после Нового года, в середине января.
К нам в училище иногда хаживали на
экскурсии в училищный музей школьники и учащиеся из местных «бурс». А окна
класса, где наш взвод занимался самостоятельной подготовкой, выходили с фасада
главного здания, и оттуда хорошо было видно КПП и идущую от него асфальтовую
дорожку, окружённую стенками невысокого кустарника по обе стороны, по краю
обширных клумб и нарезов земли, усаженных яблонями.
В тот день мы, как обычно на
самоподготовке, собрались на задних столах и то ли спорили, то ли обсуждали
какие-то впечатления.
В это время за окнами показалось
десятка с полтора вот таких вот экскурсанток, направляющихся к главному входу
училища.
Все, кто в классе был, к окнам
прилипли и давай пялиться, обсуждая, на идущих внизу девчонок. Стояло бы на
дворе лето – покричали бы им, распахнув окна. Но зимой окна наглухо задраены.
Поэтому ограничились «погляделками».
Экскурсия зашла в парадный подъезд
училища, и стали расходиться по местам. Но тут у кого-то возникло предложение
послать к девчонкам пару делегатов, чтобы пригласили нас к себе на вечер -
потанцевать. Предложение поддержали, и я вызвался идти. Ну, и Гришка,
естественно, тоже. Никто не возражал, и мы отправились.
Долго ждали, пока девчонки выйдут из
музея, а потом пошли за ними следом, не решаясь подойти и не зная, с чего
начать. Я на такое, вообще, пошёл впервые, ну, а Гришка был чуть поопытнее.
Мы проводили делегацию почти до
самого КПП, надеясь, что на нас обратят внимание: было такое время, что по
территории училища, кроме нас двоих, никто праздно не разгуливал. Но никто
почему-то внимания на нас не обращал, и только когда первые из числа
экскурсанток во главе со своей руководительницей зашли в двери
контрольно-пропускного пункта, Гриша, почувствовав, что ещё несколько секунд –
и будет поздно, догнал сзади идущую группу и заговорил с несколькими тут же
остановившимися и отставшими от других девчонками. Увидев, что на подходе ещё
один «курсантик», все, кроме двух, удалились, чтобы не мешать.
Почему остались именно эти две? Игра
случая, но … какая жестокая!
Одна из них с первого взгляда своего
на меня запала в душу.
На вторую я даже не обратил
внимания, хотя ничего не могу сказать против её внешности: она была даже
посмазливее.
Что-то другое, более глубокое, чем
внешность, покорило меня, пленило и заставило забыть всё на свете.
Странное это было чувство.
С той минуты, как оно поселилось в
моём сердце, жизнь для меня наполнилась каким-то новым, радостным смыслом,
неким ожиданием чуда, которое сладостно томило моё существо, но в то же время
пронзительная тоска по ней сделалась моей спутницей, и с той минуты я
ежесекундно желал быть рядом с ней и чувствовал, как задыхаюсь в стенах
училища, как рвётся к ней моя душа. Мои глаза хотели видеть её, мои уши желали
наслаждаться её чарующим голосом, в котором, как ни странно, не было-то и
ничего особенного. Я пытался и не мог понять, что влекло с такой неудержимой,
всепобеждающей силой меня к этой простой девчонке, какие тайные законы
существования и развития всего сущего столкнули нас с ней, и что не даёт мне
теперь покоя, но в то же время доставляет радость и заставляет мой ум рождать
сладкие грёзы….
Наша первая встреча длилась не
больше минуты. Но что это была за минута!
Она перевернула внутри меня целый
мир, поставив всё с ног на голову.
То, что до сих пор казалось важным,
ушло куда-то на задний план, а то, что казалось мелким и второстепенным, стало
вдруг самым важным и самым главным в жизни!
Смятение чувств: удивление, восторг,
смущение, подавленность, тоску, надежду, печаль и радость – вот что испытал я
за это короткое время. Мне казалось, что она, хотя и говорит с Гришей, но
обратила внимание на меня, что я понравился ей, конечно же, больше, чем он.
Так мне хотелось.
Гриша говорил с ней, а я пытался
говорить с оставшейся с ней подружкой, чтобы не создать неловкой ситуации, но
то и дело посматривал исподтишка в её сторону. Она тоже бросала на меня
взгляды, и это обнадёжило меня. А подружка её, хотя я и пытался с ней о чём-то
говорить, наверное, понимала, что выглядит во всей этой сцене натуральной
дурой, потому что не могло быть не заметно, что оба парня запали на её подругу.
Но … волшебная минута закончилась, и
мы расстались.
Девочки пошли исчезли за дверями
КПП, а мы с Охромовым побрели, оба под впечатлением от встречи восвояси. Я тут
же поспешил поделиться впечатлениями, а заодно и узнать, каковы мои шансы. Мне
очень тогда хотелось, чтобы интерес Гриши к Ней не выходил за рамки договора о
вечеринке. Но как же я жестоко ошибался!..
-А эта, с которой ты болтал, как
тебе, ничего? – спросил я у приятеля, стараясь сохранять спокойствие в голосе.
-Да, ничего, - как-то уж очень
странно ответил Гриша.
-А о чём вы с ней говорили?
-Да, так, телефон у неё взял, -
сказал он это со спокойствием и какой-то уверенностью, приведшей меня в уныние.
Телефон Её – был серьёзным козырем в
его руках, лишавшим меня всех надежд. Но от того я лишь почувствовал желание
хотя бы ещё раз встретиться с ней во сто крат большее, чем испытывал прежде.
Мне не хотелось даже на миг представить, что это была наша последняя встреча.
Однако, что я мог поделать. У Гриши было гораздо больше опыта по части, как
заводить знакомства, а мой опыт стремился к нулю!..
-Слушай, вы хоть за дискотеку с ней
договорились? – попытался я подействовать на совесть друга.
-Я сказал, что позвоню ей, и мы обо
всём договоримся, - ответил Охромов тоном, дающим понять, что разговор на эту
тему ему не очень-то приятен.
Вот так всё это и случилось. Потом я
несколько дней томился в неведении, пытаясь окольными путями выяснить, как
обстоят у друга дела на фронте общения с Той, которую я никак не мог забыть. Я
впервые в жизни жутко ревновал. Мне казалось, что всё получилось очень
несправедливо, что не Гришка, а я должен был с ней познакомиться. И я хотел и
не знал, как исправить эту ошибку судьбы. Я тогда ещё думал, что судьбу можно
кроить и перекраивать по своему желанию. Но судьба никогда не ошибается. Она не
бывает ни права, ни виновата. Она такова, какова есть, только и всего! Её не
исправишь, как не испрямишь горбатого.
Да, теперь я жестоко страдал и, сам
не знаю, как, по прошествии нескольких дней мучений подошёл к Охромову и
признался, что Она мне понравилась тоже, что я хочу знать её телефон.
Гриша ответил, что телефон надо было
брать «тогда». Но теперь, признавшись, я уже не отставал от него до тех пор, пока
не заполучил заветные пять циферок её номера. Охромов всё же снисходительно
угостил меня Её телефончиком, но предупредил, что уже звонил ей, и у них уже
наметилось кое-какие отношения.
Тем же вечером я попытался позвонить
Ей тоже, но, услышав в трубке её волшебный, мягкий, чарующий голос, произнёсший
тихо и вежливо: «Алло, я вас слушаю», - потерял дар речи и не смог ничего
ответить, и лишь положил на рычаг телефона-автомата трубку, но тут же,
почувствовав острую боль в груди и неописуемую злость на себя за своё молчание
и малодушие, снова взял трубку и, опустив в монетоприёмник две копейки, снова
набрал её номер, поторапливая едва вращающийся в обратную сторону диск
номеронабирателя.
Однако, это произошло снова: услышав
в трубке её вежливый ответ, я опять положил её на место.
Так я звонил, пугался, бросал трубку
и снова звонил Ей до тех пор, пока, наконец, это Ей не надоело, и пока она не
сказала:
-Если вы хотите поиграть в
кошки-мышки, то делайте это где-нибудь в другом месте. А мне больше не звоните,
я всё равно трубку не подниму.
Так и закончила мои терзания у
телефона, причём интонация её очаровательного голоса нисколько не поменялась и
осталась такой же вежливой и до безумия предупредительной.
Я точно совсем с ума сошёл. И, хотя
разговора вовсе не состоялось по причине моей великой робости, которую так и не
смог побороть, в ту ночь не мог заснуть от не вмещающейся в меня любви к ней до
самого утра.
Я вспоминал звуки Её голоса, каждое
слово, что произнесла Она, отпечаталось в моей памяти. Я был в восторге от
того, что Она вообще со мной говорила, даже не догадываясь, кто беспокоит Её в
столь позднее время.
Я лежал в своей постели и радовался,
вспоминая каждый из этих глупых звонков по телефону, - хотя не было в них
ничего, что стоило вспоминать, - и настраивался позвонить Ей снова завтра
вечером и тогда уже сказать Ей о своих чувствах всё-всё-всё.
Больше всего я боялся, что опять не
смогу говорить. … Так оно и получилось.
Следующим вечером я снова не смог
сказать в проклятую телефонную трубку ни единого слова. И, удручённый этим,
решил никогда больше на звонить.
А между тем Гриша продвигался в
отношениях с Ней всё дальше, и не скрывал от меня этого. Он с каким-то
превосходством, глядя сверху вниз и точно издеваясь, рассказывал мне, что Она
приходила к нему на КПП, и всё у них складывается очень хорошо. Я не находил
себе места от ревности. … Однако, и он допустил оплошность.
Как-то, в то же время, наш курс
устроил дискотеку в училищном спортивном центре.
На этом вечере мы с Гришей были в
разных кампаниях, народу на дискотеке было – не протолкнуться, и я-то уж был
уверен, что Охромов где-то здесь, среди танцующих, сейчас с Ней, а это значит,
что теперь они стали ещё ближе друг другу. Однако, как же я ошибался!..
После вечера прошло несколько дней,
которые показались мне самыми мучительными из всех прожитых мною, как вдруг
Гриша разоткровенничался со мной и признался, что «капитально обломался».
Оказывается, на той дискотеке он был
со своей прежней подружкой, которой собирался дать от ворот поворот. Но Она
сама, без приглашения, пришла на дискотеку и целый вечер наблюдала, как Охромов
танцует с другой.
На следующий день Охромов позвонил
Ей, а она спросила, с кем он был на вечере и почему не пригласил Её. Он начал
оправдываться, но Она и слушать его не стала….
После признания Гриши я почувствовал
некое подобие надежды, весьма унизительное, но тогда мне было всё равно.
С Ней у Охромова всё кончено!
Он довольно великодушно согласился с
этим, сообщив, что в субботу Она сама придёт на КПП. Сначала с Ней поговорит
он, а затем выйду к Ней я.
Я согласился.
После той субботы Гриша ушёл со
сцены нашего любовного треугольника, и Она была полностью предоставлена мне.
Сначала у меня с ней всё пошло
хорошо. Не знаю, как и получилось у меня, но состоялось даже нечто подобное
объяснению в любви к Ней. Правда, я не сказал прямо, что люблю, на это у меня,
видимо, не хватило духу, но признался, что Она нравится мне.
Мои переживания продолжались до
августа месяца и закончились полнейшим поражением, хотя всё это время я
пребывал в никогда ни раньше, ни позднее не испытанном состоянии эйфории.
Весь мир казался мне сотканным из
лёгкой пены, и даже самые большие в прежние времена неприятности, которые и
тогда не прекращали меня преследовать, не могли отнять у меня, выбить из души
того волшебного чувства влюблённости и томления.
Томление то было особенное, не то
томление по вожделенной женской плоти, которое пришло ко мне позднее, вместе с
грешным искушением. Это было чистое, светлое, полное светлых грёз томление по
будущему, которое всё время ускользало, едва мне казалось, что я вот-вот догоню
его. Это было романтическое чувство, которое преобразило весь мир вокруг меня,
сделав окружающее лишь колыбелью, в которой росло и полнилось моё счастье.
Однако первая влюблённость коварна
не менее, чем все прочие.
Да, Гриша ушёл со сцены и уступил
главную роль мне, начинающему. Он всё-таки был намного опытнее в отношениях с
женщинами и не сильно огорчался от того, что потерял ещё одну из них, даже не
смотря на то, что она ему нравилась. К тому же он был благороднее меня, а,
может быть, и умнее, и с истинным благородством и гордостью покинул этот
треугольник. Он не позволил выбирать за себя женщине и поступился ею раньше
даже, чем она успела произнести «нет».
Впрочем, Она так и не сделала
выбора. Это обстоятельства оставили нас вдвоём.
Я был счастлив до безумия, а Она, …
теперь я могу сказать это точно, решила: «Ну, что ж, раз так получилось…» Гриша
ей нравился, а остался, как его тень, я.
Едва мы остались, двое из троих, как
она тут же принялась уезжать на выходные и праздники, когда я думал увидеть её,
то в деревню к бабке, то в Харьков к сестре, которая училась там в институте.
От этого мои страдания невероятно усиливались и обострялись, и потому, чтобы
заглушить их и хоть немного отыграться, я познакомился случайно с другой
девчонкой, которая подвернулась мне при первом случае и, хотя нрав мой упорно
сопротивлялся этому насилию, начал усиленно культивировать с ней отношения,
ходить с ней по выходным в город, на дискотеки, в бары. В один из выходных, когда
я прогуливался со своей новой знакомой по Стометровке, одной из центральных
улиц города, а Она была в это время в отъезде в очередной раз, нас с моей новой
случайной, а потому впервые «взрослой» пассией «засекла» Оксана, та самая Её
подружка, с которой они тогда остановились в училище.
Мне сделалось нехорошо, как
последней шкоде, и я произнёс вслух, что это конец, но моя спутница не поняла,
что я имею в виду.
На следующий день я позвонил Ей с
самого утра, - из Харькова она должна была приехать ночным поездом, - и сказал,
что гулял вчера с кампанией, однако так и не набрался смелости сказать
спасительное: «Там была одна симпатичная девчонка, потом мы отделились от
остальных и гуляли по городу, но, в конце концов, я с ней расстался, потому что
не могу забыть тебя, хотя ты не очень-то жалуешь меня своим появлением».
К вечеру Она уже знала от Оксаны,
что та выдела меня в городе в Её отсутствие в обществе какой-то симпатичной
девушки, … и всё пошло прахом.
Мы поссорились, и я целых две недели
крепился, чтобы первым не позвонить Ей, но всё же не выдержал – и позвонил.
Мы помирились, но теперь мои
отношения с той, новой подругой зашли неожиданно так далеко, что я не знал, что
и делать.
Два месяца я не мог сделать
окончательного выбора.
Отношения с Ней питались моей
привязанностью, а отношения со второй держались на том, что я ценил её тягу ко
мне и хотел сам кому-то нравиться, иметь барометр собственной популярности у
противоположного пола, чтобы определять свои шансы на успех, свой базис и
потенциал.
За два месяца таких странных
отношений я растерял всё своё волшебное чувство любви и даже потерял доверие у
обеих, поскольку и той, и другой сторонами был уличён во лжи и «неверности».
Два месяца бесплодной растраты своих
чувств, и август расставил всё на свои места.
Случилось то, что и должно было
произойти.
Вторая нашла в себе силы уйти,
потому как поняла, что я в неё нисколько не влюблён, и что я настолько
неблагодарен, что даже не счёл нужным отказать ей, что было бы, по крайней
мере, честно. А с Ней… с Ней… С Ней всё получилось, как в конце настоящего
трагического любовного романа.
Всё кончилось тем, что я сидел одним
августовским вечером, почти ночью, в подъезде у Её двери, как побитый пёс, и
жалобно скулил, пытаясь таким отчаянным способом тронуть Её сердце. Я унижался,
и до чего чертовски приятным было это унижение. Я унижался перед любимой
женщиной, и чувствовал, что готов унизиться ещё больше, если только она скажет
«Прощаю».
Ради этого унижения, наверное, а не
из-за беспредельного бесстрашия, я мог в тот вечер выброситься из окна
подъезда, лишь только бы услышать от неё намёк, что это будет Ей приятно. Я
готов был стать половиком перед Её порогом, я хотел бы стать её любимой
собачкой и послушно бегать за ней на поводке. Я мечтал стать бесплотным духом,
чтобы быть при Ней везде и всегда, даже тогда, когда Она была бы наедине с
другими мужчинами.
Об этом, о своём Великом Унижении
говорил я с ней в тот вечер. Я знал, что вижу Её в последний раз, что это был
Последний вечер моей Первой любви. Я чувствовал это. И от того я плакал и
рыдал, сидя на бетонном полу у Её порога, от этого я говорил с Ней так
откровенно, как никогда после ни с одной женщиной, от этого я открыто изливал
Ей свою душу, препоручая Её воли подобрать её, утешить или растоптать.
Слабая надежда, что мои откровения
тронут Её сердце, откроют дорогу в него для меня, ещё теплилась в предсмертной
тоске в моей душе, добавляя своей грусти в чашу, переполненную страданием.
Да. … То был Вечер!
Ураган чувств родился в гом сумраке
в моей душе и покинул её вместе с горючими слезами. Все угольки надежды
погасли. Она не захотела подобрать моего цветка. Не тронули Её и мои страдания.
Для Неё видеть их было скорее забавно и утомительно, чем горько, и только из
чувства приличия, чтобы не обидеть, она не оказала мне этого, хотя я это понял.
Она не подобрала моего Цветка, но и не растоптала его, хотя я просил Её сделать
выбор и лаже сделать Это. Цветок моей души так и остался лежать на дороге
невостребованный, да так и завял….
Было потом много других женщин,
Видел и её я после Этого пару раз в городе. Но это была уже не Она. И не было
больше во мне той любви, что цвела когда-то, рождённая ею. И ни одна струнка
моей души ни разу больше не шелохнулась при виде её…
Глава 13
Охромов, и вправду, не заставил
долго ждать.
Через пару дней он подошёл ко мне и
шепнул:
-Готовься на сегодня!.. Вечером,
после отбоя.
-После отбоя?! – мне показалось, что
с меня достаточно и тех «залётов», которые уже на мне «висели». - Тебе не
кажется, что с меня хватит?!... Я у «Васи» бываю чаще, чем ты на свежем
воздухе! … Знаешь, Гриша, с меня уже хватит!
-Глупый, что он тебе может
сделать?!.
-Ты-то, небось, на ковре у комбата
не имел счастья стоять?! – возмутился я.
-Ой-ой-ой!.. Да уж не думай, что ты
у нас один такой герой!..
-Хотелось бы мне на тебя
посмотреть!..
-Ничего, стоял и, как видишь, –
выжил!.. Зато, сам посуди: денег будет столько, что хватит все долги отдать, да
ещё и останется! - Охромов перевёл дух, и, не дав сказать мне ни слова,
продолжил. – К вечеру подготовь спортивный костюм. … Только приличный! … Возьми
у Савченко: у него хороший, - и он сегодня, вроде, никуда не собирается.
Вечером, как только уйдёт ответственный, переодевайся и ко мне в комнату,
понял?!...
-Понял, - сказал я, думая: «Может,
отказаться, пока не поздно?»
-Ну, давай! – он хлопнул меня по
плечу, и мы расстались….
Тем временем шла подготовка в
первому «госу» - государственному экзамену, которых мы должны были сдать
приехавшей из Москвы государственной комиссии шесть.
Комиссия находилась в училище уже
неделю. Упорно ходили слухи, то её щедро поят, и это предвещало сдачу экзаменов
без особых трудностей: тройку-то бедному выпускнику не «зажал» бы никто.
Достаточно на экзамен прийти, дурака повалять, - и «трояк» у тебя в кармане!..
А что ещё надо такому прощелыге, как я, например, от этой самой государственной
комиссии?..
Конечно, слухи – слухами: такое
повторялось из года в год, но некоторые изрядно зубрили…. Хотя, в основном, в
классах самоподготовки курсанты держались с трудом. Взводных не было. Они тоже
устроили себе римские каникулы. Всё зависело только от замкомвзвода и
командиров отделений.
На занятиях царила непринуждённая
обстановка: даже если у «замка» было плохое настроение, и он никому никуда не
разрешал уходить, самые шустрые «смывались» под различными предлогами. И как
правило, только на передних столах в классе сидело несколько человек,
действительно усиленно готовившихся к предстоящему «госу».
Среди них был отличник, делающий
последние рывки к золотой медали. Надежда всей батареи – так его называли
командиры – сидела заткнув уши, обхватив руками голову и уйдя с головой в свои
конспекты и книжки.
Рядом с ним несколько
«краснодипломников» пытались загрести в свои мозги как можно больше информации.
У них ещё было время что-то ухватить, урвать, наспех запомнить, чтобы завтра,
толком не соображая, выплеснуть то, что останется в голове от впопыхах сегодня
заглоченного. Такая «учёба», даже не зубрёжка, а невообразимый марафон по всему
курсу обучения, достойный по скорости быть занесённым в книгу рекордов Гиннеса,
наполнял мозги лишь зыбкими, однодневными знаниями предмета, которым суждено
было кануть влету на следующий же день после экзамена: голова освобождалась,
чтобы принять следующую лавину аврально проглоченных залпом, но не усвоенных
книг, учебников, конспектов и пособий.
«Хорошисты» готовили шпаргалки и
«бомбы», - тетрадные листы, на которых обыкновенным почерком записывался ответ
на программный вопрос, а на экзамене, такая «бомба» подсовывалась, как только
что написанный текст.
В середине класса занимались друг с
другом троечники-тугодумы, которым было невдомёк, что тройки им итак поставят
по всем экзаменам, но были среди них и такие, что хотели получить, может быть,
даже тройки четвёрку. Пожалуй, они готовились усерднее всех, но, правда, толку
от этого было очень мало. На всех экзаменах они всё равно «плавали» с
неизменным успехом.
Самая сочная, колоритная часть
взвода, весь его «цвет» собирался на галёрке. Здесь люди, что тройку им всегда
поставят: государство на их обучение угробило уйму денег и не собиралось
отпускать теперь со службы двоечников-дармоедов, а, напротив, всячески желало
заставить их служить. Сидевшие здесь, знали наперёд, что у них будет всё
«о-Кей!», и потому даже пальцем не желали пошевелить, искренне полагая это
«бестолковкой». Всё время напролёт они спорили, разговаривали, травили
анекдоты.
Этот вечно неспокойный, бубнящий,
гогочущий, ржущий, подобно молодым жеребцам, рой, составлял противовес
сердитому, насупленному замкомвзводу, одиноко, словно орёл с вершины на ягнят в
долине, взирающему на них из-за стола кафедры.
На галёрке вечно что-то обсуждали, о
чём-то спорили и порой чуть ли не дрались, а хмурый замкомвзвод, напряжённо
наблюдавший творившееся в его присутствии безобразие время от времени, когда
совсем уже было невмоготу терпеть, окрикивал и одёргивал самых громкоголосых и
взбалмошных. Те, хотя и огрызались, но слегка утихомиривались на некоторое
время, но вскоре всё повторялось снова.
Дело шло к выпуску, и с каждым днём
горлопаны становились всё громче и наглее, чаще и чаще намекали сержантам, что
власти их пришёл конец….
День близился к концу.
Остаток самоподготовки, к концу
которой особо нетерпеливые начинали расползаться кто куда под любым предлогом
или в наглую заявляя, что уходят туда-то, на этот раз я досидел на удивление
самому себе до конца, выслушав все до последнего анекдота и от души
посмеявшись.
Вечером, спросив у Савченко
спортивный костюм, едва ответственный офицер хлопнул дверью казармы, я
прошмыгнул по коридору в комнату к Охромову.
Его соседи глянули на меня, как на
отпетого идиота.
Охромов тоже сидел одетый в
«гражданку», накрывшись сверху, на всякий случай, одеялом. Увидев меня, он
поинтересовался, взволновано вскинув брови:
-Ну, что, ушёл?
-Ушёл….
-Пошли! – Гриша сбросил с себя
одеяло.
Мы вышли в коридор, направившись к
выходу из казармы.
В расположении стоял уже обычный
ажиотаж. Не мы одни ждали ухода офицера. По одиночке и группами, переодевшись в
спортивные костюмы, бежали и шли к выходу искатели приключений, которых не
могли остановить ни строгие взыскания, ни угрозы или уговоры, ни что либо ещё.
Заручившись извечным «авось», они пёрли напролом, в наглую, как танки. И хотя
их не набиралось и человек двадцати, казалось, что в ночную вылазку идёт вся
батарея, и от того возникало нечто подобное ощущению невозможности остановить
уходящих, как воду, сочащуюся из пригоршней между пальцев, не смотря на все
попытки сжать их плотнее и удержать её.
-Нас уже ждут, - таинственным
шёпотом произнёс Охромов за порогом комнаты.
-Где? – я почувствовал странную,
недобрую дрожь во всём теле.
-В каком-то заброшенном не то музее,
не то архиве. Они обещали потом сказать.
-Кто это «они», если не секрет?..
Мы уже подошли к самому выходу,
переговариваясь так в полтона друг с другом, как вдруг на нас с размаху налетел
ворвавшийся в казарму с лестницы Аркашка Сомов под вполне понятной кличкой
«Сом». Вид у него был перепуганный.
-Назад! Назад! – кричал он, страшно
вытаращив глаза и жадно хватая ртом воздух после быстрого «взлёта» по лестнице.
На его шее крупно налилась, вздулась сизая, пульсирующая артерия.
Мгновенно, с закалённой курсантской
жизнью реакцией, ещё не сообразив даже, в чём дело, направлявшаяся к выходу
толпа разом бросилась врассыпную по своим комнатам.
Неимоверный шум от топота по
деревянному гулкому полу десятков ног, долетел, наверное, до первого этажа,
сопровождаемый заразительным идиотским смехом.
Гогоча, толпа вдруг забегала по
узкому коридору общаги, но пары через три секунд в коридоре не осталось ни
души. И лишь из дверных проёмов комнат то и дело высовывались головы самых
любопытных.
В казарму вернулся ответственный.
Офицер, видимо, специально
задержался у подъезда, и, как только на него наткнулся с размаху первый
самовольщик, попытался его поймать, а когда тот вырвался в темноте, - света у
подъезда общаги никогда не было, - бросился за ним вверх по лестнице вдогонку.
Как только ответственный переступил
порог казармы, любопытные головы, торчавшие в коридор из дверей комнат, сразу
исчезли.
В комнатах уже лихорадочно
переодевались, сдёргивали спортивные костюмы и кроссовки, прятали «криминал»
под кровати, в шкафы и чемоданы, ныряли в кровати, с головой закутываясь в
одеяло и делая вид, что видят десятый сон. А ответственный взяв с собой дежурного
по батарее, обходил комнаты, считая людей и пытаясь найти улики и
доказательства попытки массового ночного побега.
Найти ничего не удавалось, и тогда
офицер тыкал дежурного носом в то, что тот не проверил, как заправлено
обмундирование, и другую чепуху. Дежурный ходил за ним из кубрика в кубрик,
молча выслушивая претензии, а про себя, наверное, благодаря высшие силы, что
всё вот так удачно обошлось.
Вскоре они зашли и в нашу комнату.
Осмотрев её и убедившись, что все на
месте, офицер снова, в который раз, отчитал дежурного за беспорядок, а потом
всё же вышел и закрыл дверь.
Прошло минут пятнадцать.
Я, как и все самовольщики, лежал и
прислушивался к звукам в коридоре, пытаясь понять, ушёл ли уже офицер, потом,
потеряв терпение, выглянул в коридор.
Офицер всё ещё бродил от комнаты к
комнате. То и дело приоткрывающиеся одна за другой двери не давали ему
успокоиться и уйти домой.
В конце концов скрипение дверями
прекратилось, но зато началось усиленное шастание в туалет. И каждый
проходивший по коридору мимо канцелярии считал своим долгом заглянуть туда
своей прищуренной в притворстве, но совершенно не сонной мордой, чем ещё больше
убеждал ответственного, что в батарее не спят, а потому уходить домой нельзя.
Ответственный просидел в казарме ещё
битый час, пока, наконец, прекратилось и всякое хождение «в туалет», и
большинство самовольщиков, не выдержав такого испытания измором, просто уснуло,
а остальные поняли, что для ночного похождения не осталось ни времени, ни сил.
Пригревшись в постели, уснул и я,
сладко, безмятежно, как праведник.
На следующее утро, - ещё не прозвучала команда
«Батарея!.. Подъём!», - я открыл глаза, пытаясь понять, почему на мне
спортивный костюм, и кто меня так усиленно тормошит. Это был стоявший надо мной
Охромов.
-Что ж ты вчера заснул? – спросил он
укоризненно, когда я продрал очи.
-Да вот, так получилось, - пожал я
плечами. - Впрочем, вчера было без вариантов – ты же сам видел.
Охромов досадливо скривил рот.
-Да-а-а, теперь достанется. Нас ведь
вчера ждали. А ребята эти не любят, когда их подводят.
-А кто любит? – пожал я плечами
снова. – Ты-то, поди, тоже закимарил?
-Да, - сознался Охромов.
Мы договорились отложить задуманное
на другой раз, и я молил все небесные силы, какие только знал, чтобы этот
другой раз не наступил.
В тот же день мы сдавали
государственный экзамен по тактике.
Как и предполагал, мне поставили
безоговорочную тройку: на экзамене я промямлил что-то невразумительное и
бессвязное, неожиданно для самого себя покрывшись пурпурными пятнами стыда,
когда старый, седой подполковник, член государственной экзаменационной
комиссии, встал из-за стола и, подойдя ко мне, сказал, что, скрепя сердцем,
ставит мне тройку, а так, если бы всё зависело от него, поставил бы кол и
выгнал бы взашей из класса.
Где-то в глубине души мне было
досадно, что товарищи мои, казалось бы, меня ничем не лучше, вдруг показывают
не плохие результаты, хотя ещё вчера вместе со мной делали что угодно, но
только не готовились к экзамену.
Неожиданно для себя я оказался в
числе последних. Меня опередили даже наши тугодумы и «тормозами», что больно
задело моё самолюбие.
В честь сдачи госэкзамена всех, даже
заядлых нарушителей дисциплины, отпустили в увольнение.
А вечером я увидел Гришу. Под глазом
у него красовался большой фингал, старательно замазанный косметикой, а верхняя
губа была разбита и припухла.
-На улице пристали какие-то ослы, -
объяснял он всем и только мне поведал на ухо. –Это гонорар за работу!..
Когда мы смогли остаться вдвоём
Охромов поставил меня перед фактом:
-Надо это сделать, иначе мне хана! -
ему, видимо, здорово досталось, потому что по его гримасам можно было
догадаться, что били не только по лицу, и ему ужасно больно двигаться. - Они
ждали нас на машине под забором училища до двух часов ночи. В двенадцать пошёл
дождь, и они промокли, как собаки. Больше они не приедут, но, не дай бог, я не
сделаю обещанное!..
Я тоже провёл день в увольнении,
первым делом снова направившись к загадочному дому.
Однако все мои попытки проникнуть в
него снова оказались тщетны. Дверь, тщательно пригнанная, не поддавалась
никакому усилию и не сдвинулась ни на йоту даже, когда я попытался поддеть её
ломом, найденным неподалёку в высокой траве в гуще заброшенного сада.
Безрезультатны оказались и мои попытки обнаружить хитроумное устройство,
которое можно было бы отключить.
Я обошёл здание, к задней стене
которого примыкал таинственный дом, и обнаружил его в таком же заброшенном,
плачевном состоянии. Только по тёмному пятну на выцветшем фасаде можно было
догадаться, то здесь когда-то была вывеска, обозначавшая какое-то заведение.
Парадная дверь, давно и наглухо закрытая, с белёсыми стёклами, была покрыта
толстым слоем старинной пыли. Через слепые окна вряд ли проникал даже солнечный
свет, и уж тем более невозможно было разглядеть, что делается там внутри.
Хотя и без того было ясно, что этот
трёхэтажный дом окончательно покинут, это казалось довольно странно, поскольку
парадная дверь здания выходила на оживлённую улицу, примыкавшую к шумной
просторной площади почти в центре города, где всегда было многолюдно, бил красивыми
струями фонтан, а в тенистых аллеях никогда не пустовали многочисленные
лавочки.
И было удивительно, что в таком
месте, являвшем собой лицо города, находятся такие дикие, неухоженные, никому
не нужные руины. Хотя, здание было старинной постройки: высокие окна-ниши
прорезали толстенные стены, построенные, как умели строить только раньше – на
века; колонны у главного входа сквозь пыль забвения просвечивали ещё мрамором;
тумбы их, украшенные резными фигурками скульптур, отливали красивым
зелёно-серым гранитом; под крышей над колоннами виднелись ещё сохранившиеся
барельефы, - и при желании, отреставрированное, могло бы стать украшением
города, а, может быть, и исторической достопримечательностью.
Теперь же лишь вороны, наглые и
самоуверенные, чувствовали здесь себя превосходно и шаркали по граниту кусками
обвалившейся штукатурки, словно седина припорошившей некогда полированные,
блестевшие, как паркет, плиты широкого, в треть фронтона, высокого крыльца,
окаймлённого с трёх сторон пирамидой из ступенек лестницы.
Унылый вид здания поверг меня в
тоску, я словно бы увидел вдруг, как умирает весь этот город, потому что лучшая
часть из его архитектуры и истории уже была предана равнодушию и забвению. Мне
почудилось, что город этот обречён на скорую гибель, раз не дорожит памятью о
былых своих веках, что хранили стены таких древних сооружений.
В голове моей, пока я смотрел на
старческое лицо дома, который мог бы ещё быть молод, если бы этого захотели
люди, каждый день походящие мимо, сами собой родились странные строчки:
Унылый
вид имеет твой фасад.
Что
было здесь? … Святилище науки?
Но
обветшал твой каменный наряд,
К
тебе давно не прикасались руки.
Творцы
твои исчезли уж давно,
И в
памяти людской не удержались.
А
время – беспощадно и темно –
Тебя
кружит, лишь миражи остались.
Одетое
печальною тоской,
Ты
молчаливо терпишь униженье,
Не
знаешь ты ни век, ни день какой,
Как
страшно и томительно забвенье…
Стихотворное моё воодушевление вдруг
прервалось, потому что внезапно в одной из дверей парадного входа щёлкнул
замок, она приотворилась, тускло блеснув своими слепыми, запылёнными окнами, и
из неё показался похожий на приведение убогий, седовласый старичок.
Он вышел, запер дверь, бросил на
меня строгий взгляд и пошёл прочь, в сторону площади с тенистыми аллеями и
праздными зеваками на лавочках.
Вид у него был такой, словно он
провалялся в забытьи долгие годы, а вот теперь вдруг решил показаться на свет
божий.
Появление его вызвало у меня не
только удивление, но и какой-то мистический ужас. Не смотря на то, что улицы
полны были народа, захотелось броситься бежать сломя голову. Старичка никто из
гулявших поблизости людей не заметил, но для меня его появление было подобно
тому, как если бы мертвец встал из гроба.
Это не был мой знакомый, - совсем
другой человек, которого я прежде не видел. Его ветхий костюмчик болтался на
высушенном годами и старостью теле, словно балахон, а ботинки на ногах,
стоптанные ещё, наверное, во времена его молодости на танцульках, увеличились
размера на два и вихляли на ногах, как хотели. Да, у этого человека была совсем
не та фигура: он был выше моего знакомого, к тому же худосочнее.
-Эй, старик, подожди! – крикнул я
ему вдогонку, но старец продолжал идти, будто не слышал.
Я бросился за ним вдогонку, но когда
поравнялся с ним, тот снова не обратил на меня никакого внимания и всё так же
шёл вперёд, погруженный в свои мысли.
-Извините, можно вас спросить?..
На лице старика не дрогнул ни один
мускул. Он продолжал идти, не замечая меня совершенно.
-Разрешите поинтересоваться?..
Я дошёл за ним до самой площади,
пытаясь обратить на себя его внимание, и тут старик резко и неожиданно
развернулся ко мне, заглянув мне в самую глубину души маленькими, сверлящими,
выцветшими от возраста глазками, и тихо, но чётко и внятно произнёс тоном, не
терпящим возражений:
-Отстань!
Я остановился, как вкопанный, а он
пошёл дальше, удаляясь по площади на другую её сторону. Когда он скрылся из
виду, я очнулся и машинально двинулся за ним следом, озадаченный и удручённый
происшествием.
Выбившись из сил, я вдруг понял, что
если прямо сейчас не развеюсь, то крыша поедет - точно, и потому решил немедля
проведать одну из своих знакомых, с какими обычно не бывает проблем, морячки,
как ни странно это звучит для такого «сухопутного города», как Сумы, и остаток
дня провёл в её милой кампании, стараясь забыться и перестать задавать себе
ненужные вопросы, ответа на которые не было.
Ночью я проснулся от того, что
кто-то толкает меня в бок.
Это был Охромов.
-Вставай!.. Давай вставай, хватит
спать!..
Мы вышли из казармы в полтретьего
ночи, освещаемые яркой луной, повисшей в безоблачном небе, пересекли территорию
училища, посматривая по сторонам, и, перепрыгнув забор, оказались за его
пределами.
Я невольно улыбнулся, вспомнив, как
прежде, тем же путём мы ходили на любовные вылазки, но грустно вздохнул, потому
что это время ушло безвозвратно.
Духоту ночи усиливало отсутствие
ветра.
-Ну, и то дальше? – спросил я
Охромова, когда мы оказались на улице.
-Дальше? Дальше надо тачку ловить.
-Да где ж ты её найдёшь в два часа
ночи, да ещё и на окраине города?!
-Пошли! – лишь зло ответил Охромов,
двинувшись вперёд.
Мы вышли на проспект и к удивлению
моему почти сразу же поймали такси, шедшее со стороны аэропорта в центр города.
Водитель не испугался остановиться и подобрать среди ночи двух парней в
спортивных костюмах, что в наше время было исключительной редкостью, и мы за
пять минут добрались до площади, на которой сегодня я уже был.
Меня охватила неясная ещё тревога,
усилившаяся особенно тогда, когда мы подошли к фасаду того самого здания, перед
которым я сочинял стихи. Это было очень странно.
В голове будто прозрение произошло.
Мне сразу ясно, что это за здание, и что мы будем делать. Мысли лихорадочно
забегали, обгоняя одна другую.
-Слушай, что нам здесь надо? –
спросил я Гришу, уже обо всём догадываясь.
Охромов извлёк из-за пазухи какой-то
клочок бумаги:
-Здесь схема движения внутри здания.
Нам надо будет пройти по ней. Там будет книгохранилище заброшенного архива.
Надо найти кое-какие документы. Когда мы вынесем, я пойду, позвоню. Люди
приедут, заберут макулатуру и рассчитаются за работу…. Не переживай, всё будет
хорошо!
-А как мы проникнем внутрь?!
-Откроем дверь, - Гриша достал из
кармана свёрток из носового платка, развернул его и показал мне что-то вроде
отмычки. – Вот ключ….
Я хотел взять в руки и рассмотреть
предмет, но Гриша тут же засунул свёрток обратно в карман, будто опасаясь, что
я выкину инструмент куда-нибудь в темноту.
Надо сказать, что к этому времени у
меня в голове уже созрел некоторый план.
Мне не терпелось узнать, чем же так
заинтересовались бандиты, прожигающие свою жизнь в карточной игре с самой
жизнью.
Кроме того, в отличие от Охромова я
теперь не сомневался, что «дельцы» не только не заплатят нам, но и попытаются
расправиться с нами после того, как мы добудем для них документы: зачем иначе
связываться с курсантами.
Не понятно было только, почему
бандюги сами боятся лезть в здание. Неужели испугались того старичка, которого
я видел днём?!... Навряд ли. Значит, было что-то другое…. И ведь они-то
прекрасно осведомлены о внутреннем устройстве здания, схему вычертили и даже
номера полок указали… Что-то не вязалось в этой истории. Хотя….
Вздумай они воспользоваться услугами
городской шпаны – так ещё неизвестно, как бы всё обернулось. У тех полно
друзей, языки длинные, а среда настолько аморфная, что неизвестно, где завтра
откликнется то, что попало в неё сегодня. А курсанты – люди другого склада:
язык за зубами держать научились, друзей в городе – раз, два и обчёлся. И я
придумал, как выйти сухими из воды.
Конечно, можно было рассказать Грише
о моей догадке, что нас ждёт, но он вряд ли поверил бы мне. Ослеплённый жаждой
лёгкой и быстрой наживы, вряд ли стал бы он вникать в мои соображения по этому
делу. Действовать надо было самому….
-Слушай, а давай сделаем всё это
завтра, а? – ошарашил я Охромова и увидел, как округлились от удивления его
глаза. – Твои-то корешки всё равно не узнают, что мы здесь были сегодня ночью,
если ты им сам об этом не скажешь….
-А смысл? Откладывать назавтра,
когда мы уже у цели?!... Мы уже сегодня будем шуршать «капустой»! Зачем же
откладывать этот приятный момент?!... Да и, неизвестно, получится ли что
завтра…. Ты же но понимаешь, что вырваться из училища – редкая удача, особенно,
для тебя. Нет, … ты предлагаешь какую-то чушь! Да и, не миллионер я тебе, чтобы
каждую ночь на тачке кататься!..
-Ну, во-первых, - не каждую ночь, а,
во-вторых….
-Ты предлагаешь всё отложить, когда
мы почти достигли цели! Это абсурд!
-…Я подумал о том, что тебе,
наверное, даже в голову не пришло!.. Ты хоть понимаешь, что они приедут,
заберут то, что мы и вынесем, а потом шлёпнут нас!.. Здесь или где-нибудь в
другом месте – не важно! Шлёпнут, и дело с концом! Зачем им оставлять
свидетелей? Если они обещают такие деньги, как ты говоришь, то бумаги, которые
им нужны, очень важные и очень ценные! Странно, что они не могут их сами взять
из заброшенного архива. Это, вообще, какой-то блеф, а мы даже не пешки,
понимаешь?! Так, расходный материал!.. И вместо денег получим мы по несколько
грамм свинца, с нас этого вполне хватит. … Ну, улыбается тебе такая
перспектива? Мне не очень!
Охромов задумался. Лицо его
сделалось мрачнее тучи.
-А что, если сделать всё сегодня, -
наконец, спросил меня он, - но бумаги спрятать в надёжном месте, а потребовать
в обмен на них выкупа, как ты думаешь?..
-Молодец, Гриша, варит у тебя
котелок-то! - обрадовался я. –Только …?
-Спрячем в хорошем месте, ни одна
собака не найдёт!.. Есть у меня на примете одно такое, - Охромов хитро
улыбнулся и, прищурившись, посмотрел куда-то в сторону, мне за спину. - Нам
надо всё продумать! – он хлопнул меня дружески по плечу, - Только…. Нам в
здание всё равно проникнуть надо будет: прикинуть что к ему. Начнём сегодня,
закончим завтра, правильно?
-Правильно, - согласился я, глядя,
как Охромов достаёт из кармана свёрток из носового платка.
Глава 26
Твои лёгкие, беленькие босоножки на
смугловатых ногах пронеслись мимо, удаляясь всё дальше и дальше, а я смотрел и
смотрел тебе вслед, не в силах двинуться с места.
Люди подходили к остановке, садились
в троллейбус. Те, что стояли рядом несколько минут назад, давно уже уехали, те,
что подходили, удивлённо разглядывали странного курсанта, болваном торчащего на
остановке, роняющего из руки на асфальт монету за монетой и будто в забытьи
смотрящего куда-то в одну точку где-то вдалеке.
А я смотрел и смотрел и не мог
насмотреться на тебя!
Ты уходила прочь, а я знал, что
никуда ты теперь от меня не уйдёшь, и мне было радостно на душе, и благодарил я
судьбу за то чудо, которое она совершила для меня. И я уже признавался тебе в
любви, и в голове одна за другой проносились сцены нашего свидания и наших
объяснений. Мне казалось, что ты питаешь ко мне то же самое обожание, какого
был полон я в эту минуту. Я видел раздетым, нагим твоё тело: стройное, гибкое,
худенькое, юное тело…, тебя, нагую и обнажённую, ещё слегка по-детски
угловатую, но уже женственную и восхитительную, и удивлялся именно этому
сочетанию, казалось бы, двух несовместимых вещей, слившихся в тебе воедино: ещё
не ушедшего детства и ещё не наступившей зрелости, которыми дышало каждое твоё
изящное движение, каждый мимолётный и неуловимый миг твоего бытия, твоего
образа, каждый поворот головы, каждый взгляд пытливых и осторожных,
настороженных и внимательных глаз, в которых огоньки девичьего лукавства,
невинного и игривого, ещё целомудренного и бескорыстного, сменялись дымкой
робости и какого-то непонятного мне внутреннего смирения не то со своей
судьбой, не то ещё с чем-то, что было внутри тебя, в тебе и никому кроме тебя
единственной не ведомо. Тысячи неразгаданных тайн и секретов, движений чувств
можно было увидеть где-то в глубине, на самом дне этих глаз. Я видел это ещё
тогда, в первую нашу встречу, но понял это только сейчас!..
Я стоял на остановке, не обращая
внимания ни на кого из окружающих, и виделось мне, что ты пушинка на моей
ладони, казалось, что теперь уж, раз ты появилась, как чудо в моей жизни, раз
сама судьба послала тебя мне, раз я пленён тобой, то и тебе никуда не деться от
меня, потому что, может быть, и сама того не зная, но где-то в глубине себя, в
подсознательных ощущениях ты уже давно хочешь, чтобы я был рядом с тобою, ты
зовёшь меня из глубин, из недр своей души и желаешь меня. Твоё существо, не
сообщая твоему разуму, трепещет при виде меня, и лишь сознание твоё ещё не
знает, чего хочет твоё тело….
Но оно узнает, обязательно узнает
это, дай только срок. Может быть, оно уже нашептало тебе это, и только я об
этом не догадываюсь….
В голове моей кружился пьянящий
хоровод мыслей. Вихри желаний буйствовали в моей душе, и восторг тут же
сменялся безотчётной грустью и смятением. Какие-то стихи, словно снег, шли и
шли в моём сознании, и мне казалось, что сейчас посреди невыносимой летней жары
вокруг меня скользит и падает, струится в воздухе, не спеша ни падать, ни
таять, прохладный белый снег. Он крутился вокруг, подобный тополиному пуху, но
не достигал земли, не ложился на неё, а куда-то исчезал, и от этого
фантастического ощущения, от этого невероятного и чудного видения и голова у
меня шла кругом.
Мне
виделась пушинка на ладони,
Я
знал, что это ты в моей руке,
Разлуки,
встречи, снов моих погони –
Всё
нас несёт к одной большой реке.
Река
томленья и блаженства,
Земного
рая берега,
Простого
чуда совершенство,
Любви
зелёные луга
Раскинулись
по всем чертогам,
Блестя
зелёным серебром.
По
скалам, дальних гор отрогам
Любви
грохочет вешний гром.
Мы
пленники в судьбе друг друга,
Но
сладок вместе этот плен.
Сжигает
нас в объятьях круга
Из
наших рук ковёр не тлен.
Зовёт
меня твой образ нежный,
Хранимый
сном в моей душе,
В
пучины космоса безбрежный
Поток.
Мы вместе в неглиже.
Общаться
там, в холодном мраке
Подобно
звёздам. В вечный путь
Вступив
в небесном зодиаке
В
союз сердец, познать ту суть.
Творца,
спасителя и праха
Хранителя,
судьбы гонца.
Христа
распятого рубаха
Нам
будет хлебом для венца….
Моё полубредовое состояние вдруг
прервалось, словно непрочная нить.
Та, которую я уже любил и уже обожал
все эти бесконечные мгновения, что длились так долго, удалялась всё той же
парящей по воздуху походкой, будто летела в невесомости над землёй.
Лишь теперь, когда между нами было
больше сотни метров, я очнулся и нашёл в себе силы последовать за ней, даже не
заметив, что растерял на остановке все разменянные монеты. Даже теперь, когда я
вроде бы пришёл в себя, но шёл вперёд будто заворожённый, не в силах оторвать
взгляда от её мелькающих впереди босоножек, из которых светилась то одна, то
другая пятка.
Девушка направлялась к КПП училища
В минуту я настиг её промчавшись и
перейдя на шаг, словно крадучись за ней.
Так я шёл позади, отстав на
несколько метров и любуясь её походкой, в которой были очарование и неуловимая
прелесть движений стройной антилопы, восхищаясь её красивыми, фантастическими,
длинными ногами, бёдра которых лишь наполовину были закрыты полами юбки, её
волнистыми волосами, переливающимися на солнце всеми оттенками русого, до
самого КПП.
Здесь она словно в нерешительности
замедлила шаг, будто раздумывая и сомневаясь, но потом решительно шагнула на
ступеньку бетонного крыльца и прошла внутрь, мимо стоящих у входа дневальных по
КПП, окинувших её с ног до головы многозначительными взглядами, в которых
откровенно блеснули пошлый голод и бесстыдство. Они переглянулись и
зашушукались между собой. Но она прошла независимо и гордо мимо, не обратив
внимания ни на их злые шуточки и подколки, которые, вероятно, достигли её ушей,
ни на их жадные глаза, буквально пожравшие её невероятной длины и стройности
ноги.
Большинство знакомств около училища
у курсантов начиналось именно вот с таких недобрых шуточек, способных
повергнуть в смущение любую девицу, и таких же беззастенчивых взглядов.
Девушки, отвечавшие на подобный
вызов, с самого начала оказывались на положении униженных, поэтому лучшим
средством защиты было, пожалуй, не обращать внимания на подобные проявления, но
не у каждой хватало духу поступать таким образом: для этого нужно быть
достаточно уверенной в себе, к тому же, относиться к курсантам, если и не с
презрением, то с небрежением, как к людям, потерянным для цивилизованного
общества.
Та, которую я обожал, нашла в себе,
видимо, такую смелость презреть их злобные подколки и сохранить молчание и
достоинство.
Я следовал за ней, терзаемый
сомнениями и внезапной робостью.
В центре фойе КПП, разделённого пополам
перегородкой, отделанной под полированное дерево, у четырёхлопастной вертушки,
блестевшей вытертыми до матового никелированными дугами, на полстены слева от
входа было окно с небольшой форточкой, в которую можно было подать документы и
что-нибудь сказать. За ним, выглядывая из-за розовых занавесок, сидел в
вальяжной позе сержант, дежурный по КПП, который разговаривал сейчас с ней,
неловко наклонившейся к низко расположенной форточке.
Чувствовалось, что ей не по себе
стоять в такой позе.
Сержант, разговаривая с девушкой,
явно издевался и, видно было, намерено затягивал разговор.
Я подошёл ближе.
Девушка не обратила на меня
внимания.
Сзади раздавался смех курсантов: не
надо иметь особого ума, чтобы догадаться, что они сейчас обсуждают её позу,
смакуя наиполнейшие варианты её применения, какие только могут прийти в голову.
«Скоты! – со злостью подумал я. -
Подумаешь, человек встал так!.. Ну, и что?!... Ублюдки!»
Дали бы хоть малейший повод,
выразились бы как-нибудь, я бы не выдержал и накостылял им, но они лишь
смеялись за моей спиной, а набрасываться за это было глупо: мало ли причин
может быть для смеха.
Совсем недавно я сам развлекался
так, заступая в наряд по контрольно-пропускному пункту, особенно, в субботу или
в воскресенье. Раз увольнения всё равно терялись из-за наряда, мы частенько
срывали злобу на ни в чём не повинных девчонках, приходивших на свиданье к тем,
кого не отпустили в город. Вот когда у нас словно прорезался талант к грязному
юмору, которым мы потчевали всякую, которая не могла огрызнуться и ответить нам
столь же пошло. Да уж, какими только гадкими словами не обкладывали мы
посетительниц КПП! ... Стало вдруг стыдно за дурную и зелёную свою юность, в
которой никто не наставил и даже не одёрнул меня, не подавил растущий во мне
бурьян дурного….
Да, не раз позволял я себе подобные
шуточки, зачастую весьма оригинальные и даже иногда чересчур жестокие по
отношению к объекту внимания, когда моё необузданное воображение, не утолённое
ещё видом обнажённой женщины и хотя бы поцелуями и прикосновениями к женскому
телу, заносилось в своих фантасмагориях в такую грязь, что подчас не по себе
становилось даже присутствовавшим при этом сослуживцам, которые и сами не прочь
были спошлить что-нибудь эдакое. Смех вдруг резко обрывался, и на меня смотрели
так странно, будто это было уже слишком. И тогда я чувствовал себя неловко за
то, что почём зря, незаслуженно отпустил колкость в адрес совсем незнакомой мне
девочки, обливать грязью которую не имел никакого права. Вдруг внутренний стыд
хлёстко осаживал меня, но я, хотя и тушевался, всячески заглушал его голос,
стараясь найти удовлетворение соей гордыне в одобрении моих колких и едких
высказываний со стороны товарищей по службе в другой раз.
Эта была своего рода трусость,
только довольно тонкая и деликатная, незаметная трусость человека, который
пытался создать себе авторитет не лучшим образом. Я был тогда тем, кто, не имея
девушки, старался думать обо всех женщинах очень плохо. Такое отношение
пропадает, когда они обзаводишься собственной пассией…. Но тогда я был
свободен, - а, может быть, одинок, - от подобных связей, а потому не знал
границ в своих пошлых суждениях….
Сейчас, по прошествии лет, мне было
стыдно вспоминать своё прошлое, глядя на таких же, как и я, стервецов, что
хихикали у меня за спиной. Я думал, как же неловко должны были чувствовать себя
здесь те из девушек, – а ведь далеко не каждая в таком юном возрасте распущена
и гуляща, которые приходили сюда, влекомые искренним чувством. Для них встреча
со мной на КПП училища была, наверное, хуже геенны огненной, и после такого они
готовы были встречаться со своими парнями где угодно, только не здесь.
И вот теперь в таком же
отвратительном и некрасивом положении оказалась моя очаровательная незнакомка,
– я ведь ещё даже не знал её имени. И самым смешным и до горечи обидным было
то, что ничего не мог поделать: я тоже был когда-то таким же гнусным и подлым
насмешником, исподтишка хихикавшим с товарищем по наряду так, что не возможно
было понять, над чем я угораю. Теперь я словно смотрел на себя со стороны, будто
видя в зеркале времени образ ещё вчерашнего курсанта Яковлева, и чувствовал,
что не имею морального права что-нибудь им сказать против и быть похожим при
этом на дурачка, потому как никто из курсантов не поверил бы в мою
искренность….
Девушка продолжала разговаривать с
сержантом через низкую форточку в окне всё так же неловко склонившись, а я
вспомнил, что здесь бывали и такие, которые, наоборот, в таких случаях
распущенно и вульгарно выставляли на обозрение свои аппетитные формы и круглые
задницы, которые казались ещё огромнее от того, что те облокачивались на
подоконник, прогибали спину, предлагая беззастенчиво рассматривать себя в
подобной позе.
Может быть, с подобных девиц и
начиналось отношение курсантов к женскому полу, как к предмету потребления и
искательницам удовольствий, как к поголовным шлюхам. Может быть, потому и
считалось во все времена, что порядочная девушка в наше училище ни за что шагу
не ступит. Может быть, потому и существует с незапамятных времён поговорка,
родившаяся в его стенах: «Не была блядью, так станет!» …
Я приблизился к девушке, встав рядом
с ней, испытывая и неловкость за неё, и в то же время радостное и светлое
волнение.
Она всё что-то пыталась выяснить у
дежурного по КПП, но тот упорно не хотел дать ей положительного ответа.
Наконец, видимо, ей это надоело. Она
выпрямилась и в отчаянии возвела глаза вверх.
Это движение её, как и все прочие,
показалось мне необыкновенным и чарующим. Волнующие предвкушение того, что
сейчас она увидит меня, перехватило дыхание. Я не мог произнести ни звука и
лишь смотрел на неё, боясь, что сейчас она глянет в мою сторону и увидит этот
ошалелый взгляд.
Но, вот и случилось: девушка словно
почувствовала, что кто-то вперился в неё, и мельком глянула в мою сторону.
Наши глаза встретились, и взгляды на
одно мгновение слились, образовав телепатический мост, по которому со скоростью
в миллионы терабайт в секунду заструились флюиды симпатии и обожания.
В эти краткие доли секунды я выпил из зрачков
её огромных изумительных глаз такое количество эмоций, что даже не поверил, что
подобное возможно. Мне передалось столько чувств её сразу, что на выражение их
словами потребовался бы не один час.
Глаза её выразили сначала удивление,
потом в них промелькнула стремительная искорка радости, затем подёрнулись дымкой
смущения, а через неё уже проступило какое-то отчаяние и горе, о котором,
видимо, их хозяйка уже давно печалилась. В самый последний миг я услышал,
увидел, ощутил, почувствовал в их немом, невероятном языке мольбу о помощи в
чём-то важном и трудном и просьбу помочь скорее покинуть ей это неприятное
место….
Девушка шагнула было мне навстречу,
но тут же остановилась, видимо, желая, чтобы я подошёл к ней первый.
Я приблизился почти вплотную.
Некоторое время между нами длилась
недолгая, но мучительная пауза. Наконец, она заговорила, решив первой прервать
молчание:
-Здравствуйте, мы, кажется,
знакомы?!...
-Да, вроде бы так, - ответил я,
смущаясь и краснея.
-Вы ведь друг Гриши, да?.. Гриши
Охромова?.. Помните, я приезжала к вам от него с запиской… Я привозила вам от
него….
-Да, вспомнил, - я зачем-то нарочно
сделал вид, будто только что понял, о чём она говорит, при этом жутко краснея
так, что даже щёки зарделись жаром. – Теперь хорошо вспомнил.
Она обрадовалась и засияла, улыбаясь
своими белыми, ровными зубами:
-Ой, я так рада! Вы, наверное, очень
мне теперь пригодитесь и поможете его найти.
Сердце моё бешено стучало в груди.
Казалось, что от волнения оно вот-вот выпрыгнет оттуда….
Очнулся я от того пьянящего,
загадочного, странного и даже страшного сна, в котором пребывал весь
последующий день лишь поздним вечером, когда оказался один в своей комнате в
покинутом всеми общежитии училища. Мне даже показалось, что, получив форму,
прилёг и уснул, и вся эта фантасмагория, что была дальше, приснилась мне.
Лёжа на скрипучей железной кровати,
на голом, не первой свежести курсантском матраце, изляпанном пятнами
всевозможных цветов и оттенков, размеров и происхождения, - пронырливый
батарейный каптенариус уже успел посдирать с постелей и сдать на склад всё
бельё, да, впрочем, и правильно сделал, - я вспоминал теперь, что это было сон
или явь.
С каким-то странным упоением текли
во моём сознании минувшие часы этого великолепного и удивительного то ли сна,
то ли дня, события которого, - были они хоть наваждением, хоть реальностью, -
запомнятся мне, если не на всю жизнь, то надолго, очень надолго.
…Наш разговор на КПП продолжался
недолго.
Чувствуя себя неловко, я понимал и
как неприятно находится здесь девушке, обстреливаемой меткими, раздевающими
взглядами нескольких пар голодных до женского тела глаз «зелёных» ещё
курсантиков.
Я жестом показал ей на выход в
город, но девушка возразила мне, сказав, что, в общем-то, она хотела бы увидеть
Охромова.
-Как…, разве ты ничего не знаешь?! –
удивился я, перейдя в разговоре с ней на «ты», а про себя подумал: «Откуда же
ей знать-то?»
-А что случилось?.. Он … опять лежит
в больнице? – спросила она недоумённо с каким-то нехорошим намёком в интонации.
-Да нет, не совсем, - ответил я, не
находя ничего лучшего и не зная, собственно, что же ей сказать.
Мне стало стыдно смотреть в её
открытое лицо, в её глаза, в которых можно было прочесть нечто такое, что
сродни простоте и наивности.
Где-то в глубине меня шевельнулась
моя спавшая, свернувшись клубочком, как грязная, побитая, беспризорная
дворняжка, - зачуханная и вшивая, - совесть. Мне стало больно, будто чем-то,
как пламенем, обожгло сердце, словно ударили по нему кувалдой, и с него
осыпалась чёрная, шершавая, заскорузлая окалина, обнажив трепещущую,
раскалённую пунцово-красную сердцевину.
Ухнуло что-то во мне и оборвалось,
звонко отдавшись гулом, и в глазах потемнело….
-Пойдём отсюда, - на этот раз я взял
её под ручку и вывел с КПП в город.
Мы вышли на полуденный зной и
побрели вдоль забора училища.
Теперь, та, в которую я тайно
влюбился всего лишь несколько минут назад, но на самом деле, казалось, любил
давно уже, - всегда, вечно, - шла рядом, лёгкая, стройная, ослепительная,
бесконечно обожаемая мною. Шла, слегка повернув ко мне свою прелестную головку,
показывая тем самым, что готова внимательно меня слушать, какой бы бред я ни
начал говорить.
Вид тайно возлюбленной моей был
невесёлый. Видно, почувствовав нечто неладное, она тревожно и настороженно,
боясь пропустить мимо ушей хотя бы слово, не отрывала взгляда от моих губ….
Чего только не передумал я за эти
минуты. Одна абсурднее другой мысли проносились в моей голове: «Вот идёт
любовница моего приятеля, в исчезновении которого я, несомненно, виновен…,
виновен так сильно, что, наверное, нет цены моему предательству, кроме как
искупления кровью…. А она идёт рядом со мной, предателем своего друга, и ничего
не знает. … Впрочем, может быть, она что-то чувствует…. Она особенная, не
такая, как те девчонки, которых мне приходилось знать. В ней есть что-то, что и
пугает, отталкивает, но и, одновременно, неодолимо манит к себе. У неё, видимо,
есть какая-то тайна…. Впрочем, с чего ты это решил?.. Ничего у неё нет!
Обыкновенная девчонка, каких в этом городе тысячи…, только, разве что, на
мордочку смазливая…, очень смазливая…. Смазливая до невозможности!.. Она просто
красавица!.. Меня влечёт к ней, как магнитом! Что-то в ней есть. … Но что?!...
Ха-ха, какая она там любовница, - просто глупая девчоночка, отдавшая свою
невинность наглому ухарю Охромову, а если и до него, то не менее сволочному
типу…. Кто же таких обижает?.. Она же ведь ещё почти девочка. Любовницами
бывают откормленные тётеньки, которые с жиру бесятся и не знают, чего бы ещё
такого учудить, чтобы веселее им жилось, а эта… эта любовницей быть не может,
разве что по своей дурости только. … Да, но всё-таки, что же мне рассказать про
Охромова?.. Ведь мне не хочется выглядеть в её глазах плохо!.. Нет, про то, как
пропал Гриша, рассказывать не стоит!.. А, значит, и рассказывать нечего…»
Среди абсурда и хаоса моих
несвязанных мыслей, а логически мыслить мне всегда было трудно, когда
волновался, и дело касалось чего-то важного, не раз промелькнули видения
будущих свиданий с идущей рядом со мной незнакомкой. Казалось, что мы будем
вместе теперь всегда!.. Я ловил себя на мысли, что больше не хочу с ней расставаться:
в конце концов, Охромова больше нет, да он и бросил её, - как такую можно
бросить?!...
Предложи ей сейчас встречаться, -
она откажется, - я чувствовал это, но знал теперь, - хотя, быть может, это и
было чересчур смело, - что она будет моей женой.
Мысли об этом были подобны миражу
оазиса, возникающего вдруг среди мёртвой, раскалённой пустыни перед несчастным
путешественником, тогда как до самого уголка жизни ещё десятки километров
безжизненного пространства, и ещё не известно, будет ли оно пройдено путником,
выбившимся из сил, или он погибнет посреди песков, так и не достигнув манящей
его земли, заблудившись или просто упав от истощения.
Неясные образы в голове шептали мне
о неминуемости этого союза, и я хотел верить в это изо всех сил, какие только
были в моей, совсем обмелевшей, душонке.
Я чувствовал все те радости и беды,
которые мне придётся испытать вместе с ней почти физически прямо сейчас, все
вместе, и от их сложения, от ужаса их и блаженства одновременно испытуемого,
испытывал боль и упоение одновременно….
«А может, ты нарочно убрал Охромова
со своей дороги, чтобы расчистить путь к её сердцу и жениться на его
подружке?!... – спрашивал я у самого себя и отвечал самому себе. - Да нет же,
это чушь, я и не думал тогда о ней вовсе. … И вообще, с чего я взял, что она
будет моей женой?.. Я, вообще, не хочу жениться после всего, что я знаю о
женщинах!.. Но ты ведь обожаешь её!.. Она притянула тебя к себе, как магнит, и
уже не отпустит! Нет у тебя сил оторваться от её очарования!» …
Рассуждая так, я силился вспомнить,
а не было ли у меня, и вправду, хоть разок в тот вечер подсознательных мыслей о
подобном или ревности? Хотя Охромов и сам говорил мне, что распрощался с ней
навсегда. Да и она об этом тоже говорила.
«А жаль, что не было, - сожалел я, -
потому что лучше бы совершить предательство из-за женщины, чем из-за трусости:
это тоже свинство и подлость! Но женщина – более благородная причина, чем
жадность и трусость!.. У моего же предательства такой причины не было!» ...
«Ты знал, что она ещё придёт и станет
твоей! – не унимался всё тот же странный голос внутри меня. – Не иначе, как
из-за неё ты оставил Охромова в беде!.. Ты подсознательно внимал своему
животному инстинкту самца…. А, впрочем, почему ты так уверен, что Охромов
мёртв?!... Возможно, он ещё вернётся, и поверь, что, может, и простил бы тебе
то, что ты забрал себе его деньги и не остался тогда с ним, но если увидит, что
его бывшая подружка теперь с тобой, то, даже не смотря на все заверения, что к
ней больше ничего не питает, не простит подобного и будет мстить по гроб своей
жизни, пока не доконает тебя или не умрёт от твоей руки!..»
Голос явно злорадствовал надо мной,
он видел, что я напуган его предположением, которое, возможно, было не далеко
от истины.
«Ничего я тогда не думал! – отвечал
я ему в полнейшей панике, недоумевая, кто изнутри моего сознания позволил
устроить со мной подобную дискуссию. Мне казалось, что у меня опять проявляются
признаки какого-то помешательства. – Я не мог ничего знать…. Я, вообще, не
знал, что тогда с нами будет, и чем та история кончится!» … «А ведь, если
Охромов объявится, ему может прийти в голову такая мысль, - подумал я с
испугом, будто уже женился на той, что шла со мной рядом, а не просто
прогуливался с ней, как знакомый. – Что я ему тогда скажу?!...» … «Ты не
хочешь, чтобы Охромов возвращался! – торжествовал голос. – Ты подлец! Ты бросил
друга ради его женщины! Ты подлец! Ты подлец!!! Ты не только не достоин дружбы,
но и заслуживаешь презрения!» «Чушь какая-то! - думал я, уже соглашаясь с моим
противным оппонентом, лишь бы он отстал от меня и не возникал больше. При этом
я не переставал рассматривать свою спутницу пристальным и неравнодушным
взглядом, не замечая совершенно, что уже вогнал её в краску. – Чушь собачья….
Получается…. Но я не помню, честно говоря…» «Предатель! – ликовал голос.
–Предатель! Предатель! Предатель!!! Твоя плоть и твоё прогнившее подсознание
запрограммировали твою измену. Ты нечистый человек, у тебя грязные руки и такая
же грязная и паскудная душонка!» … «Но ведь я даже не знал, что встречусь с
ней, что она, вообще, ещё раз придёт!» - продолжал я отпираться, хотя
чувствовал с невыносимой горечью, что спор проигран мною бесповоротно. Если бы
я видел спорившего со мной, то, наверное, набил бы ему с досады морду, но так
как он скрывался во мне самом, то злился на себя и готов был расквасить свою
физиономию о шершавый бетонный забор так, чтобы свезти кожу на своей
отвратительной роже и раздолбать её в кровь…. Это было какое-то безумие. Я не
понимал, кто со мной говорит, но чувствовал, что чем дольше продолжается этот
спор, тем ближе к краю незримой пропасти я скатываюсь. А что будет, когда я
покачусь в неё кубарем?!... Нечто во мне самом словно засасывало меня в трясину
или зыбкие пески. И, чем активнее я искал оправдания, тем быстрее это происходило,
тем меньше пространства до края обрыва оставалось, чтобы найти место для
сопротивления. Однако я не мог своей волей прервать этот внутренний диалог. Это
было выше, сильнее моей тощей воли. Я, как человек, застрявший в болоте, не мог
по собственному желанию из него выбраться, поэтому вскоре вид у меня стал,
видимо, как у побитой собаки….
Даже девушка заметила перемену в
моём лице и участливо поинтересовалась, наконец-то прервав тягостное для меня
молчание:
-Что с вами?..
-Ничего, - ответил я, смущённо пряча
виноватые глаза, но чувствуя внутреннее облегчение: наконец-то можно было
прервать губительный диалог со странным нечто внутри меня.
Меж тем, мы, не спеша прогуливаясь
вдоль забора, ушли уже до самого военного городка, расположенного впритык к
училищу.
Она всё не спрашивала меня ни о чём,
хотя любопытно, насколько это было видно, так и распирало её, и всё шла рядом,
не произнося ни слова.
Мне казалось, что каждое движение её
души лежит передо мной как на ладони. Я сам был взволнован и взвинчен до предела
и думал, что вижу все движения её чувств, без труда угадывая их в её, то
беспокойном, то болезненно стеклянном, взгляде, в игре слегка припухлых губок,
окаймлённых сверху лёгким белёсым пушком, которые то вздрагивали в мимолётной и
едва заметной, словно нечаянной, совсем не к месту, улыбке, то досадливо
поджимались, то вдруг растерянно распускались, делая её лицо немного глуповатым
на вид и даже неприятным.
Должен ли я был ей что-то
говорить?!... Пауза молчания уж больно затянулась: мы прошли уже добрых сотни
три метров, а так и не сказали за это время ничего друг другу….
-Это не совсем так! – словно
очнувшись, продолжил вдруг я с оборванной ещё на КПП фразы. – Гриши уже
несколько дней нет в училище….
На лице моей спутницы выразилось
недоумение, глаза тревожно заблестели и в панике забегали, пытаясь за
что-нибудь зацепиться. Брови нахмурились и сдвинулись к переносице.
-Как это так, нет в училище?.. Так
он всё-таки снова лежит в больнице, да?..
-Да нет! Его нет, и его не могут
найти. Никто не знает, где он….
Тут я запнулся, густо покраснев:
ведь это был наглый обман.
-И вы не знаете, где он и что с ним
сейчас? – сердито спросила девушка, наклонив в ожидании ответа голову слегка
набок.
-Не знаю, - едва смог выдавить из
себя я: мне показалось, что ей всё известно.
-Но вы же его друг!.. Как же
так?!... Что это за дружба у вас такая странная?! – поджав свои прелестные
губки, язвительно спросила она, прищуриваясь. – Вы же всегда были с ним
вместе…. Он мне рассказывал, что вы с ним настолько дружны, что даже по подружкам
вместе ходили.
-Он вам и это рассказывал? – с
облегчением спросил я, радуясь, что Гриша не выдал ей самого главного. А ведь
он запросто мог похвастаться, что у него скоро будет много денег, и рассказать,
откуда они должны будут появиться.
Я надеялся, что сейчас удастся
повернуть разговор от столь щекотливой для меня темы в какое-нибудь другое
русло.
-Да, и об этом тоже, и о многом
другом. … Но не пытайтесь заговаривать мне зубы! У вас это не получится. Я
чувствую, что вы знаете, что произошло с Гришей. Вы понимаете?.. Я чувствую…. А
вы пытаетесь меня обмануть…. Если вам не трудно, скажите, что с ним произошло….
Не подумайте только, что я хочу найти его, потому что он переспал со мной, и
заставить на мне жениться, или, что я не верю вам и думаю, что вы скрываете его
от меня по его же просьбе…. У меня есть кое-какие основания вам верить. Я не
испытываю к Охромову особого чувства привязанности, как и к любому другому
мужчине. … Впрочем, это мои личные чувства, в которые вам не обязательно быть
посвящённым. Но я считаю его своим другом, и поэтому, если вам не трудно…, если
это возможно, ответьте, пожалуйста, где он?..
Её рассуждения, высказанные с такой
откровенностью, повергли меня в изумление и жесточайшее, мучительное смущение.
Я не мог поверить, что так ошибся в ней, а больше, – в своих ощущениях. «Да эта
девица, если ей понадобится, с потрохами скушает! – подумал я про себя, всё
больше изумляясь своей непрозорливости. – То же мне, невинное создание!.. Да-а,
практичности не занимать!.. Она рассуждает, как повидавшая виды бабёнка, а не
как молоденькая девочка, которой, - правда, не знаю, сколько, - лет, но не
больше семнадцати…. Ужас!»
Мне следовало признать, что по
твёрдости духа, по мужеству, а также по житейскому опыту она, эта девчонка,
стоит на голову меня выше и может ещё дать мне фору. Её ангельский облик сильно
разнился, как теперь стало ясно, с тем, что было у неё внутри. Теперь я мог
спокойно предположить, что даже не Охромов, а, скорее, наоборот, - она Охромова
«подцепила». Понравился смазливенький курсантик. Да и, наверное, он у неё,
наверняка, был не первый. «Боже! – воскликнул я про себя. – Как мы жестоко
ошибаемся в девицах!..»
Действительно, оплошал я со своими
целомудренными чувствами!.. Я готов был провалиться в эту минуту сквозь землю.
-Если Охромову требуется сейчас
какая-то помощь, - продолжила девушка, - у меня достаточно знакомых, чтобы
справиться с его горем. Но если я, всё-таки, ошибаюсь, и он просто прячется от
меня, то передайте ему, что он – кошак паршивый!.. У вас, у курсантов, у всех,
наверное, какая-то душевная гадливость и трусость есть: нашкодить, как
паршивому коту, и в кусты…. Я поражаюсь!.. Сколько знаю случаев, везде курсанты
ведут себя, как последние ублюдки! Наши городские ребята так не поступают. Во
всяком случае, держатся с достоинством. И если он из-за этого исчез с моих
глаз, то передайте ему, что он круглый дурак!
-Но вы же сказали, что расстались с
ним сами, - попытался я защитить достоинство друга.
-Мало ли что я вам сказала! Впрочем,
какое это имеет отношение к делу? Люди не всегда искренни друг с другом, а
почему я вам должна что-то рассказывать, когда видела вас в первый раз?! Эдак,
каждому начнёшь изливаться, так тебя на всех и не хватит! Мало ли у меня,
вообще, в городе знакомых, но про мою жизнь, какая она есть на самом деле,
догадываются лишь единицы, а точно – не знает никто!.. Если будешь много
болтать, то станешь марионеткой в руках более сильных. Недаром же молчание –
золото!
«Вот странное создание! – подумал я
про себя. – Она хочет помочь Охромову! И даже знакомства какие-то вспоминает!
Нет, она всё-таки, далеко не такая уж плохая, как я о ней только что подумал!
Да она просто святая рядом со мной! Я рядом с другом в минуту опасности ничего
не сделал для его спасения, а она, случайная знакомая, которая знает его от
силы месяц, готова помочь ему!.. Может быть, от того и желает помочь, что знает
недолго?.. Думает, что он хороший!.. Эх, знала бы, какой он бабник!.. Ни за что
не стала бы помогать!.. Однако, она всё-таки лучше меня! Но истинность надо
проверять делом!..»
Мне захотелось рассказать ей, как
пропал Гриша, но снова поймав себя на мысли, что придётся выворачивать наружу
слишком много грязи, с которой мы имели дело, и из-за которой он и пропал,
выдавать тайны, которые кроме меня теперь не знает ни один человек, осёкся на
полуслове и замолчал….
-Ну, скажите, что с ним, умоляю! –
вдруг со страданием в голосе, которое нечаянно прорвалось наружу сквозь броню
её внешнего спокойствия и рассудительности, прозвучало почти по-театральному
сочно, как в какой-нибудь драме по Шекспиру, удивило меня и снова заставило
усомниться: «Да и только ли дружеские чувства испытывает эта не простая совсем
девица к Охромову?!... Пожалуй, такая хорошенькая, молодая женщина не станет
ограничиваться такой степенью привязанности к озорному, весёлому парню!» -
воскликнула она.
Она бросилась ко мне со страстностью
дикой кошки. Я был просто поражён такой перемене в её обличие. Она уже
протянула ко мне руки, то ли для того, чтобы обнять, то ли для того, чтобы
встормошить, побуждая говорить меня, но тут же остановилась, испугавшись столь
буйного проявления своих чувств, яркой палитрой блеснувших через напускную
серость и беспристрастность её образа, стоявшего передо мной ещё несколько
мгновений назад.
Я невольно отшатнулся, изумлённый таким
проявлением темперамента, поражённый той ловкости и лёгкости, с которыми она
подавляла в себе глубокую чувственность, довольно-таки странную, если не
сказать, что ненормальную, для её возраста. Подобная пылкость достойна была
разве что женщины лет тридцати-тридцати пяти, когда её цветок распускается с
необузданной и умопомрачающей силой и источает вокруг себя сводящие с ума
ароматы, полные неги и желаний. «Что будет с ней дальше, - с тревогой спросил я
сам себя, - если уже сейчас она способна на такое проявление страсти?!... Да
она же сгорит в её огне!..»
«Она будет твоею женой! – снова
послышался ужасный голос внутри меня. – Это будет тебе сущим наказанием!..
Ха-ха-ха!!!» … «За что наказанием?! – спросил я у него испуганно и снова
подумал, что сумасшествие началось опять. – Неужели я так провинился перед
кем-то?!» Но голос внутри меня только смеялся теперь противным и странным
смехом.
Я не знал, как избавиться от его
влияния. На душе стало тревожно и неспокойно, и я уже не знал, где бы найти
такое место, чтобы меня оставили в покое сердечные печали.
Я снова волновался, и, заметив это,
девушка потупила взгляд.
-Я не знаю, что сейчас с Гришей, не
знаю даже, где он сейчас, а если и знал, то теперь это, поверьте мне, не имеет
уже никакого значения…. Впрочем, если вы действительно так любите его, то
должны знать, где он сейчас, чувствовать должны, что с ним…. Я даже не смогу
сказать вам, жив ли он или мёртв. Но вы должны чувствовать это сами. И не
притворяйтесь, пожалуйста, я только что заглянул в колодец вашей страсти: он
очень глубок!.. Поэтому не стоит прикрывать его напускной прохладой дружеского
участия: для меня теперь очевидно, как глубоко вы привязаны к Грише, как вы его
любите!.. Хотя, надо признаться, что вы ловко умеете притворяться, можно
сказать, с артистическим талантом!.. Вообще, как вы правильно заметили,
молчание – золото. Я тоже не хочу быть марионеткой в чьих бы то ни было руках,
будь они сильнее меня или слабее. Давайте оставим эту тему!.. Для меня она
подобна пытке!.. Я не в состоянии видеть, как вы страдаете, да, к тому же,
разговоры о пропавшем друге весьма тревожат и моё сердце!.. Я думаю, что и вам
она не доставляет никакой радости. Тем более, поверьте мне, что, если даже вам
и удастся каким-то образом заставить меня раскрыть вам всю правду, она не
удовлетворит вас, вашего желания знать, что произошло, и повергнет вас в ещё
более жестокое отчаяние и напрасные волнения, большие, чем те, в которых сейчас
пребывает ваша душа….
При моих словах о том, что меня
можно всё-таки заставить говорить, девушка снова подалась ко мне, норовя
по-горячему задать новый вопрос и упросить меня рассказать ей всё. Но, угадав
её намерения, я хладнокровно, с видом, не допускающим возражений, остановил её
порыв, выставив руку перед собою и давая, таким образом, окончательно понять
ей, что о продолжении разговора не может быть и речи.
Теперь мы как бы поменялись с ней
ролями, и я сам удивлялся себе, как это так получилось у меня, и откуда взялась
такая твёрдость в характере, какой у меня никогда не было, особенно, что
касалось таких вот прелестных девушек. Раньше я не сдержался бы и сам рассказал
ей всё, да ещё и посмотрел, понравится ли ей мой рассказ или нет: мои
приключения были всегда той козырной картой в общении с девицами, которая била
все другие и разила наповал. Но теперь же что-то случилось со мной, я стал не
таким, каким был ещё недавно: видимо, та опасность, которая теперь висела над
моей головой, готовая сорваться на неё, как дамоклов меч, едва я только
заикнусь о своих недавних похождения, заставляла меня прикусить язык и даже
отбила всякое желание говорить на подобные темы с кем бы то ни было.
Девушка, видимо, поняла, что мои
уста закрылись, если не навсегда, то надолго похоронив тайну. Она сделала шаг
назад и, совсем, как маленькая девочка, закусив во рту указательный палец,
зашаркала слегка ножкой по асфальту и принялась там, у себя под ногами, что-то
рассматривать.
Я снова поразился её перемене и тому
артистическому дару, которым она, несомненно, обладала и весьма искусно
пользовалась в жизни. Она меняла своё настроение, словно театральные маски, и я
уже не знал, где она показывает искренние чувства, а где просто играет. Мне
казалось, что она вообще представляет свою жизнь, как какую-то непрекращающуюся
пьесу, где всё возможно, где можно сразу, одновременно, исполнять несколько
ролей. Эта поразительная смена холодного напускного равнодушия и бурного
проявления чувств казалась мне то отвратительной и мерзкой, то прекрасной и
неподражаемой игрой одарённой от природы, талантливой артистки, каких в жизни
встречается гораздо больше, чем попадает на театральные подмостки и в кино, и
никогда неизвестно, что действительно у неё на уме.
«Она будет твоей женой!» - снова,
словно заклинание, пронеслось в моей голове, и мысль эта испугала меня больше,
чем в первый раз, при буйном порыве её эмоций. Иметь расчётливую, хитрую,
холодную душой как лёд жену гораздо опаснее, чем открыто сгорающую, как свеча,
безо всякого притворства от своей страсти.
Разговор наш вроде бы закончился, и
мы могли расстаться теперь безо всяких претензий друг к другу, но в таком
случае впереди меня ждал целый день одиночества, отчаяния и страха от самого
себя, от того безумного состояния, в котором я пребывал наедине с самим собой
не только ночью, опасаясь, что меня опять будут терзать мои «знакомые», но и
среди бела дня, потому что бред преследовал меня теперь и днём, и я чувствовал,
как схожу с ума.
Пощупав рукой толстый карман, туго
набитый деньгами, толстая пачка которых осталась у меня после выплаты долгов, я
решил предложить девушке провести этот день вместе.
-Давайте, поедем в город…, погуляем
вместе. И у вас, и у меня на сердце тоска и скука. Надо как-нибудь развеяться,
повеселиться. У меня сейчас такое положение, что я остался совсем один….
Девушка неожиданно для меня
обрадовалась, хотя я думал, что она пошлёт меня ко всем чертям.
-Что ж, давайте! Только вот что….
Город ещё не оправился до конца от потрясений, сильно не разгуляешься. Половина
кафе и дискотек не работает, да и денег у меня нет, если честно признаться….
Она достала из сумочки кошелёк из
хрустящей тонкой искусственной кожи, сверкавший смолистой, лакированной,
теснённой поверхностью в лучах зенитного солнца, щёлкнула аккуратненьким
замочком из маленьких никелированных шариков и показала мне замызганную,
замусоленную и помятую трёшку, одиноко и тоскливо лежащую внутри него.
Я хотел тут же, смеха ради, вынуть в
ответ пачку крупных купюр, но, подумав, не стал, хотя искушение похвастаться
было несказанно велико. Девушка, тем временем, закрыла кошелёк и спрятала его
обратно в сумочку.
-Ну, в этом нет ничего страшного.
Приглашаю я, значит, и платить за все удовольствия буду тоже я!..
-У вас что, много денег? – спросила
она.
-Да, много….
-Откуда, если не секрет?
Я промолчал, потупив взгляд.
-Насколько я знаю, у курсантов
вечная проблема с деньгами, даже на карманные расходы, - продолжала она.
-У меня есть деньги, - отрезал я. –
…И не забывайте, что я уже не курсант!
-Ну, ладно! Идёмте!..
Только сейчас я вспомнил, что у меня
остались без присмотра вещи в комнате. Я просил ребят присмотреть, но обещал
скоро вернуться, и они уже, наверное, давно ушли. Если меня ещё не обобрали, то
я, во всяком случае, рисковал быть обобранным.
-У меня лишь одна проблема! -
сообщил я своей спутнице. – Мне нужно пристроить вещи на хранение, иначе они
уйдут…. Можно отвезти их на пару дней к вам домой?!..
Это была несусветная наглость.
Она немного посмотрела на меня так,
словно бы видела впервые, окинула с ног до головы удивлённым взглядом, измерила
оценивающе, но всё же согласилась.
Поймав такси, я с трудом уговорил
таксиста заехать в училище, пообещав хорошо заплатить, потом ещё минут двадцать
ругался с дежурным по КПП, не желавшим пропускать машину на территорию, угрожая
даже, что набью ему, если у меня хоть что-то их формы свиснут, морду, но всё же
заставил его открыть ворота только сунув пятьдесят рублей ему в руку….
Через час мы въехали на такси в
пустынный полуденный двор, окружённый со всех сторон серыми пятиэтажками,
безжизненно замершими под пеклом, и выгрузились у подъезда, вынув из багажника
огромный тюк с моими вещами, из которых, к счастью, ничего не пропало.
Я незаметно от своей спутницы сунул
шофёру пятидесятирублёвку, потому что меньше купюр у меня просто не было, и
тот, не торгуясь, отрулил обратно.
Ещё в машине мы с девушкой
разговорились, перейдя по обоюдному согласию на «ты». Разговоры наши были самые
пустяковые, и я удивлялся своей словоохотливости, потому что в любой кампании
слыл молчуном и даже, если и желал, не мог сам найти темы для разговора.
Я взвалил на плечи огромный, как
стог сена, тюк и словно строитель пирамиды Хеопса стал взбираться по лестничной
клетке. Она поднималась следом.
Перешагнув тюк с обмундированием
девушка подошла к одной из дверей, вставила ключ в замочную скважину, потом
кокетливо и очаровательно улыбнулась и открыла дверь.
На фоне полумрака прихожей квартиры
она показалась мне ещё стройнее, и снова, словно молния прошибла меня её
простая, но ослепительная красота, что поражала уже и прежде.
-Ты одна дома? – вырвался у меня
невольный вопрос.
-Нет, дома бабушка. Папа и мама ещё
в деревне, у другой моей бабушки. Я тоже была там несколько дней, но захотела в
город: там тоска такая, что хуже смерти. Они скоро приедут тоже…. А знаешь,
бабушка моя, как ни странно, легче всех перенесла отравление газами, она
говорит, что ей вера в Бога помогла, он её спас, и что все те беды, что
обрушились на город этим летом – это козни дьявола. Она рассказывала нам, что
ещё на Крещение ей снились дурные сны, и говорила, что в этом году, ближе ко
второй половине, на город и на нашу семью обрушатся большие несчастья: к ним
надо готовиться. Но ей никто не верил, все смеялись. … Только я не смеялась,
потому что с некоторых пор стала суеверной. … С некоторых пор. … А ведь вот
вышло, как бабушка говорила. Когда авария случилась на химзаводе, она меньше всех
в больнице лежала. Говорит, что духом готовилась к предстоящим бедам и
молилась, и Бог услышал её молитвы. Мы всей семьёй угодили в больницу, я неделю
валялась на больничной койке, а бабушка уже на второй день поехала домой.
Правда, она что-то не здорово поправилась. … Ну, заходи, чего стоишь?!...
Я зашёл в прихожую, отделанную со
вкусом, но скромно и не богато, огляделся, а потом затащил в коридор свой
огромный тюк с вещами.
Глава 30
Девушки исполнили энергичную
репризу, сопровождаемую мощным звучанием инструментов и исчезли в полукруглой
арке, свод над которой был похож на морскую ракушку.
На сцену тут же выскочил не молодой,
но бодрый конферансье и весело объявил в микрофон:
-Дамы и господа!.. Вечерняя
программа варьете … начинается!..
Представление приковало к себе
внимание всех собравшихся в зале.
Вероника с любопытством смотрела на
сцену, потягивая лимонад из бокала.
Я попросил её продолжить рассказ о
компании. Она с неудовольствием глянула на меня: видимо, ей очень хотелось
посмотреть варьете, – и я хотел уже было извиниться, но она поставила фужер на
стол и, окинув стол взглядом, стала говорить, одним глазом следя за действие на
сцене и изредка отвлекаясь и вовсе:
-Ну, этого товарища я знаю плохо….
Он редко появляется в кампании. Чаще его можно увидеть дома у Жоры, когда тот
не пускает к себе никого, кроме Фиксы и этого типа. Насколько я понимаю, он из
числа советников Бегемота, которых Бегетов видит только по делу и никогда не
приглашает в такую вот кампанию….
-А что, Бегемот большой делец?!...
-Да!.. Играет крупно....
-Например?
-Какой ты всё-таки любопытный, -
улыбнулась девушка, лукаво покачав головой. – Много будешь знать, плохо будешь
спать!.. Знаешь?!..
-Знаю, - согласился я.
Несколько мы сидели молча,
зачарованно наблюдали за действом на эстраде, и ели заказанное мною мороженое,
которое попросил Вероника: я было попросил официантку, чтобы десерт принесли на
всю кампанию, но девушка остановила меня:
-Не делай глупостей!.. Я же тебя
предупреждала, не трать больше ни рубля: угощает именинник и его сатрапы. Не
хочешь выглядеть лизоблюдом – не делай этого!..
-Да, скажут, что зажмотил?!...
-Не скажут!.. Кроме Бегемота!.. Если
что-то вякнет Зуб – не принимай обращай внимания: его слово здесь не закон, -
просто промолчи, он сам отколется!..
Я послушался её, заказав две порции.
В самом деле никто не произнёс ни
слова. Даже Бегемот, увлечённо следивший за девицами из варьете, бросив косой,
оценивающий взгляд, лишь криво усмехнулся недоброй улыбкой, правда так, что
кусок холодного десерта едва не застрял у меня в горле.
Вероника ела свою порцию без
зазрения совести и смущения, с чувством собственного достоинства, даже не
обратив внимания на ухмылку именинника.
-Очень вкусно, - сказала она,
облизывая ложку.
-Ну, а кто вот этот? – спросил я,
показывая на парня, сидевшего через одного, по другую от Вероники сторону,
рядом с девицей, беспрестанно смолившей сигарету.
Он единственный не смеялся над моими
анекдотами вовсе. У него были высокий лоб с залысинами, далеко уползшими в
недра кучерявой шевелюры дымчато-пепельных волос, и грустное на протяжении
всего вечера выражение лица. Он всё о чём-то думал, почти не разговаривая с
соседями, ел мало и не выпил бы вообще, если бы не напористость курящей девицы
и рыжего парня, сидевших по обе стороны от него.
-А это, - улыбнувшись, произнесла
Вероника. Она нагнулась к столу и пристально посмотрела на парня. – Это
Гладышев…. Просто Гладышев. Его все так и зовут: Гладышев. Это наш философ и
мыслитель…, если так можно выразиться, представитель думающего сословия в нашей
бедной серым веществом кампании. Он и сейчас сидит, о чём-то кумекает. Видишь,
какой грустный и задумчивый…. Между прочим, стихи пишет…, ага.
Я посмотрел на него внимательнее, и
в это время Гладышев повернул голову в мою сторону. Его печальный взгляд проник
до самого дна души, перебередив там мои чувства.
Его глаза внушали неясное смятение,
похожие на глаза безумца, от чего вдруг я почувствовал себя не в своей тарелке.
И вместе с тем какое-то безмятежное спокойствие опустилось на меня: моё
существо на несколько мгновений отделилось от времени и пространства и
наблюдало со стороны его течение, уносящее мимо меня этот ресторан и его
посетителей, этот ласковый и тёплый вечер, и город, и планету, и всю вселенную,
ставшую для меня вдруг такой маленькой, осязаемой, что я мог охватить её
руками, и это мне, вероятно, удалось бы, продлись ощущение ещё немного. В
глазах его словно отразился весь мир, но я так и не понял, почему увидел всё
это, будто какое-то наваждение нашло на меня в эту минуту, а они были не
причём.
Гладышев смотрел на меня ещё долго,
внимательно и грустно, но спустя секунду я уже ничего не ощущал, и мне даже
казалось: всего, что почудилось чуть ранее, и не было вовсе, - лишь заметив,
что у него, радужки глаз бесцветные, странные, не отражающие света, словно
чёрные дыры, пожирающие излучение, время и пространство….
Вечер в ресторане был в самом
разгаре.
Бегемот ещё пару раз предлагал
собирал подати, от которых я уже, по совету Вероники, воздержался.
Когда варьете ускакало на перерыв,
она рассказала мне об остальных присутствующих.
Рыжего парня, что сидел по другую
сторону от Вероники, - Петю Гвоздева, кликали Гвоздь или Ржавый. Саня, по
кличке Карман, сидевший рядом со мной, личностью был непонятной и аморфной,
бесформенной до глубины души, умеющей подстроиться под кого угодно ради своей
выгоды, а, кроме всего, прочего развлекался карманными кражами в общественном
транспорте в часы «пик». Как я её понял, Карман не страдал также и стремлением
к прекрасному: ресторан был и его кинотеатром, и выставочным залом, и
художественной галереей, и музеем, - словом, все его культурные потребности
удовлетворялись заодно и в совокупности в одном месте.
За Карманом сидел Андрей Оводков по
кличке Дрын-дра, доставшейся ему ещё в глубоком детстве, да так и плетущейся за
ним по жизни, а всё потому, что, возясь малышом в песочнице, беспрестанно
повторял: «Дрын-дрын-дра! Дрын-дра», - катая по песку машинки. О нём Вероника
сказала лишь, что жутко взбалмошный….
Гости порядком накачались спиртного,
щедро заказываемого именинником, и я, хотя и старался по возможности не пить,
уже почувствовал лёгкое опьянение и весёлую эйфорию, всегда сопутствовавшую у
меня такому состоянию. Хотелось предаться чувству беззаботности от весёлой музыки,
кривляний конферансье и вновь выскочившего на сцену варьете.
Я хотел было узнать у Вероники
что-нибудь про девиц, сидевших за столом, но её уже развлекал забавными
историями Саня Карман, отчего девушка весело и громко хохотала.
Ржавый куда-то исчез.
Вероника попросила меня поменяться с
ней местами: хотела подсесть к развлекающему её Карману.
Рядом со мной оказалось пустое
кресло, но вскоре его заняла девица, не выпускавшая на протяжении всего вечера
из рук сигарету.
-Какой у нас появился хорошенький молодой
человек! - сделала она мне комплимент. - Пойдём, потанцуем….
Я не имел ни малейшего понятия,
прилично ли танцевать в зале, где выступает варьете, и был в замешательстве.
Однако предложение её было своевременно, потому что танцовщицы снова удалились на
перерыв, и ярко освещённая разноцветными огнями рампа небольшой сцены опустела,
а ребята из ансамбля, видимо, тоже утомившись от свистопляски, которую в поте
лица аккомпанировали, ушли, подключив к колонкам магнитофон, с которого
заиграла медленная танцевальная музыка.
Я оглянулся, но не увидел, чтобы
кто-нибудь танцевал в зале, но отказываться было неудобно: раз приглашает, то
знает, что делает, и здесь, наверное, не в первый раз.
Мы вышли к рампе и закружились в
полумраке, в разноцветных бликах ламп, бросающих на нас красные, синие, жёлтые
и зелёные пятна. Пару минут мы танцевали одни, потом к нам присоединилось ещё
несколько пар.
-Как зовут? – задал я вопрос
партнёрше.
-Меня?!... Анжела…. А ты, видно, с
ней недавно знаком? – кивнула она в сторону Вероники, которая, слушая Саньку
Кармана, изредка бросала на нас колкие взгляды.
-Почему ты так считаешь? – удивился
я.
-Да потому что я тебя с ней раньше
не видела…. Очень странно….
-Что же странного?
-Да, вот, думаю: если ты знаком с
ней недавно, она не привела тебя сюда, а если давно, то почему раньше тебя не
видела…. Мы довольно часто с ней встречаемся, я захожу к ней домой, когда
скучно.
-А что, разве у вас нет друг от
друга секретов? Может быть, я её тайна, которую она решила открыть?!.
-Тайна?.. Ну, нет!.. Если бы ты и
был её другом на стороне, то сейчас не самое подходящее время это открыть. Она
же не дура…. Бегемот в августе едет отдыхать. … Ты, хоть, знаешь, кто такой
Бегемот?!... Так вот, он едет на Кавказ, потом ещё куда-то на курорты, и зовёт
с собой «принцессу» …. У него сейчас куча денег, и я сомневаюсь, что она
откажется от такой заманчивой поездки, потому что, если Жора кого-то берёт с
собой, то это надолго…. У него сейчас такой возраст, что он и жениться может. …
Я бы на её месте не отказалась! Да, думаю, и она этого не сделает. У Бегемота
денег море, с ним не пропадёшь….
-А по нему, - что богач, - я,
например, не сказал бы. Да и…, эти поборы с гостей - зачем тогда?.. Это ведь
унижает его достоинство….
-Ха-ха-ха…. Да ты просто не знаешь,
что это за человек. Он никогда ничего не делает просто так, за даром, и
считает, что люди, с которыми в приятельских отношениях, должны иметь деньги…,
хотя бы для таких дружеских посиделок в ресторане. Он не любит никого сажать
себе на хвост, да и корешей, даже ближайших, кормить на халяву не привык.
Дружба – дружбой, а деньги – деньгами. Вот как он считает и, по-моему, прав. У
него не так уж и много приятелей, с которыми он позволяет себе кутить, но зато
есть уверенность, что никто не дружит с ним из-за куска с барского стола. И я
считаю, что Бегемот – молодец….
-Ну, а ты?.. Тоже бросаешь в котёл
деньги? – поинтересовался я у Анжелы.
-А как же?!... Разве ты не заметил?!
– удивилась она.
-Честно говоря, не следил…. А откуда
у тебя-то деньги? Поди, с родителей трясёшь?..
-Не обижай, пожалуйста!.. Родители
дают кое-что. Но я и сама умею зарабатывать. В нашей кампании к тем, кто у
предков на шее сидит, - например, к Чучелу, - относятся неуважительно. Он, хоть
и крутится сам, но больше с родителей сосёт…. Его у нас уважают…. Чучело, это
вон тот, - она показала на парня пальцем.
-Да, я знаю, мне Вероника говорила….
А как же ты зарабатываешь? Поди, под гостиницами пасешься? – намекнул я на
платные развлечения, которые поставляли некоторые городские девицы сначала
иностранцам, а теперь уже и всем, у кого толстый кошелёк, с тех пор, как
итальяшки строили в городе трубный завод.
-Да, нет! – слегка отстранилась,
обидевшись, девушка. - Это не по мне…, но есть много других способов, как
обеспечить средства для жизни. Я, например, предпочитаю работать с Бегемотом,
потом в парикмахерской подрабатываю. Вот, недавно Жоре потребовалось напечатать
каталог каких-то бумаг…, рукописей, что ли, на русском и на английском…. Ну, а
английский – моя страсть!.. Я и машинку с English design одолжила у своей
соседки за косметику, - себе всё равно достану, - хорошую, портативную
электрическую. Ну, и что?!... Получила четыре косых…. Неплохо?.. Неплохо.
-А кто работу заказывал? –
насторожился я, хотя и был выпивший.
-Я же сказала – Бегемот…. А ещё с
подругой договорилась: подрабатываю за неё в мужской парикмахерской. Та свою
мафию крутит, бывают дни, когда ей позарез надо куда-нибудь смыться. Тогда она
звонит мне, и я, будь то выходной или Новый год, никогда не отказываю. Она
платит мне двести в месяц, а свою зарплату делит пополам с заведующей, чтобы та
не вложила начальству….
В это время показался конферансье и
объявил продолжение вечерней программы. Появившиеся музыканты плавно убавили
звук. Танцевавшие у рампы разошлись.
Я проводил Анжелу к столу, и она,
едва присев в кресло, снова закурила дорогую сигарету.
-У тебя неплохо получается! –
услышал я язвительную фразочку от Вероники.
Она снова отвернулась, намеренно
делая вид, что ей не надоело ещё дурковать с Карманом.
Место Гвоздева всё ещё оставалось пустым,
и за очередным тостом ко мне подсел Гладышев.
-Ты чего тут делаешь?! – спросил он
меня, как старого знакомого, которого увидел в совершенно неожиданном месте.
Я опешил от вопроса и пригляделся к
нему внимательней, - действительно ли мы с ним не знакомы, - но убедившись, что
тот мне никогда не встречался, ответил:
-Не знаю….
-Вот и я не знаю, - грустно вздохнул
Гладышев.
«Дурак, наверное!» - решил я про
себя, а мой новый собеседник опять заговорил:
-Веселимся, веселимся, а в душе-то
тоска смертная…. Такая скукотища, что сердце болит…. Ты думаешь, за этим столом
кому-нибудь весело? Здесь все сидят, не знают, что со скукой делать, маются,
бедолаги!.. И каждый стремится убежать от мучительного состояния, которое
называется одиночеством. А его всё равно не обманешь. Оно всё равно за глотку
возьмёт…. Ты не можешь мне ответить, в чём смысл жизни?.. Не можешь!.. Смысла
жизни, по-моему, вообще, нет. Пожалуй, самым правильным и мудрым было бы не
рождаться на этот свет. А мы рождаемся, и, кажется, не один раз. Знаешь, я верю
в библейские стихи, верю во Христа, в Страшный суд Господень и в то, что наша
жизнь на земле – это всего лишь испытание на крепость души против соблазнов и
козней дьявольских, и в то, что после жизни будет смерть, а после смерти будет
Суд Божий, и душа каждого получит своё: или пребудет вечно в Царствии Христовом
или гореть вместе со дьяволом и всеми его слугами в геенне огненной. Думаю, что
каждому определено будет, достойна ли душа жизни вечной после смерти тела или
нет, вознестись ли ей на небо, или быть низвергнутой геенну…. Мне кажется, что
Библия – это всё-таки не просто книга. Всё, что там написано, про жизнь
пророков израильских, правда, и то, что они общались с Богом – тоже, правда.
Конечно, несколько утрировано, но изложение идеи сверхразума, которое написано
рукой варвара, пусть и священника, пусть даже по словам апостолов, учеников
Христа…. Они всё-таки остались человеками, пусть и богоприближёнными…. И
написана эта книга для варвара, который хочет приобщиться к Богу, по-моему,
такому сверхкосмическому, что называется, сверхъестественному разуму. Цель этой
книги и всей религии, если она не извращается, как это часто делалось в истории
человечества, - приобщить полудикое, самобытно-варварское население,
цивилизацию земли к космической культуре…. Да, да, не смотри на меня так
удивлённо. Библия пришла к нам из космоса…. Она не принадлежит земной культуре,
равно как и все пророки, и сам Христос, сошедший на грешную землю ради спасения
человеков и обращения их на истинную дорогу жизни вечной, возвращение его в
лоно веры в Бога. Христос сошёл на землю из космоса, хотя и родился в чреве
земной женщины. Он привнёс людям Мировую идею, которую по крупицам до него
несли людям пророки Господни. Он завершение той работы, которую сделал Бог….
Впервые человечеству бесконечно широко открыли глаза на Истину две тысячи лет
назад. Ведь именно тогда на землю сошли Христос и Магомет, звёздные братья,
принесшие людям две братские веры от Господа: Новый завет и Коран…. Ветхий
Завет и Евангелие, - Библия и Коран – всё это книги, несущие нам мораль жизни
космического сверхразума. Мне так кажется, что жизнеописание святых в
религиозных стихах – это не что иное, как жизнеописание людей другой, более
высокой культуры, история её развития, это расшифрованная нам, земным
существам, информация, идущая от мировой идеи, от Бога, другими словами….
Мой странный собеседник вдруг
замолчал и посмотрел на меня, смутившись.
Действительно, довольно странны были
его религиозные откровения с незнакомым парнем, который мог про него подумать,
невесть что.
-Действительно, - заговорил он,
опустив глаза, - что это я разговорился…. К сожалению, в теологии я дилетант,
читал очень мало и почти ничего из подлинников. Вот недавно удалось прочесть
«Сына человеческого», но это же производная от подлинно святых книг. А хотелось
бы само Евангелие прочесть или Заветы, да и Библию не мешало бы…. Вот, недавно,
Бегемот достал где-то массу старинных книг и редких рукописей, просил меня
прикинуть их ценность. Я сделал ему эту работу. Книги там, конечно, великолепные….
Ума не приложу, откуда он их взял, да это и не моё дело. Дал он мне за работу
пять тысяч и ещё обещал три процента от сделки, но я у него просил совсем
другое: там было собрание писанных от руки церковных книг: Библия, Евангелие, -
короче – все-все книги, которые я мечтал прочесть. Я просил его оставить их
мне. Но… нет…. Очень жаль, я их даже прочесть не успел, Бегемот сразу забрал от
меня книги.
-Да, но за такие деньги можно купит
десять Библий по самой дорогой цене на чёрном рынке, да и ещё столько же
останется, - возразил я.
-Ты прав, но мне нужны рукописные
книги. На чёрном рынке много халтуры, и трудно разобраться, где там продаётся
что-то настоящее, а где упрощённо, «коммерческое», так, лишь бы продать. От
многочисленного переписывания теряются те солёные крупицы, которые с первого
взгляда трудны для понимания, но без которых теряются большая часть смысла и
вера, и остаётся словесная шелуха. Я, вообще, не доверяю чёрному рынку. А эти
рукописные книги, которые я держал в своих руках, в них есть что-то
мистическое, от них идёт какой-то свет, я его видел собственными глазами.
Может, я сошёл с ума, но они светились в темноте, от них шёл голубоватый
бледный свет. Может, конечно, они радиоактивные, но я так не думаю, потому что
остальные книги не светились. Печатные книги так не светятся. Я хотел бы иметь
такие рукописные книги святости. Не знаю, за сколько продаст их Бегемот, но
они, по-моему, бесценны. Когда я держал какую-нибудь из них в руках, то мне
казалось, что мне всё так понятно, что я уже её прочёл, но как только Бегемот
забрал их у меня, - всё пропало. Я умолял его оставить их мне вместо денег, но
он не пошёл мне на встречу. У меня после этого ощущение, что я как не весь, у
меня как будто что-то оторвали, как часть тела или души…. Теперь Библия – такой
же товар, как и всё прочее. В наше время не осталось ничего святого. Продаётся
всё: и жизнь, и даже душа….
«Вроде бы не дурак, - решил я, - но
явно в нём что-то есть от ненормального, не от мира сего. Слишком много блажи в
словах!»
-Ты, - мне сказали, - пишешь стихи?
– поинтересовался я, чтобы сменить тему.
-Да, пишу, - кивнул Гладышев,
наблюдая за кем-то из присутствующих, - ну и что?
-Да нет, ничего…, хотелось бы
почитать, - у меня возникло жуткое желание поинтересоваться, как у него это получается,
поделиться с ним секретами своей психики, которую тоже иногда захватывало такое
вот стихотворное состояние, когда не надо ничего сочинять, не надо напрягать
свой ум, потому что готовые уже строчки и строфы крутятся в голове, и надо
только выловить их, как рыбу из переполненного ею водоёма и вовремя записать.
Мне любопытно было узнать, бывает ли с ним такое, что он при этом испытывает:
такое же смятение, как я, или нечто другое. Было очень интересно узнать,
посещает его муза так же, как и меня, в самые неподходящие и неожиданные
моменты, или это случается с ним по-другому, поговорить с ним по душам, но я
испугался, что он не поймёт меня, а, напротив, решит, что смеюсь над ним или
хочу подмазаться к нему зачем-то. «Может быть, через это разговор мне откроется
поэтическая, родственная натура, и мы подружимся?» - думалось мне, но что-то
останавливало от этакого, желанного, откровения. Вдруг это лишит меня
поэтического дара? Начну записывать стихи, чего никогда не делал, а это, в
конце концов, разлагает музу души, как мне казалось, превращает искусство в
ремесло, вдохновение – в заказ. Всё вырождается и мельчает мгновенно. Страх,
что такое случится, останавливал меня от разговора с этим странным человеком о
сокровенном. Ведь недаром сказано где-то, что поэтична лишь душа одинокая. Это
она льёт целебную ауру, - подобно тому, как сосна льёт смолу на свои раны, -
которая и зовётся поэзией….
-Нет, к сожалению, не получится, -
ответил Гладышев, - стихи-то я пишу, но сразу же сжигаю их. Лишь иногда, когда
вдохновение посещает меня в кругу друзей, мои произведения становятся
достоянием других. Кое-кому из этих людей, - он окинул взглядом кампанию, -
достались обрывки моей души, моих чувств и страданий. Я никогда не даю сам, но
если просят – не отказываю. Но радости большой от этого, в общем-то, не
испытываю: отдаю написанное, и кажется, что отдаю кому-то кусочек своей души. И
её у меня становится всё меньше и меньше…. Боюсь, когда-нибудь, вот так, души у
меня не станет и вовсе…. Поэтому я жгу написанное….
-Зачем же тогда, вообще, пишешь, раз
опустошаешься? – удивился я у поэта.
-Не знаю, - усмехнулся тот, -
видимо, это способ моего существования…. Я без этого не могу. Мне страшно, но я
пишу, страшно, но я отдаю, страшно, – и я сжигаю…, понимаешь? Я боюсь опустошения,
и это мешает мне писать. Но я чувствую, что, если писать не буду, то
опустошение войдёт в мою душу с чёрного хода, через бездействие, и потому
балансирую между страхом и стремлением, между парадных выходом и чёрным входом.
Это очень тяжело, очень трудно, но я балансирую, потому что упасть в забвение
легче всего: усталость и лесть в человеке живучи. Но я побеждаю их своим
желанием писать, потому что испытываю при этом ни с чем несравнимый экстаз
вдохновения. Вот… ты имел когда-нибудь женщину?
-Я? – вопрос был неожиданным и
застал меня врасплох: Гладышев, увлечённый рассуждениями, не обращая ни на кого
и ни на что внимания, задал его так громко, что обернулась не только Вероника и
рядом сидящие, но даже другие посетители ресторана, сидевшие за ближайшими столиками.
Я не знал, что отвечать: с одной
стороны, не хотелось ударить лицом в грязь, но, с другой… Я стал вдруг центром
внимания едва ли не половины зала, и мне было от этого чрезвычайно стыдно.
Кроме того, мне совсем не улыбалась перспектива предстать перед Вероникой в
дурном свете или обидеть своими словами: итак уже, наверное, сильно упал в её
глазах, рассказывая пошлые и непристойные анекдоты.
Сомнения, стыд и смущение рвали меня
на части.
-…Так вот, - не обращая внимания ни
на то, что я ему не ответил, как будто это было само собой разумеющееся, ни на
то, что все вокруг смотрят теперь на нас и слушают, навострив уши, что он
скажет дальше, продолжил Гладышев, - экстаз, который ты испытывал от этого
занятия, - ничто по сравнению с моим экстазом вдохновения….
Вокруг раздались нехорошие,
недружные смешки. Это отрезвило его. Он словно очнулся, осмотрелся вокруг
своими пожирающими пространство и свет глазами, покраснел и потупился,
уставившись вниз и не находя места своим рукам.
Все, по кому он полоснул своим
жутким взглядом, вздрогнули, будто от удара электрическим током, и, сами не
замечая, переменились в лице, стали недоумевающе-удивлёнными, растерянными,
испуганными и поспешили отвернуться.
Лишь через несколько минут к
Гладышеву вернулась способность говорить, и он снова, как ни чём не бывало,
продолжил рассказ:
-Я не раз думал писать и складывать
свои стихи где-нибудь в тайнике…. Но тайника такого нет…. Самый надёжный тайник вот здесь, внутри, в
голове. Я согласен был бы, чтобы мои стихи опубликовали после смерти. Это было
бы честно. Человечество получило бы ещё одну крупицу духовности в общую копилку
культуры, и душа моя осталась бы целой. Да, и, к тому же, наша страна так
устроена, что в ней не признают истинных поэтов при жизни. Так было во все
времена. Ей почему-то нравится всякая посредственность. Зачем мне испытывать
какие-то коллизии недоброжелательности, тем более, зависти?.. Нет пророка в
своём Отечестве…. Такое ещё с Иисусом Христом случилось в его родном Назарете.
Наша страна признаёт гения только тогда, когда он уходит из мира сего! Вот
тогда можно спохватиться и его признать.
-От чего ты так думаешь? – я был не
согласен с ним. - Ведь есть же у нас в истории поэты, признанные при жизни! Или
ты хочешь сказать, что они все подряд недоросли, неучи и дебилы?!... У них даже
звания есть лауреатов там всяких заслуженных и прочие.
Гладышев заулыбался широко и
иронично.
-Милый мой друг! – рассмеялся он. –
Всё это бездарности, понимаешь? Без-дар-но-сти…. Это ремесленники от искусства,
делающие на искусстве деньги и тем живущие. Они выполняют лишь социальные
заказы правящих, власть имущих. А настоящий творец не может заставить себя
заниматься этим, писать то, что ему не нравится, что не угодно его душе. И, тем
более, не заставит писать его это кто-нибудь другой. Дух творца, истинно, не
принадлежит даже ему самому, а выполняет лишь волю провидения, высшего разума,
что действует через него на земле. Только Бог может подсказать человеку
истинное. Земные же правители руководствуются более насущным, земным и преходящим.
Они держат власть и заказывают музыку такую, какую считают себе необходимой. А
ремесленники эту музыку играют, переливая из пустого в порожнее. Они не пишут
ничего своего, да своё у нас в Российской Империи и не печатают. Издавна на
Руси и цензор, и чтец самый главный был царь… и его свита. А царь у нас нынче
от дьявола, коммунистического толка. Будет другой царь, и ремесленники от
искусства перестроятся и будут плясать под его дудку. Правда, последует
некоторое замешательство и кризис, но, будь спокоен, - они его преодолеют и
запоют на новый лад!.. А кризис будет лишь от того, что дудка слишком долго не
менялась: уже почти век. Это ремесленники, это приспособленцы! Истина закрыта
от них! И им никогда не открыть и малой толики правды! У них на каждую власть -
своя правда, которая удобна сегодняшним властителям. Истина для них
недоступна….
-Но чем ты лучше? – прервал вдруг я
Гладышева. – Ведь ты тоже никому не открываешь ни правды, ни истины, ни, тем
более, Вечной Истины жизни! Всё, что ты пишешь, исчезает без следа, не оставляя
ничего ни тебе, ни другим! ...
Он поморщился, будто от сильной
зубной боли, и посмотрел в глаза мне своими втягивающими, засасывающими грешный
свет глазами, отчего мне стало страшно.
-Ты поразил меня в само сердце, -
сказал он. – Не в бровь, а в глаз!
Вдруг он спохватился, полез внутрь
своего серого костюма, извлёк оттуда шариковую ручку, дешёвую и обгрызенную, и
небольшую записную книжку. Ещё и минуты не прошло, а он уже забылся, отрешился
от всего вокруг, ничего не видя и не слыша, а его рука, прыгая и выплясывая,
что-то быстро писала в блокноте.
Меня ткнули сзади локтем под ребро.
Я обернулся и увидел, что это
Вероника.
Она, улыбаясь, спросила:
-Ну, как тебе наш Гладышев?.. Вижу,
тебя увлекли его заскоки?!... А меня ты совсем забросил? Отдал на поруки
соседу? Вот так всегда бывает!.. Мужчины, мужчины, какие вы теперь кавалеры!
Пригласил даму в ресторан, а сам споришь, болтаешь с полоумным, совершенно не
интересуясь, чем дама занимается, и чего она хочет. Вместо того, чтобы пригласить
её потанцевать, увязался с незнакомой девицей…. Эх, ты! Извинился хотя бы!
Тон её разговора был полушутливый,
полусерьёзный. В нём чувствовалась и улыбка, но и укор, и упрёк.
Действительно, получалось некрасиво:
веду себя так, будто, совершенно её не знаю. Тем более, что с ней-то был уже
близок, и это, по крайней мере, обязывало уделять ей хоть немного больше
внимания, чем всем прочим здесь.
Гладышев захватил меня: я чувствовал
в нём нечто родственное себе. Впрочем, и диаметрально противоположное тоже привлекало.
Я ощущал, что в душе его живут те же таинственные, непонятные и могучие силы,
что иногда бередят и моё сознание, и чувства. Они так же бурливы и
непредсказуемы и так же, видимо, могут завладеть им в любой, самый неподходящий
момент.
У меня родилось непреодолимое
желание вывернуть наизнанку перед этим тихим и скромным человеком весь свой
внутренний мир, показать, что и я живу теми же полубредовыми переплетениями
строчек, строф и рифмованных мыслей, той же непредсказуемостью и
непоследовательностью, и, может быть, удивить его этим, заставить считать меня
братом по духу, избавиться вместе с ним от одиночества. Но сомнения, ещё
большие, чем желание сделать это, останавливали меня. Мне казалось, что те
стихи, что рождаются в моей голове – пустые и глупые, бредовые и беспросветные
в своём дилетантстве сложения, которые и стихами-то назвать нельзя. Тем более,
никто, вообще, не знал, что со мной бывает такое. И, если Гладышев ещё что-то
записывал, что-то кому-то из близких друзей давал читать, то я не записал ни
одной из возникающих в моей голове строф. У Гладышева кто-то мог
свидетельствовать, хотя бы, что он странный, но всё-таки поэт, а кто мог такое
сказать про меня?!... Нет, даже, если попытаться открыться ему, он не поверит,
что со мной твориться то же, что и с ним…. К тому же, я не хотел больше обижать
Веронику, более того, чувствовал, что не в силах ей возразить…. Даже, если её
желания стесняют мою свободу….
Дурацкое положение, в котором я
оказался, терзало меня своей неопределённостью. Что должен чувствовать человек,
испытывающий желание повернуться сразу в обе стороны и занять людей, совершенно
исключающих друг друга из сферы общения? Вероятно, ничего другого, кроме того,
что ощущал в эти минуты я: полнейшее смятение чувств и растерянность.
Я так и не смог выбрать ни одного из
двух, и болтал головой из стороны в сторону, как китайский фарфоровый
болванчик, пока ко мне вновь не обратился Гладышев.
Его всё пожирающие, странные
глаза-дыры, не отражающие даже света ламп, не блестевшие отражением фонарей и
светильников и от того казавшиеся мутными, неживыми, нарисованными,
загипнотизировали меня, как кролика и обратили к себе.
-Вот, это тебе! – произнёс он,
отрывая несколько листков из записной книжки. – Я, конечно, понимаю, что не
Пушкин, не Есенин, не Блок, но всё-таки….
Я взял у него протянутые мне
листочки бумаги и увидел написанные на них корявым, неровным, торопливым
почерком стихи. Взял первый попавшийся и, с трудом разбирая неразборчиво
написанные буквы, прочёл стихотворение:
Их
бог – наш царь,
Мне
просто всё и ясно.
Кому
покажут, – встань и вдарь,
И
всё прекрасно!
Сменяются
кандалы вот
Одни
другими,
Нам
затыкали смело рот
Речьми
благими.
Не
верю вам,
Цепные
псы!.. И прочь уйдите!
Я
вам свой голос не отдам,
Как
не просите….
На другом листке было ещё одно
стихотворение, совсем другого содержания, хотя, честно говоря, смысл первого
остался для меня туманен, и того эффекта, которого, видимо, ожидал автор, оно
на меня не произвело:
Уже
полуденная слякоть
С
улыбкой съела хмурый день,
Весь
без остатка: твердь и мякоть,
Всё
размозжила в блуд и лень.
Уже
поруганная осень
Устало
по полям бредёт,
Среди
поникших верб и сосен
Мне
мило шляпу подаёт.
Уже
не стало прежней чащи,
Листвы
сопящего бора,
И
сердце шелестит всё чаще,
Что
на покой ему пора.
Пора!
И пусть сомкнутся тучи,
На
золото сгоняя тень,
Пускай
листвы паденье круче,
Пусть
сохнет мой уставший пень.
Пусть
срубленный под корень тополь
Не
пустит пух. Весны заря
Струится
в дымке мимо, околь
Поверх
коры, над гробом зря….
«Однако второе стихотворение намного
интересней первого: лирика этому Гладышеву даётся лучше политики. Ему не стоит
столь усердствовать в нападках на власть: они у него кроме своей напрасности и
зряшности, ещё и очень плохо получаются. А вот лирика, вроде бы, лучше,
красивее и понятнее! И намного!» - подумал я про себя, переворачивая листок и
начиная читать следующее стихотворение:
Под
тучу спряталась Луна,
И
туча, чёрная, как тень,
Плывёт
над ней, не зная сна,
И
будет ль завтра новый день
Огромный
на дверях замок,
За
ним – пустой, холодный дом,
А в
горле вновь застрял комок
Былых
надежд, с последним сном
Ушедших
в мир чужих часов
Игры
обмана, слёз любви.
И
ржавый, брошенный засов
Дурманом
боли жжёт в крови.
Пустая,
призрачная ночь.
Вот,
кажется, последний час
Настал,
и все уходят прочь,
Всё
– прошлое, лишь Неба Глас
Вот-вот
разверзнет мрак печальный.
В
душе творящийся кошмар
Утихнет
с миром. Свет хрустальный
Сомнений
затушит пожар….
Ну, это было совсем прелестное
стихотворение, только вот, как мне показалось, немного хромоватое в конце,
словно под другой какой-то ритм, - или размер, я ведь не литературный критик, -
написанное.
На последнем листочке я прочёл:
Какой
сегодня чёрный день
И
длинный, как февраль.
Под
сердце нож, на душу тень,
А в
дом мой вновь печаль.
Какой
ужасный серый день,
Стук
каблуков пропал,
Догнать
тебя мне было лень,
Я
понял: я устал….
Мне
всё же очень тяжело,
Всё,
как в замедленном кино,
Меня
куда-то понесло,
И
вот уже на стол вино.
И
мочит календарь слеза,
Я
пьян, и каждый раз
Есть
сотня «против», десять «за».
Всё
злит мой буйный глаз….
Стихотворение было недописанное и на
меня особого впечатления не произвело, напротив, оставило некий негативный
след.
Я перевернул последний лист на
тыльную сторону и увидел там ещё одно стихотворение:
Фантазия,
буди во мне весну,
Стреляй
меня и мучай беспощадно.
В
твоих цветах и буйстве утону,
Зелёным
лугом вывернусь. Прохладно
Ещё
в лесу, не курится сирень,
И
прошлогодний снег лежит устало.
В
душе своей остатка грусти тень
В
груди томит тревожно, запоздало.
Мне
радостно, я чувствую приход
Тепла
внутри меня, любви и чувства,
Что
струны серебра, их хоровод
Из
голосов старинного искусства.
Умело
петь, красиво жить и пить
Нектар
любви, и в малом видя счастье,
И в
небо радугу со звоном лить,
И
тучи гнать, и спугивать ненастье….
«Да, уж, радугу лить у него хорошо
получается!» - съязвил я из зависти, сам не зная толком, почему. Мне было в
диковинку, что за несколько минут этот чувак начиркал столько всяких стихов,
пуст и не очень красивых в отношении стилистики и где-то хромающих по смыслу и
ритму, но всё-таки довольно прилично срифмованных, а, главное, - на совершенно
разные темы. Здесь у него и политика, и лирика, и интимные переживания, и
страдания любви, и какое-то воспевание своих чувств, то ли просыпающихся от
наступления весны, то ли рождающихся под действием его собственного вдохновения
и фантазии….
Всё-таки, что ни говори, а, как
поэт, Гладышев заслуживал внимания, несомненно. Такая богатая фантазия и такая
неимоверная скорость сочинительства! Ему, несомненно, удалось бы установить
рекорд в книге Гиннесса, если бы он туда обратился, по скорости производства
стихотворений.
-Вот это, - я указал Гладышеву на
стихотворения, начинавшееся словами «Уже полуденная слякоть…», - надо было
как-то назвать. Оно без названия, по моему, не очень…
-Да, - согласился он, внимательно
следя за тем, как я читаю его стихи, - я бы назвал его «Осень» …. А вот первому
даже и названия нет. Да оно и не удачно получилось….
-Слушай, Гладышев, - обратилась к
нему Вероника, видимо, решив взять, что называется, быка за рога, - у тебя
совесть есть?.. Ты бы отстал от человека. Как ты уже достал всех своими
непутёвыми стихами!.. Тоже мне поэт! Ну, чего ты человека смущаешь, заставляешь
какой-то свой бред читать?! Он же тебя впервые видит, а ты ему уже навязался!
Он ведь подумать может, ненароком, что ты чокнутый. Ты бы отсел от него на своё
местечко…, тем более, что сейчас Гвоздь вернётся, а он не любит, когда его
место занимают, - ты же знаешь! А уж тебе-то он точно спуску не даст! Пойди,
лучше, развесели Анжелику, а то она сидит уже в гневе на весь белый свет, дымит
как вулкан и вот-вот взорвётся! ...
Вероника разговаривала с Гладышевым,
как с ребёнком, нравоучительно-снисходительным тоном. Её высокомерное к нему
обращение создавало впечатление, что она считает его за великовозрастную
дитятю, с которой и спросить-то нечего, а себя, - по крайней мере, -
сострадательной нянечкой из дурдома, разговаривающей с душевнобольным.
Гладышев посмотрел на неё странным
взглядом своих необычных глаз, который, кажется на неё нисколько не подействовал,
но ничего не ответил ей, хотя по выражению его лица я понял, что он бы хотел
ответить ей что-нибудь обидное, но не нашёлся в этом, и снова обратился ко мне:
-Ты знаешь, по моему, Пушкину было
бы также неуютно в России при нынешнем режиме, как и, почти два века назад, при
царском: суть-то у них одна, - сказал он вдруг ни с того, ни с сего, как будто
бы мы только и делали, что говорили о Пушкине.
Эта непоследовательность,
несвязность и нелогичность разговора, в котором он вдруг, неожиданно прыгал с
одной темы на совершенно её не касающуюся, испугала меня, и я подумал: «А не
имею ли я, в самом деле, дела с душевнобольным, ненормальным психически
человеком, у которого расстроено и раздолблено сознание. Он ведь, кажись,
совершенно не помнит, о чём мы с ним только что говорили, что он, вообще, делал
пять минут назад!..»
Эта мысль поразила меня. Видимо, от
этого лицо у меня сделалось таким, что Гладышев вдруг, оправдываясь, сказал:
-Ты извини, пожалуйста, у меня в
голове столько мыслей, что приходится некоторые говорить совершенно не к
месту….
С этими словами он отсел на своё
место.
-Я же говорю, что у него дома не
все! – сказала тихо, словно пытаясь оправдаться, Вероника. – Я его не понимаю и
никогда, наверное, не пойму….
Она взяла у меня из рук бумажки со
стихами и, усмехаясь, спросила:
-Ну…, что это такое?! «Пусть сохнет
мой усталый пень…» Чушь собачья! Стихоплёт несчастный! Пародиста на него нет!
Его же в пух и прах можно разделать, как ты считаешь?
-Не знаю, - ответил я ей, потупив
взгляд, как будто она говорила обо мне.
Мне было досадно, и я вовсе не
считал Гладышева сумасшедшим, хотя временами на это было похоже. Я знал, что у
него в душе творится подчас такое же, как и у меня, когда стихотворения
несутся, словно снег во время пурги, обгоняя в своём бешеном полёте друг друга.
Если был «психом» Гладышев, то, значит, был психом и я. Меня начинали
раздражать нападки Вероники на него, а потому, наверное, и, вообще, её вид и
манеры.
В это время вернулся Ржавый, не
заставив себя долго ждать. Вернулся, как и предупреждала Вероника: видимо,
знала, где он был.
Сев на своё место, он тихо опрокинул
навзничь в рот стопку водки и задавил её каким-то, - из свеклы что ли, -
салатом, ещё остававшимся на столе. Оказалось, что он ходил к столику, за
которым веселился Шабрыкин. Тот был знакомым, как выяснилось, едва ли не со
всей кампанией.
Вскоре и сам Шабрыкин подошёл к
нашему столу поздравить именинника. Он поздоровался со всеми, а, пожимая руку
мне, спросил:
-Ба-а-а, а ты здесь какими
судьбами?!...
-Да так, пригласили, - смутился я,
опасаясь, что сейчас Шабрыкин выдаст всем, кто я такой.
-Ну-ну, - ответил он мне со
снисходительной и надменной улыбкой, - занесло пташку, да не в ту кампашку!..
Бегемот и Зуб глянули на него
пристально и настороженно, навострив уши. Я заметил это. Они прислушались к его
словам, но больше он ничего не добавил, а, обойдя стол и присоседившись рядом с
виновником торжества, закурил истребованную у насупившейся Анжелики сигарету.
-Это знакомый Жоры, - шепнула мне на
ухо Вероника. – Я его знаю плохо. У него своя банда, но наших пацанов он знает
хорошо. Кстати, он когда-то даже учился у вас в училище, и ты должен быть с ним
знаком.
-Да, как видишь, есть немного, -
согласился я.
Поговорив с именинником о чём-то
совсем тихо, Шабрыкин минут через пят покинул наше общество, а Бегемот тут же
громко объявил:
-Так…, ну что! Считаю, что наш
дружеский ужин закончен!.. Но… вечер продолжается! Едем ко мне домой на
коньяк!.. Я приглашаю тебя, - показал он пальцем в мою сторону, - тебя,
Гладышев, тебя, Карман, тебя…, тебя…, тебя…, ну и, разумеется, всех дам….
Бегемот не назвал лишь Стропилу и
ещё одного человека, сидевшего весь вечер так тихо и незаметно, что я даже не
поинтересовался, кто он такой.
Публика приглашение именинника
приняла с восторгом и радостью.
-Здорово! – горячо зашептала мне на
ухо Вероника. – Когда Бегемот приглашает к себе домой, это значит, что у него
обязательно будет лазерный видик, и мы будем глядеть его всю ночь!.. Ну, а если
там будет ещё и коньяк, то бьюсь об заклад, что только «Наполеон», да ещё с
какими-нибудь бешено дорогими и дефицитными конфетами!.. Коньяк, к тому же,
хороший, да ещё с великолепными шоколадными конфетами – приятное и изысканное
угощение…. Да ещё, если найдётся немного молотого жареного кофе, то будет
просто мило и прелестно!..
Кампания потянулась к выходу из
зала.
У подъезда в это время можно было
всегда без труда поймать такси: народ валил сюда валом, и «тачки» шныряли одна
за другой.
Уже через минуту кампания
рассаживалась по отловленным машинам.
-Ну, что, ты видишь, как Бегемот
проучил Чучело? - спросила меня Вероника. – Все поехали, а он остался…. В
следующий раз будет знать, как жмотничать.
И действительно, Стропила откололся
от нашей кампании и остался на крыльце у входа, издали обиженно наблюдая за
нами.
-Ты знаешь, я, наверное, тоже не
поеду к Бегемоту, - сказал я вдруг Веронике.
-Да ты что?!... Он ведь пригласил! –
изумилась девушка. – Новичков он, обычно, к себе не приглашает, и я считаю, что
тебе крупно повезло….
-В чём только?.. Ты рассуждаешь так,
будто я поставил себе целью заручиться его дружбой. Да плевать я хотел на
вашего Бегемота! Понимаешь?!... Плевать!.. Через несколько дней я навсегда
покину этот город! И не известно, вернусь ли, вообще, когда-нибудь сюда.
Бегемот, вся эта кампания…, ты… - вы останетесь!.. А меня здесь не будет уже
никогда!.. Да и сегодня я чисто случайно попал сюда… И только потому, что….
Если бы не ты, я никогда не попал бы в это общество из дураков и негодяев!..
Мне глубоко параллельно, что будут обо мне в этой кампании думать, и как, тем
более, будут относиться….
-И даже, как буду к тебе относиться
я? – обиделась Вероника.
-Не знаю, - я замялся, не находя
ответа, потому что не хотел говорить ни «да», ни «нет». – Мне не хотелось бы,
чтобы ты вспоминала меня плохо, но… пойми меня: ехать туда мне совершенно не
охота!..
-Почему? Разве что-то произошло?..
-Да, в том-то и дело, что нет…. Но,
понимаешь, когда вот так вот, ни с того, ни с сего, увидев впервые, тебя вдруг
приглашают к себе в гости, это внушает определённые подозрения….
-А когда я тебя сегодня ни с того,
ни с сего полюбила, это тебе понравилось?!...
-Давай не будем об этом! Это разные
вещи…. Любовь – это нечто другое! Это как сон, когда не соображаешь, что
делаешь.
-Очень интересно выслушивать
философствования о любви у подъезда ресторана…. Ну…, а если ты ничего не
соображаешь, то это весьма печально! Любовь – это не только сон, как ты
говоришь, но и часть человеческих отношений, понимаешь? А они, ведь, отношения
эти – довольно хрупкая, тонкая и нежная вещица, легкоранимая ткань. Их очень
тяжело восстановить!.. А разбить – не стоит и пустяка….
-Так…, эй вы!.. Ну…, вы!.. Скоро
там?! – раздался голос Бегемота.
Все приглашённые уже расселись по
машинам, и теперь он вылез, чтобы поторопить нас.
-Извини, Жора, но мы не поедем! –
сказала ему Вероника.
На лице именинника выступило сперва
изумление, а затем и досада.
-Мне надо домой, - соврала ему она.
– Ты же знаешь, что у меня очень больная бабушка…. А он меня проводит: я так
хочу….
-Ладно, - процедил сквозь зубы Жора,
вероятно, догадываясь, что его пытаются надуть. В голосе его прозвучало больше
злости, чем сожаления, и он ответил уже весьма недружелюбно. – Ну, что ж,
оставайтесь, если вам нужно!.. Мне очень…, очень жаль!..
Через минуту у ресторана остались
только мы вдвоём, да ещё Стропила, удалённый из общества из личной неприязни
предводителя.
Увидев, что мы не поехали, он слегка
повеселел, подошёл к нам и спросил:
-Что, вас тоже не взяли?
На лице его сияла довольная, почти
злорадная, улыбка.
-Да нет, у нас просто дела!..
Поэтому гуляй себе…, Витя, - вздохнув с поддельным сожалением, ответила ему с
насмешкой Вика.
Надменная улыбка потухла, и
Стропила, развернувшись, побрёл вдоль тротуара прочь.
-Вот видишь, как всё получилось? –
упрекнула меня девушка.
-А ты зачем осталась?.. Я же тебя не
просил, - ответил я упрёком на упрёк.
-Если бы просил, я бы не осталась….
Мне так захотелось. Я с тобой пришла, с тобой и уйду!..
-Спасибо, - сказал я ей.
-Не стоит благодарностей. Don’t
mention it! – ответила она. – Ну, и куда мы теперь?..
-Не знаю. Я думал поехать в училище.
А теперь… не знаю….
-Ну, что ж, пойдём…, я тебя провожу,
а потом поеду домой.
-Давай пройдёмся пешком, – предложил
я. – Ещё ж не вечер!..
-Не возражаю!
Она взглянула на часы и грустно
вздохнула.
Мне стало стыдно, что я доставил ей
неприятность.
-Ну, хочешь, я сейчас поймаю тачку и
отвезу тебя к Бегемоту? – спросил я в порыве запоздалого рыцарства.
Она посмотрела на меня внимательно и
спросила:
-А ты там останешься?
-Не знаю…, наверное, нет!.. Мне не
хочется….
-Тогда не надо! Пошли в твоё
долбанное училище!
Мы пошли направо по улице, удаляясь
от ресторана, завернули за угол и выли на пешеходную площадь перед городским
драматическим театром, с огромным квадратным фонтаном и небольшим сквериком в
центре, потом, прогуливаясь по ней, оказались на тихой малолюдной улице, идущей
через квартал от проспекта, параллельно ему. Здесь всегда было мало автомашин,
потому что асфальтовое покрытие дороги находилось в ужасном состоянии. Повсюду
были глубокие ямы, заполненные песком и щебёнкой, водой и грязью. Те, кто
решался однажды здесь проехать, больше никогда этого не делали, дабы не разбить
рессоры и амортизаторы. Поэтому гулять можно было смело, безо всякой опаски,
прямо по проезжей части.
Улочка тянулась по отрогу пологого
склона холма, сначала мимо пятиэтажек, а там наверху, - ближе к Вечному огню,
от которого с обрывистого склона возвышающейся над низиной площадки открывался
великолепный вид на лесопарковую зону вдоль реки Псёл, дачный райончик под
самой кручей и белые многоэтажные кварталы левобережной части города,
раскинувшиеся по низине в заречье до самого химзавода, - мимо деревянных и
кирпичных частных домов.
Улочка вид имела нелюдимый. Лишь иногда
навстречу попадались ватаги малолеток, бродящие в поисках приключений,
слоняющиеся без дела или направляющиеся в центр города. Как ни странно, но ними
мы разминулись мирно, что было редкостью для злобного нрава местной шпаны.
Если с улочки этой повернуть налево
и, пройдя между частных домов, спустится вниз по склону холма, который, чем
дальше от центра, тем всё более набирает высоту, то одна из извилистых, крутых
и узких дорог приведёт прямиком в центральный городской парк. Сейчас, когда
дневная жара спала там полно народу, вовсю крутятся всевозможные карусели,
медленно вращается «чёртово колесо», носятся, сталкиваясь и отскакивая друг от
друга на площадке автодрома бамперные электрические машинки, работают
многочисленные кафе и забегаловки, шум, гам, - жизнь кипит и бьёт ключом.
Пройдя по асфальтовым дорожкам парка, обсаженным аллеями высоченных тополей, на
которых висит бесчисленное множество плотных шаров из прутьев, - вороньих
гнёзд, прячущихся летом в листве, зато зимой пугающих своим удручающим
сюрреализмом в голых кронах деревьев, мимо сражающихся с пылью и удушьем
городской асфальтовой атмосферы огромных клумб, радующих глаз щедрым ковром
роз, высаженных всюду, великолепным орнаментом обрамляющих их кусты цветов
попроще, словно в оранжерее возделываемых чьими-то заботливыми руками, далее
можно выйти к центральному городскому пляжу, на котором в такие длинные, тихие
и знойные, летние вечера, когда в просторном и бездонном небе начавшее падать к
закату солнце едва лишь окрасило в золотистые тона облака, а само ещё
невыносимо блестит, отражаясь позолотой в воде спокойной реки, особенно приятно
отдыхать, наслаждаясь очередным начавшим угасать жарким июльским днём, даже не
смотря на то, что воздух и река не такие чистые, как того хотелось бы, и
немного не вписываются в прелесть июльского предвечерья, навевающего тихую,
сочную, сладкую, томную грусть роскошной середины лета, которое вот-вот
помчится к краю, к осени, к холодам и слякоти….
Если же идти по улице дальше,
медленно поднимаясь всё выше и выше над рекой, то, не доходя метров двести до
перекрёстка, где она соединяется с вильнувшим к берегу проспектом главной
дороги, можно увидеть одну из достопримечательностей города: место, где
торжественно принимают в пионеры, куда приезжают фотографироваться выпускники
школ города, а на день победы приходят с цветами горожане, на чёрных лимузинах
подкатывают первые люди города, городская элита, которая первой возлагает
приготовленные для них роскошные дорогие корзины с цветами и венки к Вечному
огню памяти павших, а милиция стережёт их право «прима» от посягательств
народа, который и без того ведёт себя смирно, с пониманием, терпеливо
присутствуя при этом и ожидая, когда сильные мира сего исполнят свой
торжественный ритуал.
Вечный огонь горит у подножья
высокой стелы, на вершине которой – бронзовая скульптура воина, поднявшего
ввысь над собой обнажённый меч. Вокруг, по краю площадки на высоком утёсе
холма, полукругом выступающей над обрывом, широкое кольцо бетонной рампы. Ближе
к дороге стоит на пьедестале «тридцатьчетвёрка». Всё это мемориал Вечной Славы
погибшим при освобождении города воинам Великой Отечественной войны. Их фамилии
отлиты на бронзовых таблицах, выложенных по всей бетонной рампе. В праздники
Вечный огонь у стелы в почётном карауле охраняют пионеры из ближайшей школы.
Впрочем, сейчас Вечный огонь на ночь стали выключать, тогда как прежде,
когда-то, говорят, он горел постоянно.
От Вечного огня у стелы зажигались в
памятный майский день Победы огни факельного шествия, особой традиции городской
молодёжи, которая, однако же, удручала меня своим неуловимым сходством с
праздниками фашистских штурмовиков, что доводилось видеть в кинохронике. Эти
сотни факелов на ночных улицах, производили странное впечатление. Успокаивало
лишь то, что это «наше» факельное шествие, а не «их».
У Вечного огня в дни свадеб, по
пятницам и субботам можно увидеть длинную вереницу кортежей, украшенных яркими
лентами, куклами, большими переплетёнными обручальными кольцами с
колокольчиками, воздушными шарами и другой мишурой, стоящих у тротуара напротив
стелы и целую толпу брачующихся, родственников, свидетелей с красными лентами
через плечо, по традиции приезжающих сюда, млеющих от жары под палящим солнцем
летом и кутающихся в накинутые поверх подвенечных белых платьев и свадебных
костюмов шубы и пальто зимой, терпеливо ждущих своей очереди
сфотографироваться, а затем торопливо возлагающих цветы в дань подвигу павших.
Глава 31
Наш путь до училища занял добрый час
времени. Мы, не спеша прогуливаясь, медленно шли вверх по улице, сначала молча,
видимо от того, что девушка обиделась на меня, но мало-помалу Вероника оттаяла:
-Знаешь…, я раньше относилась к
жизни проще. Всё для меня было ясно. Теперь же, чем больше я живу, тем сильнее
задумываюсь над тем, что же такое жизнь…. У меня иногда такое впечатление, что
всё, что происходит, это сон. В самом деле…, куда девается прошлое? Вот мы: сидели
в ресторане, теперь бредём по унылой улице…. И захочешь вернуться назад – не
сможешь…, ни на минуту, ни на секунду. Почему так?..
-Не знаю, - пожал я плечами, - может
быть, это логика жизни…, логика мироздания.
-В буддизме есть понятие: карма. Вот
это и есть логика, про которую ты говоришь…. Смысл её в том, что мы на всех
делим злую судьбу мира. Одним её достаётся больше, другим меньше, но на всех
хватает, и каждый человек в этой жизни в чём-то по-своему несчастен. Захочешь
обмануть карму – будешь наказан. И мне ужасно грустно понимать это. Иногда
становится просто не по себе! ... Раньше я не задумывалась над этим, но
теперь…, когда остаюсь одна, то часто пытаюсь понять, что же такое время. И
теперь я уверена, что время – это не только среда нашего обитания…, это враг
жизни, носитель кармы мира. Время – это враг молодости, враг постоянства, враг
человека и… мой личный враг. Оно стремится в бесконечность, но… бесконечно и
любое, отдельно взятое мгновение. Только не вдоль, а поперёк потока времени. Я
вот понимаю это в себе, но не могу выразить правильными словами…. Это трудно
объяснить, но смотри: та девочка, что сидела с тобой в ресторане…, её уже нет.
Рядом с тобой совершенно другой человек, с другим поведением, а девочка
навсегда осталась там, в ресторане, и никогда оттуда не выйдет. Та девочка и я
сейчас – два разных человека. Их разделяет пространство и время. Пространство –
это тоже враг. Оно разделяет людей, становится преградой для их общения, хотя
они и существуют одновременно. Время отделяет человека от самого себя, а
пространство – людей друг от друга. Они перпендикулярны в векторах своих
действий, но совершают одну и ту же работу. Они разрушают постоянство,
константу. Но время всё же коварнее, опаснее и злее. Оно дробит сущность
человека на части…. Лет через сорок-пятьдесят, если, конечно, доживу, из меня
получится уродливая скрюченная, сморщенная старуха, вон как та, что идёт за
водой, - она указала кивком головы на бабульку, появившуюся из калитки высокого
глухого забора вокруг красного кирпича добротного дома, которая брела с
коромыслом через плечо. На коромысле болтались пустые вёдра, бабулька еле-еле,
с трудом переставляла ноги, обутые в валенки, направляясь к водяной колонке,
торчащей посреди тротуара. – И та старуха не будет иметь со мной ничего общего.
У неё даже мысли будут другие, а обо мне у неё будут такие же представления,
какие сейчас, наверное, у моей бабушки, с той лишь разницей, что она будет
знать обо мне намного больше, и это будет тяготить, или, наоборот, осветлять
некоторые из воспоминаний, касающихся меня. Но, впрочем, они могут и затухнуть
под грузом равнодушия, старческого слабоумия и безразличия ко всему, что было,
но уже никогда не вернётся. Ведь человек равнодушен к своему прошлому, оно
волнует его только, если каким-то образом может повлиять на грядущее. Мне
кажется, правда, не знаю, как это объяснить, что равнодушие к прошлому
определяет косность будущего, что, если захотеть, то можно изменить будущее
через изменение воспоминаний из прошлого…. Однако мне не хватает слов объяснить
моё знание откуда оно взялось…
Не раз случалось, что какая-нибудь
нечаянная фраза собеседника, случайная вовсе, но музыкальная и ритмичная по
своей форме, отзовётся во мне резонансом, перекладываясь в поэтическую рифму.
Вот и сейчас в голове моей, словно титры к фильму поплыли строчки, рождённые
перестановкой слов:
Они
затухнуть тоже могут
Под
грузом равнодушного ярма,
Что
временем наложено. И омут
Глубок
его, в нём только мрак и тьма.
Отчаянье
напрасно, ведь утихла
Прошедших
дней безвременная боль.
Их
не вернуть. Душа печально сникла,
Вкусив
от времени печали соль….
Мне захотелось прочитать родившиеся
строфы девушке вслух, но я осёкся, едва вспомнив, как она отзывалась о
Гладышеве, из опаски быть осмеянным прямо сейчас или, хуже того, за глаза. И
почему-то, словно острой саблей полоснуло вдруг по сердцу, и стало очень-очень
больно. Может быть, и на меня ей бы захотелось найти пародиста….
Мне
больно, словно острой саблей
По
сердцу полоснуло вдруг.
Рождённый
упоеньем звук
Закончился
банальной травлей….
В душе
и пусто, и темно,
Не
хочется терпеть страданья,
Как
прежде, вновь глядеть в окно,
Любить
и пить воспоминанья….
-Ты знаешь, - после некоторого
молчания заговорила Вероника, - со мной однажды произошла престранная история….
И, хотя, всё случилось со мной на самом деле, я до сих пор не верю, словно бы
это был сон…. Я никому и никогда не рассказывала об этом…, потому что боюсь….
Боюсь, что меня не поймут, а, может быть, случиться ещё нечто… ужасное.
-Например?..
-Например?.. Меня сочтут
сумасшедшей…. Просто то, что со мной случилось, не может быть воспринято
людьми, как реальность, понимаешь?.. Это слишком невероятно. Я боюсь
рассказывать это даже тебе. Очень страшно обмануться…. Но мне надо рассказать.
Если ты не поверишь мне, то я не знаю, что со мной будет….
Голос её задрожал от сильного
волнения, она повернулась ко мне, пытаясь заглянуть вглубь моих глаз и, будто,
прочесть мои мысли.
-Не бойся, рассказывай, я пойму
тебя, что бы это ни было, - попытался я успокоить её.
В самом деле, мне было забавно и смешно.
Чем, интересно, попытается удивить меня эта девчонка?!...
Я перебирал в мыслях все возможные
варианты и не находил ни одного достойного.
Обычно, девочки любят поплакаться,
как её лишили девственности, а она не хотела, - ну, чтобы запудрить парню мозги,
- уверив в том, как он дорог, и, если бы не та ошибка, когда ей показалось, что
это любовь на всю жизнь: отдалась, а всё оказалось банально и мерзко, - то она
непременно дождалась бы именно его и отдала бы девственность только ему….
Но в случае с Вероникой этот вариант
«невероятной истории» отпадал сразу. Во-первых, она всё ещё была девственницей,
которая, правда, совершила сегодня со мной попытку её лишиться, может быть,
даже не первую. А, во-вторых, она даже не скрывала от меня своего интереса к
массовому заблуду, когда мне не удалось развенчать её от девства….
-Да, здесь главное – поверить,
понимаешь?!... Поверить, потому что в то, что расскажу, самой не хочется
верить. Я даже себя заставить хочу думать, что это был сон. Но….
«Может быть, она сейчас признается
мне, что всё это время давала мальчикам использовать себя в другое место? -
пронеслось у меня в голове. – Тогда почему сегодня не дала сделать этого мне?!»
-Я постараюсь поверить тебе, - по
мне вдруг поползли мурашки от какого-то неясного предчувствия.
-Тогда слушай и постарайся не
перебивать. Я буду говорить, а мне будет жутко и страшно, захочется убежать, но
бежать-то некуда, от себя не убежишь. … Итак, это было два года назад. Я
дружила с одним парнем и была по уши в него влюблена. Да-да, влюблена, несмотря
на то, что мне было четырнадцать лет, и по некоторым меркам я была ещё
ребёнком. Но, как говорил Пушкин: «Любви все возрасты покорны…», - и я была без
ума от человека, который был старше меня на целых пять лет! ... Неважно где и
как мы познакомились с ним. Скрывать тут нечего, но обстоятельства знакомства к
делу не относятся, хотя и не обычны, и даже заслуживают отдельного рассказа…. Я
уже говорила тебе, что раньше относилась к жизни довольно просто. Так вот, это
было раньше, до той встречи и необычной истории, что со мной произошла…. После
неё я стала верить в мистику, в нечистую силу и… во что угодно!.. Парень мой
был как парень…, обыкновенный. Звали его, правда, немного чудно: Афанасий. Да и
фамилия под стать: Агафонов. Я сперва над ним даже подтрунивала. Но он не
злился, и я перестала…. Не буду рассказывать о наших отношениях, но кое-что из
его странностей просто необходимо упомянуть.
Афоня очень любил музыку «Битлз»,
которую терпеть не могла: мне ближе, честно говоря, AC/DC, - слишком слащаво,
но всё же я слушала вместе с ним за кампанию, потому что он очень интересно о
них рассказывал, знал наперечёт все их концерты, пластинки, дискографию…. У
него была даже специальная тетрадка, куда он заносил все сведения о них, всё,
что знал. Сначала всё это было до глубины души мне параллельно, но потом
превратилось в какое-то сумасшествие. Всё чаще и чаще мне на ум приходили
мелодии из их композиций. Из-за «битлов» я выпросила у своего двоюродного
дедушки его японский магнитофон. Я стала собирать о них информацию, и задалась
даже целью составить полную коллекцию их записей. Через год у меня были все, от
первого до последнего, концерты, синглы и долгоиграющие пластинки, в какое
время и по какому поводу они бы ни были изданы. У Афони был друг, у которого имелся
лазерный проигрыватель. Мы доставали компактные диски и с них писали на
магнитофон. У меня даже осталось несколько из них, которые я приобрела на свои
деньги, а также двойная грампластинка «Белого альбома».
На покупку записей, дисков и плату
за их использование, - а это стоит немало, - нужны были деньги. Кое-что
доставал Афанасий. Но и я искала, где бы подзаработать. И случай свёл меня с
командой Бегемота…. Он научил меня зарабатывать деньги. Оказывается, это так
просто! Вокруг полно возможностей, надо только уметь их увидеть. Люди слепы, и
только некоторые, такие, как Бегемот, умеют видеть. Да-да, надо уметь видеть,
именно уметь. Одни умеют видеть красоту жизни, другие её трагедию, а третьи,
как в этой жизни заработать побольше денег. В любом случае, нужно искусство,
талант…
С Афоней мы дружили целый год, он,
вообще, был человек очень интересный. Музыка была не единственным его
увлечением. Он обожал гонять на мотоцикле, хорошо фотографировал, ездил на
рыбалку и даже любил немного готовить. Но дело-то не в этом, а в том состоянии,
которое я испытывала с момента, как познакомилась с ним. Это, наверное, и
называется любовь…. Я не могла, кажется, жить без него и одного дня. Даже для
того, чтобы дышать, мне нужен был он…. Он и никто другой, понимаешь?.. Иногда я
изумлялась себе, но бывало, что в порыве гордости и стремления к независимости
пыталась бороться с этим наваждением. Но… всё безрезультатно.
Невозможно описать то чувство! Можно
сказать, что я будто парила над землёй, летала в облаках. Мир превратился для
меня вдруг в цветущий сад, и целый год в моей душе была весна, хотя на улице
тепло лета сменялось дождями и слякотью осени, а потом снегом зимы….
Этот год прошёл быстро…, как один
день. Я не заметила, как он промелькнул мимо. За это время я полюбила «Битлз»
так, словно и не было тех времён, когда я просто ненавидела эту музыку. Теперь
каждый раз она напоминала мне наши встречи, ведь мы часто сидели с ним вечерами
вместе, вдвоём, часами слушая «битлов» и наслаждаясь их музыкой. Я даже выучила
английский язык и, клянусь, только из-за того, чтобы воспринимать не только
музыку, но и смысл. Сначала мы просто переводили вместе тексты песен, потом,
через несколько месяцев, я начала улавливать в общем потоке незнакомой речи
отдельные слова и даже целые выражения, а ещё некоторое время спустя уже
полностью понимала на слух их голоса и даже мгновенно переводила. У меня
образовалось какое-то новое мышление. Иногда я даже думать стала по-английски,
рассуждать про себя, в мыслях, словно бы это был мой родной язык.
У Афанасия была одна мечта, довольно
странная. Он говорил, что ему не жалко отдать за её исполнение и свою жизнь. Об
этом он повторял на каждом шагу.
Сначала я думала, что он шутит,
потом стала относиться к этому, как к навязчивой идее, - решила, что он спятил,
- и даже злиться на него, но не могла не уважать за столь завидное постоянство
в желании и приверженность своему взгляду на жизнь. Но самым странным было то,
что позже и я заразилась его мечтой, но, видимо, не с такой силой, потому что
отдать свою жизнь за это точно не согласилась бы. Что-то большое – да, но не
жизнь!..
Идея его была на первый взгляд
банальна и абсурдна. Наверное, каждый музыкальный фанат переболел ею. Афоня
мечтал хотя бы раз побывать на всех концертах «Битлз». Он так и говорил, что отдал
бы жизнь за то, чтобы единственный раз побывать на всех их концертах. Но
дело-то всё в том, что фанаты «умирают», обыкновенно, по современным группам,
и, всё-таки, побывать на выступлениях своих кумиров для них более-менее
реально. Во всяком случае, этого можно добиться обыкновенными, земными
способами. Желание же Афони было из области фантастики. Он хотел побывать на
концертах, которые давно уже канули в лету…. Ничто на земле, ни за какие деньги
не смогло бы помочь ему в этом, будь он хоть трижды миллиардером. Нет цены
тому, чтобы вернуться в прошлое. Нет её в мире людей….
Я не знала, насколько глубоко
желание Афони, и первое время искренне думала, что он рисуется передо мной. Но
он так часто твердил об этом, к тому же, он и без подобных фокусов взял от меня
всё, что хотел, всё, чего мужчина может добиться от женщины….
Несколько раз я была свидетелем. …
Не знаю даже, как это назвать, не истерии, нет… Скорее всего, это была
безудержная страсть, страсть к недосягаемому, мучительная, пожирающая человека.
Она овладевала им в то время, когда мы слушали их музыку, чем-то напоминая
религиозный экстаз, и иногда я была почти уверена, что, в конце концов, силы
небесные услышат его терзания, и ему поможет, если не бог…, то дьявол…. Иногда
мне становилось просто страшно!.. Казалось, что сейчас дверь в комнату
отвориться, и войдёт тот, кого нельзя остановить никакими земными преградами.
Из динамиков звучали голоса Джона Леннона и Пола Маккартни, а Афанасий метался
по комнате, как волк по клетке, валялся по полу, крутил, выламывал себе руки и
плакал навзрыд, совершенно не стесняясь меня, крича и причитая: «Я хочу быть с
вами!» - на все лады. И когда я пыталась успокоить его, это было бесполезно.
Можешь представить себе, что испытывала я в такие минуты?!... А они складывались
в часы и длились бесконечно долго…. Это сильно действовало на мою психику… и не
самым лучшим образом. Подчас мне казалось, что мой дружок просто спятил, и
тогда я хотела порвать с ним навсегда. Но…, когда «Битлз» не звучали, он
становился совершенно другим: простым, спокойным, тихим. Тогда мы просто гуляли
по городу или занимались чем-нибудь ещё забавным…. Это подкупало меня, и я
думала, что ненормальный человек не может так себя вести, что он всегда, всё
время, должен оставаться чокнутым, если он псих на самом деле….
К тому, что с ним творилось, можно
было относиться по-разному. Если бы его в минуты экстаза увидел кто-нибудь
посторонний, он точно не избежал бы дурдома. Но о его заскоках знала только
я!.. И, в конце концов, я поверила его страсти, хотя и не разделяла её. Он же
при звуках их музыки становился сам не свой и отдавался ей полностью, не
обращая внимания даже на меня. Мне казалось, что он сам вот-вот превратиться в
звуковоспроизводящий инструмент….
Страшное случилось в апреле прошлого
года. На улице вовсю буйствовала весна, но мне она казалась горше осени.
Цветение всего вокруг, молодая зелень на ветвях, пение прилетевших птиц – всё
это лишь саднило мне сердце, терзало и жгло мою душу. Не радовал меня ни
пьянящий аромат проснувшейся природы, витающий в воздухе, ни по-весеннему
яркое, голубое небо. Оно было для меня чернее чёрной ночи…
Хочу сказать тебе, что любовь наша,
если её и можно было назвать любовью, хотя она, скорее, напоминала дружбу. …
Так вот, любовь наша была чиста и невинна, как роса.
Я не ошиблась, говоря, что Афоня
взял от меня всё, что только мог мужчина взять от женщины. Но ведь и мужчины
бывают разные!.. Он был благороден в отношении ко мне и не раз доказывал, что
ему не нужно от меня то, что обычно требуют парни от своих подружек. Он даже не
интересовался, девочка я или нет, и, лёжа со мной в постели, не тронул меня и
пальцем. Самое большое, что он позволял себе со мной, это целовать меня…, но
целовал с чувством….
Да, год назад я была больше
девочкой, чем девушкой, несмотря на то, что считала себя взрослой. Я могла
поступить как ребёнок и, не понимая многого, ранить своего приятеля
ошеломляющей ненавистью или бесчеловечной чёрствостью…. То, как я обрисовала
тебе наши отношения, выглядит довольно мило и ангельски чисто, если не упоминать,
что время от времени мы всё-таки ссорились, иногда даже по мелочам, и
случалось, что крупно!
Обычно размолвки наши не
продолжались дольше пяти дней, в крайнем случае, – недели. А потом кто-то из
нас звонил другому или присылал письмо, и через некоторое время мы уже весело
хохотали над тем, что ещё несколько дней назад могло служить нам причиной
раздора. Ссоры наши были редки, и мы вспоминали их, как пустые дни, выброшенные
зря из жизни.
Но вот тогда, в апреле, случилось
то, воспоминания о чём до сих пор гложут моё сердце напрасным теперь
раскаянием….
Тогда мы поссорились с Афоней в
последний раз…, и потом я уже никогда не видела его в живых….
Проклятое первое апреля!.. Как
теперь я ненавижу этот традиционный день розыгрыша!
В тот день, первого апреля, год
назад, я позвонила Афоне и решила немного его разыграть, чтобы как-то освежить
его чувства ко мне. Он был, вообще-то, человек с большими претензиями к жизни,
всё принимал за чистую монету и слишком близко к сердцу. Меня иногда допекала
его дотошность, с которой он всё время повторял, что жизнь он хочет прожить с
одной единственной женщиной, не имея других, но чтобы и она была верна ему до
самого гроба. И этой единственной женщиной у него должна была стать… я!
Конечно, это было приятно слышать и даже льстило моему самолюбию, но… всё же не
в таких количествах. Любая, самая вкусная и искусно приготовленная пища, в
конце концов, приедается, если её есть беспрестанно! И когда тебе изо дня в
день долдонят одно и то же безо всякого продыху, то это не только начинает
утомлять, но и, в конце концов, допекает, воспринимается уже как издевательство
и побуждает совершить нечто, чтобы человек урезонился и перестал капать на
мозги!..
Вот поэтому я и решила подшутить над
Афоней в первоапрельский день, надеясь, что он воспримет мой розыгрыш по
достоинству и примет критику к сведению. Я не думала, что он не поймёт моего
юмора, воспримет всё столь близко…. Что я сделала?.. Да ничего особенного!
Утром звякнула ему и сказала, что один парень приглашает меня к себе на дачу с
ночёвкой.
-Ну, и что же ты ему ответила? –
спросил он, и я почувствовала, как голос его надломился.
Мне стало жалко его, но отступить в
своей шутке я уже не могла.
-Ничего, - ответила я ему, дура
набитая. – Я, - говорю, - согласилась.
-Приятного отдыха, - сказал он в
ответ и тут же повесил трубку, даже не дослушав меня до конца, хотя я
собиралась уже напомнить ему про «первое апреля – никому не верю», ещё немного
помучив ревностью….
Где-то в глубине души у меня что-то
оборвалось. Какое-то смутное предчувствие беды заставило руку снова потянуться
к телефону. Я собралась уже было тот час же звонить ему снова и виниться перед
ним, хотела даже признаться, что люблю его, что он золотой, чистый человек, что
лучше него для меня никого нет на свете…. Я представила себе на минуту его
страдающего от моей злой шутки…. Но вдруг гордость одёрнула меня, я тут же
опомнилась и решила первой ему ни за что не звонить…. Да-да! Во мне заговорила
гордыня: «Как это так?!... Чтобы я ещё просила у него извинения за
первоапрельскую шутку?!... Да кто он такой?!... Пусть помучается, пострадает!
Ему это полезно!..»
Я решила не звонить ему пару
деньков, но надеялась всё же, что он в тот же день сам прибежит ко мне,
заревнует. Я сказала себе: «Первое апреля!.. Имею я право, в конце концов, раз
в году крупно пошутить?!... Пусть это будет проверкой его чувств ко мне!» …
Теперь вот я думаю: недаром говорят
про женщин, что они наполовину принадлежат богу, а наполовину – дьяволу… Кто
же, как не он внушил моему сердцу такую злую шутку?!... А потом, когда я хотела
тут же позвонить и попросить прощения, кто остановил меня?!... Кто внушил мне
не идти первой навстречу?! Чей голос шептал мне, что я должна быть гордой и не
распускать своего кавалера быстрыми признаниями и другими поблажками?!... Кто сделал
всё это со мной?..
Помню, как я боролась с этими
кознями!.. Целую минуту после разговора я простояла в коридоре, то протягивая
руку и снова набирая номер телефона, то вдруг, почти набрав, бросая трубку на
место. Я не могла побороть гордыню! Она оказалась вдруг сильнее меня. И
внушитель козней посмеялся надо мной вдоволь!..
По злой иронии судьбы родители в тот
же вечер увезли меня в деревню на свадьбу к родственнику. Они, вообще, ничего
не знали о наших с Афоней отношениях и были там не причём. Я надеялась, что
найду телефон по пути или хотя бы позвоню уже оттуда следующим утром и
признаюсь Афоне во всём… Сердце моё было полно сладкого томления в ожидания
этого разговора…. Каково же было мне утром узнать, что связи в селе нет даже с
райцентром, потому что и телефонную, и телеграфную линию накануне оборвал
какой-то автокран, проезжавший под линией на стройку и задевший провода своей
стрелой….
Конечно, если бы я знала, что всё
так получится, то нашла бы время под любым предлогом съездить в райцентр, -
хоть это далеко, - и поговорить с Афоней, но махнула на всё рукой, - свадьба
ведь, веселье, - не догадываясь, что махнула на всю нашу любовь и наше с ним
будущее….
На свадьбе мы прогостили три дня, и
в город вернулись лишь пятого апреля.
Ещё по дороге домой я предвкушала
звонок Афони, его обеспокоенный голос, вопросы, расспросы: «Где так долго
пропадала?!... Я соскучился по тебе!» - … рассуждала, как снова преподам урок
воспитания чувств, и стоит ли говорить ему всю правду или поводить его за нос,
помучить ещё немного…. Несмотря на долгую разлуку, на то, что безумно
соскучилась по нему, нечистый склонял меня всё-таки ко второму….
Но приготовления мои были излишни:
Афоня не позвонил мне ни пятого, ни шестого, ни седьмого числа….
Восьмого, измученная его долгим молчанием,
которого не ожидала от него, я из последних сил сдержалась, чтобы не позвонить
ему самой…, девятого уговорила себя с грехом пополам продержаться ещё день, но
десятого не выдержала и набрала номер его телефона…. Несколько раз в тот день я
пыталась дозвониться, но в ответ шли лишь длинные гудки.
Самое странное, что я обиделась на
то, что у него никого нет дома!..
Теперь я считала его едва ли не
клятвопреступником, а в голове возникало одно и то же видение, как он приходит
ко мне домой и просит у меня прощения….
Мне тогда вдруг захотелось, чтобы
Афоня просил у меня прощения, мечтала даже, чтобы он изменил мне с какой-нибудь
бабёнкой!.. И я уже заранее укоряла его в мыслях за это!.. Укоряла и
представляла, как буду снисходительна к нему и прощу ему его вину передо мной!
... Мне очень хотелось, чтобы изменил мне, чтобы виноват передо мной был он, а
не я перед ним!.. Ведь он был уже не мальчик, старше меня на целых пять лет, и
я сомневалась, что за это время он не попробовал ни одной женщины…. Иногда и раньше
мне в голову приходили такие мысли, что он канифолит мне мозги, а сам за моей
спиной гуляет с подругами направо и налево. Не может быть такого, чтобы человек
в таком буйном возрасте был святошей!.. По-моему, это противоестественно!.. Но
он таким и был: теперь я знаю это точно…. Мне и раньше хотелось, чтобы он
сознался, что, на самом деле, у него есть другие девчонки, старше меня, и
потому ему от меня ничего не надо. Но он ни разу не говорил мне этого. Может
быть, еще, и поэтому я пошутила с ним так первого апреля!.. Мне хотелось
устроить ему какую-нибудь провокацию, но я и сама толком не понимала, чего
хочу….
После звонка десятого числа я
крепилась ещё два дня…, держалась, но потом всё же снова позвонила…, на этот
раз удачно.
Он сам поднял трубку и, услышав мой
голос, спросил, как мне показалось, холодно и равнодушно:
-А, это ты?.. Ну, как отдохнула на
даче... у своего знакомого? Надеюсь, всё было… в порядке?
-Да, всё было отлично, - ответила я
ему неожиданно для самой себя, хотя собиралась сказать совсем другое!
Мне так радостно, так сладко был
слышать его голос, что даже голова закружилась. Но в то же время слова его
больно задели меня, и хотелось ответить ему так же, а, может быть, и похлеще!..
Лучше бы он не спрашивал меня тогда
ни о чём! Я бы сама ему всё рассказала….
-Я очень рад за тебя, - всё тем же
равнодушным тоном произнёс он, стараясь скрыть щемящую тоску за неприступным
безразличием. – Я вижу: тебе понравилось так, что ты не звонила мне целую
неделю…, нет, больше – двенадцать дней!..
Я хотела ему тут же признаться, что
никуда, ни с каким парнем не ездила, что не смогла позвонить ему на следующий
после шутки день, рассказать о своих злоключениях…, но вместо этого произнесла:
-Да, мне всё там действительно жутко
понравилось!.. А теперь я хочу пригласить этого парня нанести ответный визит ко
мне! Сегодня мы будем с ним вдвоём на даче…, но уже у меня!.. И тоже с
ночёвкой!..
Я ждала, что ответит он на это, но в
трубке раздались короткие гудки….
Зачем я тогда опять сказала ему
неправду?!... Когда я вспоминаю всю эту историю, этот последний разговор, всю
эту ссору, случившуюся по моей дурости и малолетней глупости, то до сих пор не
могу освободиться от нервной дрожи, охватывающей моё тело, словно озноб….
Теперь, когда прошло больше года с той злополучной размолвки, я отчётливо вижу,
как шаг за шагом по чьей-то злой воле я сама вела всё к такому потрясающему,
ужасному концу! И иногда мне хочется разбить свою дурную голову о стену, но не
хватает мужества….
Я действительно в тот день поехала к
себе на дачу, но не с парнем, а со своими родителями: поработать на участке,
посадить там кое-что, привести в порядок домик, в общем, с самыми ангельскими
намерениями.
Поехали мы с обеда, чтобы до вечера
успеть всё сделать.
Весь этот день, тринадцатого апреля,
я ждала, что за калиткой вот-вот появится долговязая фигура моего приятеля. Он
будет, наверное, в гневе, но я скажу тогда ему, что никакого парня у меня на
даче не было, а вот теперь он, действительно, появился….
-Где же он? – спросит тогда Афоня.
-А вот он! - отвечу я и, обняв,
поцелую его, никого не стесняясь, в самые губы!
-Так ты ждала меня? - удивится он.
-Ждала! - отвечу ему я….
Пускай родители видят, что бросилась
ему на шею. Пусть думают, что хотят! Но я-то знаю, что люблю его. Пусть предки
испугаются даже моих чувств!.. Мне будет всё равно!.. Лишь бы он приехал!..
Я знала, что или сегодня он появится
у моей калитки, или этого не случится никогда. «Ах, если бы ты приехал, -
думала я тогда, горбатясь над грядками, - я бы призналась тебе в любви,
рассказала бы, как скучала о тебе, как ждала тебя всё это время!.. Я поклялась
бы быть верной тебе до гроба, ждать всегда-всегда, как бы долго тебя не было
рядом, рожать тебе детей, делать всё, что только есть и любить, любить,
любить…»
Я чувствовала, как в это самое время
решается моя судьба. Я знала, что он обязательно приедет ко мне сегодня,
тринадцатого апреля! Ох…, я бы раскрылась перед ним, как майская роза, полная
пьянящего нектара….
Какова же была моя досада, когда
солнце склонилось к закату, мы с родителями собрались уезжать домой, пошли на
автобусную остановку, а Афоня так и не приехал ко мне…. Я… готова была
рыдать!.. Но сдерживала ком в горле!..
Родители заметили мою хмурость,
пытались разузнать, что со мной случилось, почему я такая грустная. Но я лишь
шла молча, уткнувшись взглядом в землю, и ничего не отвечала. Я так была
поглощена своей тоской, обидой и грустью, что ни на что: ни на то, о чём
толкуют на остановке дачники, ни на то, о чём говорят в дачном автобусе, не
обращала внимания…. Я не заметила, как мы объехали огороженное место на дороге,
залитое кровью, очерченную мелом фигуру человека, распластанного по асфальту. Я
не придала значения покорёженной груде металла, валяющейся в кювете, машинам
милиции и скорой помощи….
Приехав домой, закрылась в своей комнате….
«Нет любви!» - решила я, ещё садясь
в автобус, и с той минуты только и думала о том, как бы поскорее добраться
домой, чтобы не разревется прямо на людях.
Теперь же, оставшись наедине с
собой, я рыдала горючими слезами весь вечер, плакала так, как никогда,
наверное, в жизни ни до, ни после того. В тот вечер у меня даже кожа на лице
сморщилась….
Вскоре с улицы пришёл брат, и чтобы
он не видел моих слёз, не слышал всхлипов и рыданий, я запихала в рот подушку,
закусила её зубами и проплакала так всю ночь.
Наутро, после бессонницы, на моё
зарёванное лицо страшно было смотреть, и я не поднимаясь с постели, жалуясь,
что мне плохо, отвернулась к стене и не показывалась даже родителям.
Встала я только через три дня, когда
исчезли мешки под глазами, и прошла припухлость губ.
Я твёрдо решила больше не
встречаться с Афоней, отдать ему его записи и вещи и забыть навсегда…. На
майские праздники позвонила ему домой, хотела попросить забрать от меня
шмотки….
Трубку подняла его мама.
Когда я спросила Афоню к телефону,
она едва слышно произнесла:
-А разве вы не знаете, что он
умирает?!...
Я чуть не упала от неожиданности в
обморок.
-Как умирает? – не веря ушам,
переспросила я, чувствуя, как у меня всё вдруг поплыло перед глазами, и ноги
сделались ватными, готовыми подкоситься в любое мгновение. Сердце кольнула
острая боль. Я ожидала чего угодно, но только не такого!..
-Он лежит в реанимации, - услышала я
в телефонной трубке слабый голос.
Голова моя пошла кругом…
На следующий день, придя в чувства,
я попросила маму навести справки по всем больницам города. Оказалось, что
Афанасий Агафонов действительно находится в реанимации центральной горбольницы.
И, не смотря на то, что мне самой было муторно, я всё же встала и поехала к
нему.
По дороге я зашла на базар, купила
фруктов, самых красивых и дорогих, какие только были…. Это были, как сейчас
помню, большие, яркие апельсины. Там же я взяла ещё и большой букет роз,
похожий на тот, который грезился мне в руках Афони, когда он в моих мечтах
приходил просить у меня прощения…. Но уже не Афоня нёс цветы мне, а я ему.
В приёмной больницы я узнала, что
его доставили сюда тринадцатого апреля. Он попал под огромный грузовик на своём
мотоцикле на тринадцатом километре загородного шоссе, не доехав до моей дачи
каких-то два несчастных километра.
Врач или медсестра, с которой я
говорила, сказала, что Афоне уже ампутировали обе ноги чуть ли не по середину
бедра, потому что у него открылась газовая гангрена.
Это известие ужаснуло и потрясло
меня до глубины души. Я не ожидала такого…. Я просилась пройти к нему,
говорила, что близкий ему человек, но меня не пустили, ответив, что вход в
реанимацию открыт только самым близким родственникам. Мне сообщили, что сейчас
около его кровати дежурит мать…. Я попросила врачей, чтобы они позвали её вниз,
в приёмную. У меня поинтересовались, зачем мне это нужно, и я ответила, что
принесла ему передачу и хотела бы, чтобы её отнесли Афоне…. Медсестра, которая
со мной разговаривала, сказала, что апельсины Афоне сейчас не пригодятся,
потому что больной не приходит в сознание, и его поддерживают только
капельницами, вливая в вену глюкозу…. Но мать всё-таки позвали…. Она
спустилась, окинула меня мутным, отчуждённым взглядом воспалённых, ничего не
видящих глаз и спросила, кто я такая, как будто ни разу не видела меня в своём
доме. Я назвалась, попыталась ей напомнить, но вспомнила она или нет – трудно
сказать. Она была похожа тогда на сомнамбулу или на полоумную, которая смотрит
вперёд, но видит совершенно другой, не реальный мир.
-Он ехал к вам, - ответила, наконец,
она, глядя куда-то мимо всё тем же взглядом. – Он ехал к вам и разбился!.. Вы
отняли его у меня!.. Уходите…. Уходите, он умирает! Уходите и не мешайте ему!..
-Положите к его изголовью хотя бы
вот эти цветы, - робко попросила я, чувствуя себя глубоко виноватой перед ней и
едва не плача от собственного горя, но женщина развернулась и с тем же каменным
лицом, застывшим от высохших слёз страдания, с каким явилась предо мной,
исчезла в полумраке на лестничной клетке. Она ушла тихо, словно тень, и
показалась мне похожей на безжизненную мумию.
Я осталась стоять в фойе и не
заметила, как по щекам моим тихо и незвано потекли слёзы и посыпались вниз,
окропляя мои розы. Мне до сих пор кажется, что я стояла тогда целую вечность и
плакала, плакала, плакала, не издавая ни звука, и только губы мои дрожали от
горя….
Потом ко мне подошла медсестра,
стала успокаивать, согласилась незаметно от матери отнести ему мой букет
красных роз. Я отдала ей и сетку с апельсинами.
Слёзы катились из глаз, и, видимо,
видя моё отчаяние и безутешное горе, медсестра пообещала помочь попасть в
реанимацию:
-Приходите, милая, завтра: с девяти
утра до обеда в реанимации будет дежурить наша санитарочка. Мать его либо ещё
кто-то из родственников дежурят вторую половину дня и до утра…. Приходите! Мы
вас, так уж и быть, - пропустим. Правда, - надолго не обещаю, - на полчасика
где-то…. Не положено ведь. Но и то - ничего, хоть как-то повидаться…. Ему-то
уже всё равно: приходят или не приходит. Ну, а вам, - ясное дело, - облегчение.
Приходите, завтра утром, мы вас пропустим.
С этими словами она вывела меня из
фойе, и я пошла…, пошла, как робот, ничего не соображая и ничего не видя
вокруг. Слёзы так и текли из моих глаз. Прохожие оборачивались мне вслед, глядя
как на ненормальную. Люди ведь теперь не привыкли показывать своё горе на
людях. Правда, один или два человека остановились, вернулись, догнали меня,
подошли, участливо поинтересовались, в чём дело: уж не украли ли у меня что,
или не потеряла ли я денег, и можно ли чем-то мне помочь. Но от их заботливых,
но бесполезных и глупых расспросов мне стало и вовсе не по себе, ещё горше, чем
было, и они, не дождавшись от меня ни слова и видя, что теперь лишь ещё сильнее
расстроили меня, пошли своей дорогой.
А мне было всё равно, что они, что
все окружающие подумают обо мне. Мне хотелось быть там, в палате реанимации,
возле него. Я хотела быть рядом с ним. Мне казалось, что стоит только появиться
возле него, как он тут же очнётся, придёт в сознание, заговорит со мной. И
тогда я буду просить у него прощения и буду просить не умирать ради меня,
потому что я люблю его и буду любить даже такого, каким он теперь, по моей
глупости, стал, - без ног…. Мне грезилось, что само время повернёт вспять, что
он встанет и пойдёт со мной, что он будет снова здоров, как прежде, и для меня
это будет самое большое счастье. И не будет той страшной катастрофы, мимо
которой я безучастно проехала на дачном автобусе, обиженная и замкнувшаяся в
себе, даже не взглянув на его распластанное на асфальте тело, не узнав его и не
поняв, что это разбился мой любимый человек, спешивший ко мне на дачу в порыве
ревности из-за моей злой и глупой шутки. Мне казалось, что всё тогда вдруг
станет хорошо, как ничего и не было, и первое апреля забудется как страшный
сон….
Я шла по улице, ничего не видя перед
собой, ничего не соображая и грезя наяву. Порой мне казалось, что я сейчас
сплю, а когда проснусь, то всё снова будет хорошо…. И вечером мне, как ни в чём
не бывало, позвонит Афоня, и я, встретившись с ним, расскажу, какой страшный и
кошмарный сон про нас видела, скажу, что больше никогда-никогда не буду с ним
ссориться, но всегда и во всём слушаться его.
Я пыталась проснуться и не могла. И
только слёзы, каких не бывает во сне, ручьями катившиеся по моим щекам,
возвращали меня вновь и вновь к печальной и страшной реальности.
Я чувствовала, что должна быть рядом
с ним, и готова была не уходить из реанимации ни день, ни ночь, не есть, не
пить, не спать и делать всё для того, чтобы Афоня остался жив. Что-то
подсказывало мне, что я смогу ему помочь, а присутствие обозлённой матери лишь
помогает ему умереть, убивает его. И мне было обидно…, - нет, это не то слово,
- не могу сказать, что за чувство испытывала от того, что понимала всё и
чувствовала, но ничем не могла ему помочь, не могла ничего изменить. Как
выразить то смятение, которое я испытывала от того, что меня даже не пускали,
чтобы просто посмотреть на него, увидеть его только, а не то, что побыть с ним
рядом. Это не была ни обида, ни досада. Это было выше обиды и досады. Мне
хотелось вдруг завыть, как раненному зверю, прямо посреди улицы, на виду у
прохожих, и лишь собранные в кулак остатки воли и чувства приличия выдавливали
этот оглушительный, дикий вой через тихие, но бурные слёзы, и это было очень
больно.
Всю ночь я с нетерпением ждала,
когда наступит утро. Я не спала, и ночь казалась длинной и злой, словно бы не
желала прихода на землю следующего дня. Время тянулось, как резина…. Злое
время, мой личный враг, всегда побеждает меня, как бы отчаянно я с ним не
боролась, уносит меня, как лёгкую песчинку от той, другой песчинки, с которой
рядом я желала бы быть, с которой я хотела бы соединиться…. Я думала, что умру,
не дождавшись утра. Но оно всё-таки настало, и едва первые лучи солнца осветили
краешек неба, как я уже вскочила с постели и стала одеваться, торопясь, хотя до
девяти часов было ещё очень далеко.
В семь я уже была около больницы, и
эта торопливость едва не стоила мне задуманного. Меня спасло лишь то, что
вовремя заметила мать Афони, выходящую навстречу мне из подъезда больницы, и
тотчас свернула на боковую дорожку: она не узнала меня и прошла мимо всё с той
же мраморной печатью горя на меловом лице, исчезнув в воротах забора больницы.
Стремглав бросилась я в приёмный
покой. Казалось, что там меня уже ждут, что там моё спасение. К тяжёлому,
горючему чувству трагедии, свинцовой змеёй обвившему мне сердце, в эти
мгновения примешалось чувство удачи и даже радость, безотчётная, как весёлая
бледно-розовая заря на востоке, что всходила себе, не обращая никакого внимания
на моё горе.
Однако, в приёмной мой пыл охладили.
Медсестра на смене была уже другая. но, видимо, ей сообщили обо мне.
-Ой, что это вы так рано? –
изумилась она, оглядывая меня с ног до головы и пытаясь понять, почему это я
так счастливо улыбаюсь, и не обозналась ли она.
-А что?.. Я видела, что мать его уже
ушла….
-Ну, и что же, девочка? – урезонила
меня пожилая уже санитарка, сидевшая здесь же и болтавшая от нечего делать с
дежурной. – У нас порядок такой: сказали вам приходить к девяти, - значит, - и
приходите к девяти.
-А почему сейчас нельзя? – удивилась
я.
-Его только что увезли на операцию.
Привезут только к девяти, не раньше. Вам же не зря сказали, в какое время
подходить. Люди, значит, знали….
-А я и не знала, что его ещё
оперируют, - сказала я и вышла….
Целых два часа я бродила под белыми,
неприступными стенами больницы, два часа я просила кого-то, чтобы с ним всё
было хорошо, чтобы ничего страшного не случилось.
Радость и ощущение счастья куда-то
исчезли сами собой, и чем сильнее разгорался день, чем выше поднималось солнце,
тем хуже мне становилось. Под конец я и вовсе заревела и приобрела свой
вчерашний вид.
Наконец-то, из подъезда больницы
вышла медсестра с вахты и поманила меня.
-Идите скорее, его привезли, -
крикнула она мне.
Но радости, что посетила меня утром,
уже не было. Остался лишь душевный трепет.
-Что с ним? – испугалась я от того,
как она быстро выскочила.
-Пойдём, - вместо ответа взяла она
меня, как маленькую девочку, за руку и потащила по коридорам и лестницам
больницы.
Сердце бешено колотилось в моей
груди, когда мы оказались перед дверьми, наглухо закрашенными белой краской.
Здесь она остановилась, чтобы отдышаться.
-Сейчас я заведу вас к нему, -
проговорила, наконец, медсестра, - и только десять минут…. Десять минут, больше
нельзя….
-Но мне вчера обещали полчаса, -
возмутилась я.
-Ничем не могу помочь, милочка, -
ответила она. – Больной очень тяжёлый. После операции…. Операция прошла не
очень удачно. В любую минуту ему может стать хуже, и сюда появится
реанимационная бригада. Ты не представляешь даже, что мне тогда будет!.. Врежут
по первое число!.. В конце концов, сама должна понимать, что здесь не дом
свиданий…, тем более, в этой палате. Да и мать его может подойти: она просила
позвонить ей сразу, как только операция закончится. Минут на десять звонок я
задержу, но не больше!.. Конечно, понимаю!.. Вижу, что сутками сидели бы около
него. Но и вы меня поймите, девушка!.. Тут по сто раз на дню приходится идти на
всяческие нарушения режима, да и не из-за корысти, а всё - из-за больных. А мне
уже пятый десяток, я здесь пятнадцать годков проработала и не хочу под старость
лет неприятностей наживать на свою голову. А палата эта режимная…, строго.
Сюда, вообще, никому нельзя кроме самых-самых близких, да и тем - не всегда!
... Давайте, идите, ради Бога, но не трогайте его руками, не прикасайтесь ни к
чему, иначе можете наделать непоправимой беды…. Он проводами обвешан, трубками
всякими. Не дай бог, выдерните что-нибудь, - сами, того не желая, - убьёте
человека….
Она огляделась по сторонам, затем
завела меня в коридор за дверью, в котором одна стена была стеклянной, матовой.
За ней кое-где горел синий свет, призрачно освещая палаты, в других было совсем
темно…. Как сейчас помню тот специфический запах, стоявший в коридоре: особый,
медицинский, заспиртовывающий, кажется, всё, что попадёт в его атмосферу…. Мне
этот запах до сих пор напоминает смерть.
Медсестра откатила стеклянную дверь
одной из реанимационных палат и, жестом показывая, что мне туда, сказала,
подавая белый халат:
-Я буду рядом…. Если случиться
что-то непредвиденное, - сообщу. И помните, только десять минут….
Дверь за моей спиной закрылась, и я
очутилась в небольшой комнате, даже нет, - скорее, в отсеке, отгороженном от
соседнего стеклянной стеной. На потолке тускло горела синяя лампа, и от этого в
палате стоял призрачный, неверный полумрак, в котором все предметы приобретали
подобие теней.
В одном углу возвышалась пирамида
аппаратуры, оживляющей мертвенность окружающего миганием разноцветных лампочек
и слабым попискиванием приборов. В другом стояли какие-то стеклянные шкафчики.
В третьем был столик на колёсиках с хромированными медицинскими ванночками для
шприцев, с инструментами, ватой, бинтами, склянками, плиткой, тиглем. Всё это
производило не лучшее впечатление…. В четвёртом, пустом углу угадывалось
какое-то ведро с чем-то непонятным: то ли мусором, то ли ещё чем-то….
В центре палаты стоял стол,
напоминающий операционный. Рядом с ним тоже стояла медицинская этажерка с
приборами и инструментами.
Я подошла к столу и чуть не обмерла
от ужаса, охватившего меня вместе с отчаянием и страхом…
Трудно было поверить, что передо
мной лежит человек. Всё, что осталось от него – это обрубок мяса, длинною чуть
больше метра, замотанный в бинты. Всё, что не было покрыто простынёй, было
замотано и перебинтовано. Лица не было видно, из под бинтов торчал лишь один
нос и ещё - глаз. Под простынёй угадывались обрубленные по середину бедра
культи, страшно и просто как-то…, просто до невероятного обрывающиеся там, где
должны бы продолжаться ноги….
Мне трудно описать те чувства,
которые возникли в моей душе при виде этих остатков человека, который был мне
больше, чем другом, который был мне не безразличен, которого я, - ещё не
понимая этого до конца, - любила единственного в своей жизни.
Жизнь в остатках его тела теплилась
едва-едва и лишь благодаря дюжине полихлорвиниловых трубок, тянувшихся от
различных мест его тела к тихо сипевшим, свистевшим, гудевшим и попискивавшим
аппаратам, нагромождённым в углу отсека, да нескольким жилам проводов,
уходивших туда же: когда мы шли по коридорам больницы, дежурная медсестра
поведала мне, что жизнь поддерживается в теле Афони искусственной стимуляцией
жизненных центров. Такое состояние может длиться долго, но положение больного
безнадёжно, надежды хоть на какой-то прогресс мало, и с каждым днём к нему
приходится подключать всё больше приборов. В конце концов, резервы будут
исчерпаны, и наступит конец. Никакие чудеса медицины не заставят вернуться тело
к жизни, если сам организм отказывается это сделать.
-Честно говоря, - говорила она мне,
- это уже не человек, а живой кусок мяса, извините, что так грубо. Но если эту
аппаратуру подключить к трупу, то даже он в некоторой степени оживёт, если ещё
не начал разлагаться. Да вы сейчас сами увидите. …
Я тогда ещё спросила у неё, какие
всё-таки шансы у него выжить, и она ответила:
-Не знаю, врачи между собой говорят,
что никаких. Да, если и останется жив, то не сможет шевелить даже руками: у
него многочисленный перелом позвоночника, в том числе, один – шейного позвонка,
с многочисленными внедрениями осколков кости в ткань спинного мозга. Лучше б
сразу помер, парнишка, не мучался! ...
Я ожидала плохого, но то, что
увидела, было выше моих сил.
Мне хотелось, и обнять, пожалеть
этот обрубок, погладить его, но страх что-то нарушить, повредить одну из
пластмассовых артерий, ещё доставляющих этому телу кровь и воздух для питания,
останавливали меня. От жалости и невыносимого вида этой картины сами собой
покатились слёзы и губы задрожали. Я не знала, что делать, но почему-то
бросилась на колени перед столом и, стеная, ломая от отчаяния руки, принялась
яростно и неистово молиться, не зная ни строчки настоящей молитвы и придумывая
свою….
Не знаю, сколько времени провела я
на коленях, но вдруг что-то подсказало мне, что нужно встать. Я поднялась и
подошла к столу совсем близко, наклонилась и увидела, что не забинтованный глаз
полуоткрылся и смотрит на меня. Сначала я решила, что это мне просто
показалось, но нагнулась ниже. Глаз действительно был открыт. От неожиданности
я опешила и не могла произнести ни слова.
-Я хочу быть с вами, - то ли
послышалось мне, то ли на самом деле раздалось из забинтованного рта. – Я хочу
быть с вами. Я уже с вами. … Прощай….
Так тихо и просто: «Прощай!»
Это мимолётное пробуждение длилось
секунду или две, - несколько мгновений, - и мне даже не пришло в голову что-то
произнести…. Я не ожидала. … А сказать нужно было так много…, но…, вообще,
невозможно. Кажется, выразить простую жалость или попытаться успокоить его было
бы кощунством. Он в этом, право, не нуждался. Но тот ясный, трезвый,
сиюминутный взор, не какой-то полоумный или лишённый смысла, а, именно, ясный,
наполненный мыслью. … Я его не забуду никогда.
Глаз так же неожиданно закрылся, и
Афоня уже не подавал признаков жизни.
В отчаянии ругала я себя, что не
смогла воспользоваться прояснением, и, вместе с тем, понимала, что это
возвращение к сознанию было какой-то мистикой, вызванной потусторонними силами,
видимо, услышавшими мою молитву….
Я едва удержалась от дерзости
попытаться открыть глаз рукой, но вовремя остановилась, поняв, то это
оскорбительно и бесцеремонно.
Не прошло и пары минут после этого,
как хлопнула дверь в коридоре, и застучали шаги. Я увидела через стекло
медсестру. Она просунулась в дверь и сказала:
-Уходите, скорее, сюда идёт бригада!
Если вас здесь застанут – мне несдобровать!..
Я вышла в коридор, и сама не помню,
как очутилась на улице. Лишь там опомнилась и едва не кинулась обратно, но меня
уже не пустили.
Все последующие дни я ходила под
окнами больницы в беспросветной тоске, а по ночам выла, как волчица, потерявшая
детёнышей, запихав в рот чуть ли не половину подушки. Так было до самого
конца….
Афоне, не смотря на все предречения
врачей, всё же стало лучше. Он не вернулся в сознание, но после моего посещения
врачи отметили улучшение его состояния, которое с каждым днём становилось всё
более обнадёживающим. Начали даже поговаривать, в конце концов, что, возможно,
он останется жить….
Настало тринадцатое мая. Прошёл
месяц со дня катастрофы. Я, как и обычно, с утра направилась в больницу,
отпросившись с занятий в школе якобы из-за женских недомоганий, - причину я
каждый раз находила новую, - зашла на базар, купила цветов, принесла их в
больницу и попросила передать в палату реанимации Афоне, а заодно и
поинтересовалась его здоровьем.
Дежурная медсестра улыбнулась мне и
сказала, что если дела пойдут так и дальше, то месяца через два Афанасий,
глядишь, и покинет реанимацию, переберётся в обычную палату.
В тот день я бродила под окнами
больницы, глядя вверх, на них, безо всякой тоски, весело улыбаясь, и махала в
ответ на знаки приветствия мужчинам, показывавшимся в окнах палат больницы и
глядевшим на меня то с одного, то с другого этажа, говорившим мне всякие
любезности и глупости, заигрывавшим и кокетничавшим со мною. Наверное, я была
даже счастлива в тот день, ходила и мечтала о том времени, когда Афоня,
наконец, поправится, как буду ухаживать за ним, разговаривать с ним, болтать
обо всём на свете, и он будет мой, а я его. Я буду предана и верна, просижу у
его кровати всю жизнь, и мне это будет не тяжело. А если он встанет и пойдёт, -
пусть и на протезах, но пойдёт, - то это будет самый большой праздник в моей
жизни….
Глава 32
Девушка замолчала. За разговором мы
незаметно подошли к воротам училища, откуда днём началось наше странное
приключение.
Стало смеркаться. Вечер вступал в
свои права. В воздухе повеяло свежестью и даже прохладой, и тот непередаваемый
настрой души, погрузившейся в атмосферу угасающего жаркого дня, который вскоре
сменит довольно прохладная уже ночь конца июля, напоминающая о неминуемом конце
лета грустным сырым запахом увядания, ещё едва пробивающимся через зелёное
буйство природы, но уже сулящим осеннюю слякоть и тоску жёлтых красок, овладел
мной.
Вдруг почему-то стало невообразимо
печально. Неукротимый бег времени так противоречил этому зениту жизни природы,
так неумолимо стремился, рвался вперёд, к закату, навстречу угасанию красок
лучшей поры года, что я почти физически ощутил вдруг, как влекомый им тяжёлый
шар круговорота бытия выкатился, взобрался на самую вершину горы, поднявшись в
зенит, к пределу, покачался там в неуверенности, - стоит ли продолжать
движение, - несколько мгновений и в ту самую секунду, когда я почувствовал
дуновение слабого ветерка, едва нарушившего бестрепетность окружающего мира,
предвестника ночи и лёгкого моросящего дождика, тяжело и медленно, но неотвратимо
начал свой бег вниз, к осени, всё более ускоряясь. Дальше следить за его
движением мне не хотелось по причине накатывающейся от этого зрелища грусти
созерцания начала увядания и конца….
Всю дорогу я внимательно слушал
девушку под размеренные шаги неторопливой прогулки: хоть и не спеша, мы всё же
неотвратимо продвигались навстречу минуте, когда надо будет расстаться. Она
говорила и говорила, увлечённая рассказом, и я не смел перебить её ни словом,
ни вопросом, опасаясь, что Вероника вдруг замолчит, и очарование этого
удивительного дня лопнет как мыльный пузырь, рассыпется как карточный домик. Но
вдруг она сама замолчала, заметив, что мы подошли к училищу.
-Как, мы уже пришли? – удивилась
девушка. – Так быстро?!...
-Что ж тут странного? – ответил я,
глянув на часы. – Да и… не так уж быстро. Мы шли с тобой почти полтора часа,
хотя тут ехать на троллейбусе, - сама знаешь, - десять минут.
-Неужели полтора часа? – изумилась
Вероника.
-Да, - кивнул я головой и
поинтересовался, намекая на то, что хотел бы услышать продолжение рассказа. –
Ну, а что было дальше?..
-Что было дальше? – Вероника
посмотрела по сторонам, словно ища место, куда присесть. - Об этом мне трудно
говорить, впрочем, как и обо всём, что рассказала…. Никто не знает, что было со
мной потом. Даже мои родители и брат.... Им известно лишь то, что мальчик, с
которым я дружила, трагически погиб, разбился на мотоцикле. А о том, что
произошло со мной после, они не знают ничего, даже не догадываются….
-Так он, всё-таки, умер?..
-Да, умер…. Ровно через месяц после
случившейся катастрофы, тринадцатого мая…, именно в тот самый день, когда дела
у него обстояли лучше всего, и он пошёл на поправку.
-Печально!.. Но как это произошло?..
-Знаешь, нелепая случайность: выпала
воздуховодная трубка, и он просто задохнулся: собственная моторика лёгких была
нарушена…. Глупо…, глупо! Очень глупо! Хм, - Вероника усмехнулась. - В утешение
мне, что ли, или себе в оправданием врачи уверяли, что, в лучшем случае, он
прожил бы на свете полгода-год, - напрасное объяснение…. Трубка крепилась к
носу кусочком лейкопластыря и входила глубоко в ноздрю. По ней подавался
кислород. Как она могла открепиться сама?.. Разве что санитарка, убирая
помещение, нечаянно зацепила шваброй за трубки и провода, тянувшиеся к столу?
Врачам сказать – испугалась, а сама глянула, - вроде бы, на её необразованный
взгляд показалось всё нормально, а человека не стало…. Впрочем, кто знает, как
оно получилось. Но, как ни гадай, его не вернёшь…. Главное, это была
закономерность…, да-да, всё произошло не так, как может показаться. Случайно
выпавшая трубка - всего лишь способ закономерности, понимаешь?
-Закономерности? – изумился я.
-Да, закономерности, - ответила
Вероника, с невинным видом делая страшное в своей правоте и непостижимости
открытие. Она прерывисто вздохнула, будто наплакавшийся ребёнок. – Я знаю, в
чём причина, а остальное – не важно….
Мне надоело маячить у КПП, у всех на
виду, и я предложил девушке перейти дорогу и присесть на лавочке в скверике на
другой стороне улицы.
-Ты знаешь, мне пора идти, -
ответила Вероника.
-Почему? – изумился я, понимая, что
мне просто не хочется с ней расставаться.
-Да потому, что уже поздно.
-Но… мне так с тобой интересно….
Так, - я не знал, чем заинтересовать её, чтобы побыть с ней рядом хоть ещё
немного, - …хочется узнать, чем закончилась вся эта история.
Девушка послушно, - и это
понравилось мне, - направилась к дороге.
Мы перешли на ту сторону проезжей
части, немного углубились в жиденький скверик и присели на уединённую лавочку.
-Так почему ты считаешь, то это закономерность?
– поинтересовался я, чтобы дать понять ей, что мне интересно.
На самом деле, мне хотелось просто
привлечь её к себе и начать целовать. Мною вновь овладевала страсть, и я не мог
отпустить её не закончив то, что начал ещё днём.
Вероника взглянула на меня как-то
странно:
-Я никому никогда не рассказывала об
этом. Но тебе, почему-то, хочу рассказать… всё…, до конца…, хотя это моя
тайна…, большая тайна, которую нелегко доверить даже близкому человеку. Но вот
тебе…. Значит…, такова судьба…. Для всех история эта не более, чем банальность,
- закончилась тем, на чём я остановилась. Но, на самом деле, есть ещё
постскриптум, подводная часть айсберга, известная только мне…. Тебе эта часть
глыбы тоже может открыться…. Не страшно?! – она вдруг пристально глянула мне в
глаза в тот самый момент, когда я приблизился, чтобы поцеловать её в манящие
меня губки.
-Не-ет! – машинально ответил я,
стараясь привлечь её к себе, но девушка, сделав усилие и изобразив на лице
гримасу недовольства отпихнула меня прочь.
-Прежде, чем я поведаю тебе об этом,
мне нужно знать! ... Задам тебе вопрос!.. И… ответь мне честно….
-Постараюсь, - отозвался я,
обдумывая сам момент, в который лучше повторить попытку.
-Нет…, мне не нужно: «постараюсь» …,
- «да» или «нет» ?! Подумай хорошенько! – странно, но в этот чудесный вечер
Вероника не была настроена романтично, чего я так желал. - Понял?.. Если просто
«постараюсь», я прямо сейчас ухожу!.. Подумай и скажи, ты готов ответить честно
и искренно, так же, как я только что искренне рассказала тебе свою историю?..
Она удивляла меня своей
стервозностью! Неужели не видит, что я снова её хочу?!... Зачем тогда дразнила
сегодня днём?!...
Я был уверен, что сейчас довершу
начатое, и непременно её «вскрою». А там…. «Да если что, - хоть вот он, выпуск,
- тут же готов упасть перед тобой на колено и предложить тебе руку и сердце! Я
готов сделать это прямо сейчас, но…», - во мне всё кипело, как в оставленном на
плите чайнике, и думать ни о чём другом, как только овладеть ею, уже не мог. –
«Как рассказать, что я давно, с первой минуты, как увидел, обожаю её, что я
влюбился без памяти и не могу теперь её ни забыть, ни бросить, ни даже просто
уйти, потому что её образ будет преследовать меня всюду?!... Как?!...»
Вдруг мне пришла в голову идиотская
мысль: «Да она именно этого и хочет! И вопрос её будет не иной, чем: «Скажи, ты
меня любишь?!» - или: «Ты женишься на мне?!» … «Конечно, женюсь! Я без ума от
тебя, дурёха!..», но сначала…»
-Да… Я отвечу честно.
Она немного помолчала, глядя мне в
глаза, а я подумал, что тайна её на поверку может оказаться сущим пустяком, не
дающим ей, однако, совершенно покоя. Я сотню раз встречался с подобным и не раз
уже нарушал данные таким образом ерундовые «клятвы своей высокой и светлой
любовью» над всяким вздором типа аборта или ещё чего-нибудь подобного из
«страшных» девичьих секретов, которые для других лишь повод для злой шутки и
насмешек, не более, рассказывая потом их в кампаниях, когда становилось скучно.
-Хорошо…, тогда скажи мне, веришь ли
ты в бога…, дьявола? ... Веришь ли ты, вообще, в сверхъестественное?..
Со мной случилась тихая истерика,
подействовавшая, как холодный душ:
-Не знаю….
-Нет! Ты обещал мне ответить честно!
От этого многое зависит….
Мне стало не по себе. Оказывается,
пока я настраивался на романтическую ночку, в прелестной головке этой
ослепительной дурочки творилось чёрте что!.. В конце концов, я понимал, что
такой вопрос требует только положительного ответа, потому что всё незаурядное
начинается там, где присутствует мистика. Романтика – тоже что-то типа мистики,
и, ответь отрицательно, - не видать мне её «киски», как своих ушей, а я очень
этого хотел!
-Да, - выпалил я. – В
сверхъестественное верю!..
«Блин, это же так естественно –
верить в сверхъестественное! Ну, прямо на каждом шагу наблюдается! То тут, тот
там из кустов - прыг! И нате, - здрасьте: вот оно, сверхъестественное!» -
усмехнулся про себя я. – «По всей вероятности, что-то в дальнейшем её рассказе
будет не совсем связано с этим миром, - а разве существуют иные?!..., - и
происходить за кулисами реальности, - если такие есть!.., - где таится нечто
невообразимое и труднопонимаемое, куда рациональное человеческое сознание и
логика не имеют доступа в девяноста девяти случаях из ста…. Ха…. Ха-ха! …»
В разговоре опять возникла пауза,
видимо, девушка интуитивно стремилась оценить степень искренности моего ответа,
- а она была нулевая! ...
-Хорошо, - не совсем уверенно
продолжила она, - тогда слушай дальше и не перебивай меня ни в коем случае ни
вопросами, ни чем-то другим, - видимо, Вероника намекала на то, чтобы я не лез
больше её тискать, - иначе замолчу, и тебе уже никогда не услышать, что
произошло дальше со мной и… с Афоней….
-А разве с ним что-то ещё могло
случиться? – изумился я.
-А как же?!.. Самое банальное, что
могло произойти, - он умер…. Но… ты уже начал перебивать меня, задавая
вопросы!.. Твоё счастье, что я не начала рассказ. Предупреждаю ещё раз…,
серьёзно! Последний! Ещё один вопрос… или даже возглас, - клянусь памятью моей
единственной светлой любви….
-Хорошо, буду нем как рыба!
-Он умер тринадцатого мая, -
продолжила вдруг свой рассказ Вероника, - в тот день, когда я бродила под
окнами больницы и мечтала, - чуть ли не наяву видела, - как мы заживём, когда
Афоня поправиться. Смерть наступила между одиннадцатью и двенадцатью часами, и
я знаю её причину, хотя объяснение может показаться тебе смешным. Но, упаси
Бог, тебе засмеяться, когда я скажу, почему он умер!.. Я недаром задала тебе
вопрос: веришь ли ты в сверхъестественное?.. Если ответил искренне, то поймёшь
меня, а если соврал, то сам напросился на неприятности: выдаст ли тебя смех или
хотя бы ироничная улыбка, которую я непременно замечу на твоём лице, или
сумеешь скрыть всё в себе, - расплата будет впереди! ...
Последние странные слова Вероники
несколько озадачили меня, о какой расплате она говорит? Однако я обещал не
задавать вопросов и, вообще, не перебивать её….
-…Так вот, именно в то время, между
одиннадцатью и двенадцатью по полудни, когда я бродила под окнами больницы, в
мои сладкие грёзы вкрались чьи-то чужие, тяжёлые, чёрные, но трезвые в своей
расчётливости мысли. «С кем ты собираешься жить?! – спросил вдруг чей-то голос
внутри меня. – С калекой?!... Да ещё с таким, каких поискать надо!» … Грёзы мои
тут же развеялись точно туман, и предо мной разверзлась чёрная, страшная
пропасть ждущей меня впереди реальности: нищей, привязанной, несчастной, с
калекой на руках, когда вокруг будет столько молодых, красивых и прекрасных
мужчин. Конечно, можно и с калекой в доме вести жизнь такую, какой заслуживает
молоденькая, красивая женщина. Но, во-первых, очень тяжело обманывать человека,
которого любил. А, во-вторых, зачем приворовывать, когда можно взять себе
всё?!... И вот, в один миг я увидела эту страшную свою будущность в роли жены
калеки. Я заглянула в эту пропасть, и она показалась мне отвратительной и
мерзкой, как пасть гиены, пожирающей дохлятину. А там, на самом её дне, увидела
я нашу с Афоней беспросветную, горемычную жизнь: его, человеческого обрубка,
полуживого и навечно прикованного к постели, лекарствам и приборам, и мою,
молодой полувдовы, полужены, полусиделки, молодой девчонки, ещё ничего не
видевшей в жизни и уже обрекшей себя на пожизненное сидение у кровати, на
которой будет год за годом угасать жизнь человека, которого я когда-то без ума
любила, но от которого почти ничего не осталось…. Я видела, как вот пройдёт моя
молодость, и у меня не будет ни физической любви, ни наслаждения со здоровыми
сильным мужчиной, к которым зовёт любую женщину её естество, ни детей, ни
радости, ни денег, ни жизни, как таковой, а лишь жалкое существование! Увидев
это, я вдруг ужаснулась и отпрянула от её края. Мне стало так плохо, что я,
чуть было, не потеряла сознание прямо под окнами больницы, и не могла прийти в
себя с четверть часа…. Розовые грёзы исчезли, впрочем, как и чёрные мысли о
разверзшейся пропасти, и в душе осталась лишь звенящая пустота….
Очнувшись, я спохватилась и
почему-то сразу же помчалась справляться о здоровье Афони…. Но в это время он
был уже мёртв…. Самым поразительным было то, что не сработали никакие датчики,
которые, как только энцелофалограф, кардиограф и другие приборы перестают
принимать сигналы мозга, сердца и других органов, должны были немедленно подать
сигнал тревоги, включить сирену в реанимации…. Врачи говорили, что такой случай
возможен один на миллион. И рядом не оказалось никого, кто мог бы заметить беду
и помочь предотвратить смерть….
Игра случайности - лишь слуга
закономерностей, пронизывающей мир. И главная из них заключается в том, что
если человек никому не нужен на этом свете, он уходит из жизни…. Мне кажется,
что именно в то время, с одиннадцати до двенадцати того дня, из моего мозга
произошёл мощный всплеск злой энергии, которая и привела в действие пружины
спускового механизма запланированной, закономерной случайности. Это я послала
из своего сознания импульс информации, что он, порубленный и порезанный на
столе реанимации, мне не нужен, что я от него отказываюсь. И, я не знаю, каким
путём, это возымело действие, принял ли его мозг Афони, произошло ли возмущение
тех скрытых от нас сверхъестественных сил, что невидимо ткут поле вокруг нас,
но возмущения эти вылились в две случайностях: приборы сигнализации отказали, и
рядом с Афоней никого не оказалось именно в тот момент…. Ты можешь, конечно,
возразить мне, - девушка уставилась на меня внимательно, изучающе и пристально,
видимо, ожидая появления хотя бы усмешки на моём лице, но высказанные ею
соображения выглядели столь ново и необычно для меня, что я был целиком
поглощён их осмыслением.
Логика в её рассуждениях была,
правда, - не привычная. Её слова казались не лишёнными смысла, хотя для
человека, не верящего в высшие связи душ близких людей, убийство путём
внутреннего ужаса от мысли было ничем иным, как сущим бредом….
«И это всё?!» - хотел спросить я, но
сдержался, вспомнив, что не следует задавать вопросов. Но так как говорить с
ней попутно она, вроде бы, не запрещала, то сказал, сам не уверенный, впрочем в
том, что произносил:
-Я действительно нахожу, что
мысленное воздействие очень много значит. И человек может передать свои чувства
другому, близкому ему душою даже на большие расстояния. Впрочем, здесь
расстояние, кажется, не играет роли. Ведь сверхъестественное не знает
пространства. Если оно и есть, то свободно существует в каком-то ином
измерении, не в том, в котором живём мы, или, во всяком случае, не только в
этом измерении…. Скорее всего, мы являемся в своём измерении частью измерения
сверхъестественного….
Говоря это, я понимал, что несу
сущий бред, поскольку только что закончил училище, сдав, пусть не на отлично и
даже не хорошо, но всё же успешно, марксизм-ленинизм!..
-Ты прав, - поддержала меня
Вероника. – Чувства, в самом дел, стоят над временем и пространством. Это та
форма связи, которая не подчиняется их системе. И слова, что любовь – вечна, не
пустая фраза и не вульгарное обобщение, намекающее, что, покуда не иссякнет род
человеческий, мужчины и женщины будут встречать друг друга на своём пути…. Нет,
любовь вечна в том смысле, что границ времени и пространства для неё не
существует. Ты можешь любить человека, оставшегося в прошлом, испытывать к нему
страсть и чувство, хотя его уже никогда не увидишь и не почувствуешь, или
любить того, кто за тысячи километров от тебя…. Расстояние и время не имеют
значения. Но если уж любовь родилась, то она будет вечна, пока сами люди,
создавшие эту высшую форму связи, соединяющие души вопреки годам и расстояниям,
не захотят её разрушить…. Вот и я…. Я разрушила любовь одним движением души в
сторону страха. Я испугалась за себя, и в тот же час человека, с которым я была
связана волшебными, непостижимыми для банальности, узами, не стало. Он словно
услышал вопль моей души, ужаснувшейся перед тяжестью предстоящей жизни, и решил
уйти, чтобы не быть обузой. Он покончил жизнь самоубийством. Но это было не
простое самоубийство! Если бы он был хотя бы в полусознании и мог шевелить
своими раздробленными членами, то это было бы более-менее понятно. Но он ушёл
из жизни с помощью одного лишь желания не мешать мне, силы воли, заставившей
отлипнуть кусочек лейкопластыря от сделавшейся вдруг скользкой кожи. Вот это и
сверхъестественно!..
На похоронах я стояла далеко от
могилы, чтобы не попасться на глаза его матери. Я боялась, что она догадается о
том, что это я виновата в его смерти. Потом я часто приходила к нему на могилу,
укрывала бетонную плиту большим букетом цветов, подолгу сидела на маленькой
скамеечке у надгробья и разговаривала с ним. Да-да, разговаривала….
Я заметил, что у Вероники на глаза
навернулись слёзы, попытался вытереть их, но она отвела мою руку.
«Тебе плохо?» - хотел спросить я у
неё, но снова вспомнил, то задавать вопросы не полагается.
-…Я бывала на кладбище почти
ежедневно, - девушка не обращала внимания, что две слезы скатились по её щекам
и повисли на подбородке, собираясь вот-вот упасть вниз, - и привыкла
засиживаться до позднего вечера у него на могиле. Меня там никто не тревожил, и
я почти физически ощущала голос моего друга. Я просила у него прощения за свои
глупые поступки, свои скверные мысли, и он принял его и простил, сказав, что
любит меня по-прежнему…. Однажды он сообщил мне, что скоро я получу от него письмо,
написанное ещё при жизни. И, действительно, через несколько дней ко мне домой
пришло его послание. Там было замечательное и грустное стихотворение,
доставившее мне много боли и страданий. Ведь я была виновата, и всё, что
случилось с нами, взяло своё начало от моей первоапрельской шутки. Я до сих пор
помню несколько первых строф этих стихов:
…Как
жаль, но лишь одной из многих
Ты
станешь из единственной моей,
От
мыслей, дел своих убогих
Ты к
стезе катишься своей
Обласканной
быть многими, любимой –
Никем,
увы, и никогда.
Затасканной
по кабакам, терпимой
К
чужим рукам и ласкам иногда….
Что
ж, я уйду, но вот не гордый
Я
встану на колени пред тобой
Скажу:
«Прости, прощай!», и твёрдый
Мой
будет шаг по лезвию босой….
Оно было очень длинное, это
стихотворение, а внизу стояла дата: двенадцатое апреля, то есть, за день до
случившегося….
На следующий день, после прочтения
письма, я пришла к нему на могилу и поблагодарила за письмо, теперь уже безо
всякого сомнения разговаривая с ним, засиживаясь иногда чуть ли не до полуночи….
Лето прошло тогда быстро и
незаметно. Я днями и вечерами просиживала у его надгробья, под тенью
кладбищенских деревьев…. Я люблю купаться, обожаю загорать на солнце и нежиться
на раскалённом песочке, но ни разу в то лето не была на пляже. Мне нравилось
сидеть на кладбище и разговаривать с ним, хотя это не всегда было приятно.
Иногда он упрекал меня, и я обижалась, не приходила день, два, а то и дольше…,
но потом… всё равно возвращалась и просила прощения за свою горячность….
Однажды, в сентябре, я столкнулась
на кладбище с его матерью. Летом нам как-то не довелось встретиться здесь. В
тот раз она уходила с кладбища, а я шла на могилу Афони…. Сначала она зыркнула
на меня зло и недобро глазами и прошла мимо, но потом обернулась и позвала…. У
нас произошёл с ней резкий разговор. Она предупредила меня, чтобы я не
появлялась больше и близко возле его могилы, иначе, при повторной встрече,
нагонит порчу на всю нашу семью. «Моё проклятье крепкое, - погрозила она, -
долго помниться будет, аж до десятого колена!..» С тех пор, сильно напугавшись,
я не бывала на кладбище долгое время. Разговор этот сильно подействовал на
меня. Конечно, меня можно упрекнуть в трусости. Но я решила подумать о живых и
близких, чем о любимом, но мёртвом человеке. К тому же мне опять показалось,
что всё это не правда, что просто я сама с собой разговариваю у могилы и внушаю
сама себе, что слышу его голос. Я решила, что мёртвые не умеют говорить…, и вот
снова, уже во второй раз, предала своё чувство.
Всю осень и зиму я провела в какой-то
постоянной тоске и тревоге, не находя себе места нигде: ни в весёлой кампании,
ни в ресторане, ни на дискотеке…, хотя, чтобы забыться, пускалась порой во все
тяжкие. Но ничто не помогало. Потом я сильно заболела и долго лежала в постели,
поправилась только к весне, но теперь, по ночам, а иногда и среди бела дня,
меня стали одолевать какие-то видения, похожие на кошмары, и всегда он был в
них в главной роли. Кроме того, я стала буквально бредить музыкой «битлов». Это
было какое-то тихое помешательство, и я не знала, как от него избавиться.
Музыка звучала внутри меня, в моей голове, и я отключалась от внешнего мира,
подобно лунатику, и уходила в забытьё, ни на что не реагируя. Моё тело
двигалось, губы говорили, глаза смотрели, но сама душа моя была не здесь. И
если же кто нечаянно включал «Битлз», а я слышала это, то подобное было для
меня словно нож в сердце….
В годовщину катастрофы, тринадцатого
апреля, я всё же решилась пойти на кладбище. Здесь я увидела его мать и отца,
долго сидевших у могилы. Пришлось в ожидании, когда они уйдут, несколько часов
бродить по аллеям, мимо чугунных оград, стараясь не попасться им на глаза. И
какова же была моя радость, когда они, наконец-то, ушли и освободили мне место
у могильной плиты.
Я села на скамеечку, уже почерневшую
за год, но так ничего и не услышала больше. Афоня молчал и больше не
разговаривал со мной. Я приходила на кладбище ещё несколько раз, но ничего
больше не слышала.
Через месяц, тринадцатого мая, я
снова была на кладбище и вновь бродила в ожидании, когда уйдут его родители. В
тот раз, я долго-долго сидела и всё пыталась заговорить с ним, хотела узнать,
почему он молчит, что с ним произошло, но лишь шум листвы, колышимой ветром,
нарушал тишину.
Так просидела я на кладбище до
глубоких сумерек, когда вокруг почти никого не осталось, и уже собиралась
уходить, как вдруг будто бы кто-то, - а, может быть, послышалось мне, или же я
сама себе это придумала, - сказал: «Ты должна прийти сюда к двенадцати часам
ночи… сегодня!»
Голос не был похож ни на мой, ни на
его. Я обернулась, но кругом было пусто и тихо….
Знаешь, к кладбищенским страхам я с
детства была не равнодушна. Меня до глубины души пробирали рассказы про
мертвецов, выходящих из могил в полуночный час, чтобы прогуляться по кладбищу,
про бродящие там ночью приведения, про руки, шарящие из могильных холмов по
тропинкам и дорожкам в поисках добычи. Я, вообще, человек впечатлительный. И
поэтому тебе, наверное, непонятно моё удивление и испуг по поводу этого
предложения, прозвучавшего неизвестно откуда, будто я сама себе это говорила в
полумраке вечернего кладбища.
Вечером мои легли спать рано, - не
было ещё и десяти, - и за окнами ещё горело множество оживлённых огней
вечернего города. Точно не помню: возможно, я специально, сама перед самой
собой притворилась сильно уставшей за день, чтобы избавить себя от страшного и
ненужного, как мне казалось, искушения. К тому же, брат и родители уезжали на
следующий день на целую неделю в деревню, а мы с бабушкой оставались в городе
на хозяйстве. Вот и решили отойти ко сну пораньше….
Я уже крепко спала, как среди ночи
вдруг почувствовала, будто меня кто-то толкает в плечо.
Я открыла глаза, осмотрела комнату,
но никого не увидела. Поглядела на часы. Они показывали без пятнадцати
двенадцать.
«Тебя ждут, - сказала я сама себе,
будто давно собиралась уже идти, но чуть не проспала, и теперь читала мораль не
себе, а кому-то другому. – Вставай быстрее, одевайся и выходи на улицу!..»
Без промедления поднялась я, оделась
и вышла из дома.
Ночь была светлая. Луна, яркая,
ослепительная, хорошо освещала городские улицы, заливая спящие внизу дома,
дворы и деревья своим странным, серебристым светом.
Я знала, где меня ждут, но было не
страшно. Я нисколечко не боялась. Я двигалась, словно во сне, и меня
интересовало только, кого я увижу. Вперёд гнало предчувствие чего-то радостного
и необычного, хотя, что такого радостного и необычного могло произойти на
кладбище в двенадцать часов ночи?..
Я вышла на проспект, он был
почему-то совершенно пуст, как будто время подходило часам к трём ночи: не было
ни единой машины. И тут я увидела, что навстречу мне едет такси. Я не взяла с
собой денег, но почему-то уверенно подняла руку и не успела ещё взмахнуть ею
как следует, как машина сама пересекла проспект, резко крутанувшись, и
остановилась возле меня. Шофёр тут же, открыв дверцу и пригласил меня в неё.
Я села в машину, и мы помчались по
проспекту. Водитель всю дорогу молчал и ни о чём меня не спрашивал, будто бы и
сам знал, куда надо везти, а когда я спросила его, почему он не интересуется,
куда мне ехать, то он поглядел на меня удивлённо и ответил:
-Так ведь по заказу….
Я сказала таксисту, что не взяла
денег, на что он ответил мне:
-В кредит! - что меня очень удивило.
До кладбища мы домчались быстро. И
ровно в двенадцать часов ночи ступила на дорожку между могил.
Я прошла по освещённым луной
тенистым аллеям кладбища, столько раз пугавшим меня одним своим сумрачным
видом, совершенно не страшась темноты, и очутилась у могилы Афанасия.
К моему удивлению, я оказалась там
не одна. Спиной ко мне, опершись на ограду, стоял какой-то худощавый тип. На
его сгорбившейся фигуре висел пиджак, на голове была старомодная шляпа-котелок,
каких давно уже никто не носит.
Когда я приблизилась к могиле, он
обернулся ко мне и, протягивая навстречу мне свою конечность, произнёс:
-О, я вас заждался, мадам!
Он так и сказал: «мадам», взяв под
локоть, повёл меня по дорожке, мурлыкая что-то на ухо. У него был странный,
кошачий вид, с урчанием в груди голос и аккуратненькие, торчащие в стороны
усики, и, не смотря на то, что при лунном свете было невозможно определить
цвет, мне каким-то образом стало ясно, что усы у него огненно-рыжие, а глаза,
скрытые под полою шляпы, - жгуче-зелёные.
Из мурлыканья этого, не знаю, как
его назвать..., - господина, гражданина, человека, хотя ни тем, ни другим, ни
третьим он не являлся, - половину которого составляли всевозможные комплименты,
я поняла, что это «поверенный» Афони, который пришёл от него, чтобы встретиться
со мной и предложить одну странную прогулку.
-Не желаете ли встретиться с этим
человеком, мадам? – спросил он меня, имея в виду Афоню. – Если вы изъявите
желание сделать это, то сможете побыть с ним непременно некоторое время.
-Я подумаю над вашим предложением,
можно? – спросила я у него, робея.
-Ваше право…. Ваше право, мадам!..
Но помните: времени на долгие раздумья у Вас совсем нет. Как только тень от
этой ветки упадёт на этот камень, - показал он мне, - я потребую от Вас дать
мне ответ. Но знайте, что он очень хочет увидеться с Вами и просил Вас сделать
это.
-А когда эта встреча будет возможна?
– поинтересовалась я.
-Если Вы будете так разумны и
согласитесь, то мы прямо отсюда пойдём к нему…. Если же нет, такого не
случиться больше никогда! – ответил мне странный собеседник.
Этот разговор на кладбище с
неизвестным и до высшей степени необычным и странным типом, предлагающим столь
удивительные вещи, мог бы привести в ужас и страх кого угодно, но мне было не
страшно. Более того, он заинтриговал меня представившейся, как я поняла,
единственной возможностью увидеться с умершим возлюбленным….
-Тень уже упала на камень, - сказал
он мне, и… я согласилась без промедления….
Девушка замолчала.
Рассказ её, до высшей степени
странный, походил более на пересказ фантасмагории сна, чем на то, что может
произойти в жизни. Легче было поверить, что всё, рассказанное ей, придумано.
Однако Вероника говорила с таким неподдельным чувством и печалью, что я без
труда определил, что, рассказывая мне, она ничего не выдумывает, а черпает это
со страниц своей прожитой жизни. Сомневаться в её искренности было трудно,
впрочем, как и верить….
-Давай, пройдёмся, а то мне холодно,
- предложила она.
Мы встали и пошли прочь от училища,
обратно в город. Некоторое время она молчала, и я, ожидая продолжения рассказа,
шёл рядом, не произнося ни слова.
Незаметно как-то позади осталось несколько
кварталов, и мы оказались у входа на центральное городское кладбище. Здесь моя
спутница вдруг остановилась и обернулась ко мне в порыве терзавших, видимо, её
сомнений.
-Скажи мне, пожалуйста…, - глаза её
бегали по моему лицу, и видно было, что хотят и не могут ни за что зацепиться.
– Скажи мне, ты мог бы совершить какой-нибудь бесшабашный, безумный,
самоотверженный поступок ради того, чтобы спасти человека?..
Её неожиданный и странный вопрос
снова застал меня врасплох, и я совершенно растерялся, не зная, что ответить.
Честно говоря, я думал вовсе не о
том, надеясь, что её слезливый рассказ, перешедший уже в какой-то несусветный
бред, вот-вот закончится, и тогда…. Всё это время я шёл вроде и рядом, но всё
же несколько поотстав от неё, и, пока Вероника несла свою околесицу, глазами
пожирал её умопомрачительную фигурку, со сладострастием вспоминая, как щедра
была она сегодня, дав попробовать себя, и надеясь, что сейчас, когда углубимся
внутрь нелюдимого места, на какой-нибудь могилке или, поставив её к чугунному
заборчику кладбищенской оградки, наконец, исправлю свою дневную ошибку и засажу
ей на всю катушку своего готового в любой момент вздыбиться на неё жеребца, чем
вышибу из алой розочки между её прелестных ножек бронебойную закупорку, а из
головы всю эту дурь….
-…Чтобы спасти человека? –
переспросил я, пытаясь переключится от овладевшей моими мыслями липкой ваты
плана завладеть её кункой на то, что она от меня хочет услышать. – Не знаю….
Смотря, от чего спасти… и кого….
-Да. Я понимаю, что ты не гуманист,
готовый на любую жертву ради спасения человека вообще, в абстракции…. Ну,
хорошо…, я уточню. Смог бы ты совершить безумие, чтобы спасти меня?..
-Тебя? – изумился я, но в душе уже
заскребло, застонало колесо предчувствия, расшевеливая, бередя чувства.
В голову закралось подозрение, что
«кина, всё-таки, не будет»
-Да, меня!..
-А что для этого необходимо? – меня
посетила мысль, что у девочки, всё-таки, что-то не в порядке с головой, и
видимо от того, что ей давно уже, много лет хотелось того, чего пока ещё никто
не дал: «У мужчин это называется спермотоксикоз…, а у женщин?!...»
-Нет, ты ответь мне!.. Смог бы ты
совершить поступок ради моего спасения или не смог?.. Поступок любой, насколько
бы безумным и самоубийственным ни казался?..
-Но только не заставляй меня прыгать
с крыши дома! – пошутил я.
-Да, хотя бы и прыгать!.. Ведь это и
есть настоящее безумие!..
-Да!.. Но это абсурд! – возмутился
я, подумав про себя: «Вот, дура! ...». – Как тебя может спасти то, что я прыгну
с крыши дома и разобьюсь?!... И от чего, главное?!...
Я хотел, съязвив, добавить: «…от
того, что целка не траханная?!» - но удержался.
-…Всё в этом мире взаимосвязано. С
виду, с первого взгляда, что-то и бред, и вздор. Но через невидимые нам каналы,
тонкие, как нити, как паутинки, оно влияет на что-то другое в этом мире, и нам
не дано этого видеть.
-Но всё же…, если серьёзно: что мне
надо сделать, чтобы спасти тебя? – спросил я замолчавшую девушку.
-Ничего, - вздохнула, отвернувшись,
она. – Ты хочешь узнать, что случилось дальше?
-Да, но почему ты спросила, могу ли
я совершить что-то безумное ради тебя?
-Хотела, чтобы ты спас меня!..
-От чего?..
-Я сажу тебе только в том случае,
если ты согласишься спасти меня, если решишься на это. А так…. Просто так я не
могу об этом распространяться даже теперь, когда тебе почти всё известно…. Это
я могу сказать лишь моему спасителю.
-Хорошо, я согласен! – выпалил я,
гнетомый сильнейшим любопытством, хотя и почувствовал, как от страха тут же
замерло сердце, и сжалось, съёжилось что-то в паху. – Согласен, и даже, если
придётся действительно рискнуть жизнью….
-И даже…, если придётся сигануть с
крыши? Даже…, если об этом тебя попрошу?!...
-Но почему?..
-Нет…, отвечай мне!.. Даже в этом
случае?!
-Да!
-Ну, хорошо! Тогда я прошу тебя:
прыгни, пожалуйста, с крыши вон той пятиэтажки! – она указала на одно из здание
стоявших вдоль проспекта через дорогу.
Я внимательно посмотрел на неё, но
вид у девушки был серьёзный. По-видимому, она не шутила, а, если и разыгрывала
меня, то весьма искусно.
-Пошли! – сказал я.
Мы пересекли дорогу, направившись к
пятиэтажной «хрущёвке», зашли в один, затем в другой подъезд в поисках люка и,
найдя его, вылезли на плоскую, просмолённую крышу, ещё пышущую жаром от
недавнего солнцепёка.
Проходя мимо антенн и коробок
воздуховодных шахт, я всё время оглядывался на Веронику, и чем ближе была
решительная минута, тем явственнее ощущал, что она не шутит и действительно не
остановит меня до тех пор, пока я не сигану вниз.
Я шёл, но испытывал странное
ощущение, что всё происходит словно бы не со мной. До меня никак не могло
дойти, что через несколько минут мой труп будет валяться внизу, на подъездной
дороге у дома в сгущающихся сумерках, и произойдёт всё это только лишь потому,
что дал слово сделать это. Я сам себе добровольно подписал приговор на самоубийство
без малейшего на то личного желания. «Может, этой девчонке нравится так
забавляться, так изводить своих кавалеров?.. Может быть, она получает
удовольствие, глядя, как те, один за другим, мрут, как мухи, а потом скорбит по
ним, посещает их могилки и рассказывает очередной жертве небылицы про
предшествующих поклонников? – думал я, перешагивая провода и обходя трубы и
антенны. - Сначала этот парень… на мотоцикле разбился!.. Теперь вот, я… сейчас
с крыши сигану!.. Может, она и до Афони кого-нибудь ещё отправила на тот свет,
да не говорит, потому что уже не интересно?!... Когда я сигану с крыши, то буду
крайним в списке её жертв, и очередному бедолаге она, уже забыв своего
«битломана», будет рассказывать обо мне! ... И как, интересно, она приукрасит историю
моей гибели?!...»
Я вдруг подумал, что, возможно, это
месть за то, что она дала, а я не смог: «Что ж, это было бы в некотором роде
справедливо и логично для женщины, пусть ещё и девственницы…. Ведь, в самом
деле, это с виду ничего не произошло. Но что творилось после этого в её
душе?!.. Она дала мне самое святое, что
есть у девочки, предоставив право сделать её женщиной. И я не смог!..»
Мы остановились у края крыши. Ветер
здесь, на высоте восемнадцати метров, был сильнее, и было намного прохладнее, чем
внизу, на неостывшей ещё от дневного солнцепёка земле.
Отсюда было видно, как далеко внизу,
под нами, сидят на лавочках старухи, мирно болтая между собой, какая-то женщина
катает коляску, прогуливаясь по дороге вдоль подъездов дома, куда мне предстоит
шлёпнуться, чуть дальше от дома, во дворе, под деревьями, отгоняя густым
табачным дымом и сорванными ветками нахальных комаров, мужики, собравшись после
работы, забивают «козла» на самодельном, срубленном из неотёсанных досок и
покрытом фанерным листом столе, оглашая близлежащую округу горланистым матом и
громким стуком костяшек домино.
С крыши открывалась великолепная
панорама раскинувшегося передо мной вечернего города. Отсюда он был виден, как
на ладони.
Кое-где уже зажигались первые огни в
окнах далёких белоснежных, торчащих свечками из зелени деревьев за рекой
кирпичиков домов. Оттуда они блестели золотыми крошечками-песчинками,
вкраплёнными в серебряные тела зданий. Хорошо были видны дачные домики внизу,
под откосом крутого края холма, метров на сорок возвышающегося здесь над
припойменной равниной реки, отрогом, поднимающимся всё выше, тянущегося вдоль
неё от самого центра города, утопающие в густой, сочной зелени погружающейся в
сумерки низины сады с яркими точками спелых яблок. Блестящая, зеркальная гладь
реки, местами выныривающая из зелёной изгороди высоких деревьев окружающего её
парка, голубой струйкой протекающая через панораму слева направо, разрезала
долину, а за ней раскинулся самый дикий район города, состоящий из тянущихся к
горизонту, до самого «Химпрома» кварталов частных домов, с символичным
названием Пришиб. Слева белел красивый мост через реку, рассёкший зелень поймы
своей стрелой, метнувшейся с высокого крутого правого берега Псла над парком,
над рекой до берега другого, в Заречье, к крайним многоэтажкам белых кварталов,
переходя в широкое шоссе. Где-то там, дальше, позади моста, в гуще парка
спрятался любимый мною городской пляж, «Студяга». Там, наверное, и сейчас ещё
купались самые отчаянные любители прелестей неповторимых тёплых июльских
вечеров, не омрачённых ещё капризами погоды, не проходящим зноем взирающих с
безоблачного неба на погружающийся в сумрак город. Лесопарковая зона тянулась и
выше по течению реки, прорезая белый пирог города, проходя через самую его
сердцевину и освежая его каменную монолитность. Городские кварталы маняще
высились за ней на всём протяжении на фоне темнеющего неба, всё чаще помигивая
золотыми искрами зажигающихся в окнах домов огоньков.
Вдруг захотелось оказаться
где-нибудь там, побродить, к примеру, по раздольной Харьковской мимо огромных
витрин закрывшихся уже магазинов, мимо бесчисленных кафе и ресторанов, куда бы
непременно зашёл потратить денег, - я же теперь богач, - выпить чашку кофе или
какой-нибудь коктейль, съесть мороженного, потусоваться среди гудящей на все
лады, разношёрстной толпы посетителей, что к вечеру, что ни день, запруживает
все забегаловки так, словно это какой-то американский Лас-Вегас, а не
провинциальный советский городок центральной Украины, а то и так просто, ничего
не покупая, а только ощущая себя присутствующим в каком-нибудь удивительной
красоты и атмосферы месте, гулять, вдыхая эфир и ароматы этой жизни людей,
которым было здесь, в своём родном, красивом и уютном городишке, хорошо, и
которым больше никуда не надо было спешить, они уже были там, где хотели.
Совсем уже налево, так, что надо
было глядеть на торец крыши, в центре города, который отсюда был почти не
виден, высились купола многочисленных церквей, своими золотистыми маковками
придавая пейзажу неописуемую прелесть. Они поблескивали, отливая червонным,
сочным и тёплым золотом в последних лучах клонящегося к горизонту солнца. Глаз
радовался их тёплому свечению, удерживавшему последние, прощальные отблески ещё
одного неповторимого, уходящего в небытие дня жизни.
Вдали, за рекой, на самой восточной
окраине города, серо-голубыми силуэтами, подёрнутые грязной, мутной мглой
высились стволы труб «Химпрома», белые горы отвалов, словно вершины айсбергов,
каким-то чудом оказавшихся здесь, и мрачные коробки корпусов химзавода. А дальше,
уже едва различимые, виднелись раскинувшиеся поля пригородных угодий, в
зелёно-коричневую шахматную клеточку, пёстрым ковром уходящие к далёкому и
тёмному, слившемуся с синевой неба, горизонту.
Всё это увидел я в одно мгновение,
стоя у самого края крыши, окидывая в последний раз взглядом мир божий и
собираясь с духом, чтобы прыгнуть вниз и выполнить обещание. Великолепие
открывшейся панорамы потрясло меня до глубины души. Картина вечернего города
завораживала своей прелестью, безмятежностью и полнотой протекающей внутри него
жизни, которые манили к себе, заставляли смотреть на панораму всё дольше и
дольше, звали прогуляться по тем самым раскинувшимся передо мной улицам, испить
ещё раз не вкушённых прелестей обыкновенной человеческой жизни безо всяких претензий
к судьбе.
Я стоял и медлил, всё не решаясь
прыгнуть, пытаясь надышаться перед смертью этим миром, который она у меня
отнимет. Но… надышаться было невозможно, и я тянул, тянул, тянул время. Я
думал, как хорошо было бы сейчас просто побродить по центру города, под
загоревшимися яркими и пёстрыми красками огнями витрин магазинов, вывесками
кафе, кинотеатров, ресторанов и других увеселительных заведений, побродить,
никуда не спеша, никого не боясь и ни от кого не завися среди таких же, как и
ты, праздно шатающихся людей….
Прыгать ужасно не хотелось. Да, это
же было смешно! Кому охота за просто так сигануть с крыши, чтобы разбиться или
покалечиться ни за что, ни про что?! Я ещё раз посмотрел на свою спутницу,
надеясь прочесть в её глазах хотя бы намёк на улыбку, хотя бы маленькую искорку
смешинки, дающую понять, что это шутка, возвращающую всё на свои места и
дарующую спасение. Но в глазах Вероники не было ничего, кроме ледяного холода и
равнодушного ожидания. Она смотрела на меня так, словно бы на её глазах люди
каждый день по её просьбе прыгали с крыши или совершали ещё какие-нибудь
дурацкие поступки и глупости, играя со смертью, и я лишь один из них,
очередная, так сказать, жертва….
-Ты действительно хочешь, чтобы я
спрыгнул? – спросил я у неё.
Происходящее не укладывалось у меня
в голове.
-Да, хочу, - ответила девушка.
Я не мог представить себе, как это
так: сейчас я упаду вниз, и… всё! Разобьюсь!.. И меня больше не будет! Как
будто и не было…. А через день в училище будет выпуск, и мои однокурсники
станут офицерами, лейтенантами. Но ко мне это уже относиться не будет. Да даже
не в этом дело!.. Почему я должен сейчас прыгать?!... Ради чего?!... Только
лишь из-за того, что пообещал сделать это вот этой вздорной и странной
девчонке, которая, хотя и симпатична, даже красива, - необычайно красива, - и
нравится мне, но не на столько, чтобы иметь надо мной власть заставить
проститься с жизнью! Что за вздор?!...
Ведь до чего же смешно! Нет, это
действительно смешно! Сейчас я прыгну, а завтра она будет хвастаться кому-нибудь
другому, что из-за неё один дурачок разбился на мотоцикле, а второй – сиганул
крыши, тоже насмерть, и только потому, что она его об этом попросила. А ведь
это, действительно, может быть, всего лишь её каприз! Да, и всё, что она
рассказывала мне, всего лишь её вымысел! Может быть, у неё богатое
воображение?!...
Чушь какая-то! Вздор! В самом деле,
что она такого напридумывала?! Кладбища, котелки, зелёные глаза…. Бред!.. Может
быть, и рассказывала всё это только затем, чтобы заставить меня сейчас совершить
глупость. В самом деле, почему я должен верить тому, что слышал от неё?! Надо
прекратить, немедленно прекратить всё это дурацкое действо, весь этот
театральный балаган с масками смерти и входным билетом ценой в жизнь, всё это
параноическое помутнение, нашедшее на меня, навеянное какими-то недобрыми
силами! Я больше в эти игры не играю! Надо сказать ей, наконец, что я не тот,
над кем можно издеваться и шутить!..
Однако же, хороши шуточки! Попросить
человека сигануть с крыши! Впрочем, нет! С крыши предложил прыгнуть я сам! Ей
эта идея понравилась, и она лишь с ней согласилась! Но всё-то началось с того,
то она спросила, могу ли я совершить ради её спасения какое-то безумство. И я,
- остолоп, кретин, идиот!.. - бравируя, сказал, что, конечно, могу, вместо
того, чтобы быть посдержаннее в болтовне и отказаться, подумав трезво, что я
плету!..
Однако же, мне действительно
казалось, что ради неё я готов на всё! Но вот здесь, на крыше, это ощущение
прошло. Оказывается, не всё так просто, как может показаться!..
А может, её действительно надо
спасти? По её виду не скажешь, что она шутит. По-моему, намерения у неё самые
серьёзные. Ведь она действительно ждёт, когда я прыгну! Ждёт!!! И в глазах её
ничего нет, кроме этого ожидания и холода…. Как она серьёзна! Даже, если я
захочу, очень захочу, то и тогда это приключение невозможно будет обернуть в
шутку. Или я сейчас должен сдержать своё слово, или признаться, что трус и
обманщик, и низко пасть в её глазах!..
Впрочем, она, наверное, итак уже не
слишком высокого обо мне мнения, да и что такое слово?! Пустой звук! Его уже не
существует, оно было произнесено несколько минут назад и исчезло без следа,
растворилось в воздухе. Его уже нет! Впрочем, возможно, что я ошибаюсь. Оно в
её и в моей памяти! Я, конечно же, мог бы сейчас сделать вид, что я такого не
говорил, если это позволит моя совесть. А она позволит, потому что я молодой, я
хочу жить, потому что я не знаю, зачем мне сейчас умирать! Я мог бы вычеркнуть
обещание из своей памяти, но оно останется в её! Она запомнит, что я трус и
обманщик! И для неё я навсегда останусь таким!..
Впрочем, кто она такая?! Ведь я
знаю-то её всего лишь один день, ну, может быть, чуть больше, да и, вряд ли,
увижу когда-нибудь потом….
Потом! Заветное слово. Оно зовёт в
будущее, оно заставляет жить, стремиться! Иначе этого «потом» никогда не
будет….
Никогда! Как страшно. Боже, как это
страшно! Для меня всё «потом» кончилось вот здесь, на этой дурацкой крыше
пятиэтажки. Да и будет очень больно, ужасно больно будет, когда я плюхнусь
вниз, на асфальт. А ещё ужаснее будет, если я не убьюсь, а покалечусь!..
И, вообще, это будет уже второй труп
на её совести. Не слишком ли много?! Хотя я даже успел стать её любовником. Или
нет, не успел….
Голова моя закружилась. В глазах
потемнело, и я лишь ощутил, как тело моё наклоняется вперёд, опрокидывается с
крыши. В ушах засвистел ветер смерти, и сердце ушло в пятки. Душа юркнула
куда-то в пустоту, готовясь покинуть моё тело, и я почувствовал, почти
физически ощутил предстоящий полёт в объятия небытия….
-Который сейчас час? – раздался
сквозь пелену, окутавшую сознание, голос Вероники.
Голос её послышался откуда-то
издалека, из другого мира, но прозвучал вновь уже ближе, совсем рядом:
-Который час?
Я посмотрел на неё. Теперь я уже всё
видел.
Её лицо было грустным и спокойным.
По нему блуждала понимающая, едва уловимая, как тень, ироничная улыбка.
-Не надо…, пойдём!.. Пойдём отсюда!
– сказала девушка.
Я сделал шаг от края.
Странно, но радости от того, что всё
закончилось именно так, чудесно и не опасно, не было никакой. Напротив,
какое-то смешанное чувство позора, стыда, печали, отверженности и одиночества
бередило сердце. В груди противно засаднило, заныло, заклокотало нечто
неведомое.
-Пойдём отсюда…, мне страшно! –
вновь повторила Вероника.
Мы прошли по крыше к люку,
спустились в подъезд по бренчащей, с отломавшимися кое-где перекладинками,
лестнице, и вскоре уже были внизу, на улице….
Уже уходя, я глянул на крышу дома и
подумал, что уже мог бы лежать сейчас здесь, внизу, мешком костей и мяса. Мне
стало нехорошо, по телу поползли крупные, противные мурашки, а потом несколько
раз всего передёрнуло.
Вероника шла впереди молча, я
следовал за ней.
Мы перешли дорогу и снова оказались
у кладбища.
-Послушай, а ты веришь в дьявола? –
спросила девушка.
Она умела задавать вопросы
врасплох!.. Честно говоря, после крыши я всё ещё не мог прийти в себя.
-Ты меня уже об этом спрашивала! –
ответил я, по интонации её голоса понимая, что после крыши она покончила со
мной навсегда…, безапелляционно.
-Нет, я спрашивала в общем…. А теперь
спрашиваю конкретно. Веришь ли ты, что он может вот так вот, вдруг, появиться
на улице, среди прохожих. И люди будут идти, проходить мимо него, ничего не
замечая. Для них он будет обыкновенным человеком, а ты будешь знать и видеть,
кто это на самом деле.
-Наверное, возможно, - согласился я,
ещё не в силах опомниться от пережитого приключения, едва не кончившегося
плачевно.
-А я не только видела, но и
разговаривала с ним и даже совершила с ним одну сделку, - отозвалась Вероника
после некоторого раздумья. Голос её, мне показалось, стал несколько
дружелюбнее. – И об этом не знает никто. Никто, кроме меня и одного умершего.
-Какую, если не секрет, сделку? – я
почувствовал, что по моей спине пробежал холодок жути, хотя верить в подобную
чушь не собирался, но когда разговоры касались сверхъестественного, по привычке
из детства они никогда не оставляли меня равнодушным. Моё сознание было к ним
весьма чувствительно, будто озарено смутным предчувствием, что, в конце концов,
это вплотную коснётся меня….
-Я продала ему свою душу, -
медленно, почти по слогам едва выговорила Вероника.
-Как?.. Разве можно продать душу?! –
изумился я. – Она же не отделима… от тела. Да, и вообще…, это сущий бред! ....
Что такое душа?! Да и, если ты её продала, как ты тогда живёшь?!...
-Ну, не совсем продала, - уточнила
девушка. Она шла, точно не видя ничего вокруг. Взгляд её застекленел, был
словно обращён внутрь неё самой, либо в какой-то потусторонний мир, либо чёрт
знает куда ещё. – Но скоро заплачу ею за сделку…. Сейчас я живу в долг…. Я уже
заложила свою душу за одну покупку. – В голосе её послышались какие-то
металлические нотки, которые заставили меня задрожать. – Ведь души нет!.. Есть
мозг, есть тело, а души нет!.. Так ведь нас учат с детства? Так ведь нас учил
дедушка Ленин?.. Не правда ли?.. А раз души нет, то я её и продала, - Вероника
изобразила такую комичную и глупую, извинительную и в то же время страшную
мину, что я невольно отшатнулся в испуге. – Раньше я тоже думала, что души
нет…. А теперь, когда заложила её, то и почувствовала вдруг, что она есть, вот
она! – она приложила руку к груди. - Вот она, трепещет, бьётся в страхе, как
птица в клетке. Раньше-то я верила в то, что душу выдумали церковные попы,
чтобы народу песни о загробной жизни петь и под эти песни обирать его и пополнять
своё богатство. Верила во все эти коммунистические сказки! Верила, хотя и
видела, немного повзрослев, что нашим смиренным народом можно управлять и безо
всякой церкви, в абсолютно стерилизованном, атеистическом государстве…. Ты уж
прости, что мои рассуждения могут показаться чересчур умными….
-Да нет, ничего! Мне, наоборот,
нравится, как ты говоришь, - подбодрил её я, радуясь, что она несколько
потеплела ко мне. – В наше время редкость, когда человек блистает умом!.. Тем
более, слышать это от девчонки!.. Просто удивительно!
-Да, я верила, что нет ни души, ни,
вообще, чего-то из того, чем пугают бабки, а потому так легко согласилась,
когда мне было предложено…. Да, я испугалась, но вот сейчас думаю, что, будь я
порядочной, богобоязненной девицей, дьявол бы ни за что не подступился бы ко
мне. Страх перед Богом перевесил бы все другие страхи, какие только бывают на
земле. Теперь я каюсь, но уже слишком поздно….
-Но как это произошло? – вырвался у
меня испуганный крик. – Чем же он искусил тебя?.. Что тебе предложил?
-Я уже говорила тебе, что сильно
испугалась. А произошло это той самой ночью, вот на этом кладбище. И предложил
мне сделку тот самый тип, с которым я встретилась через год после смерти Афони,
после того, как я дала согласие на встречу с ним:
-Сейчас мы пойдём к вашему другу, но
прежде я хочу договориться с вами о цене. Вы же понимаете, что ни в том, ни в
этом мире ничего не происходит просто так. Поэтому я должен назначить вам цену
за такую необычную услугу!
-Чем же я могу заплатить? –
изумилась я. – У меня ничего нет!
-О, вы ошибаетесь! – плотоядно
сверкнул изумительно белыми зубами мой собеседник. – У каждого, даже самого
нищего человека, есть то, чем он может расплатиться за подобное. Ведь речь идёт
о необычном свидании: я помогу вам преодолеть время и кое-какие другие, более
серьёзные, барьеры, о которых вы даже не догадываетесь, живя здесь своей
маленькой, никому не нужной жизнью, и хотел бы сам назначить достойную цену за
эту услугу. Вы сможете расплатиться, произнеся лишь одно единственное слово!
-Единственное слово?!... Чего же вы
хотите?! – изумилась я.
-Ничего особенного, мэм. Только
душу, вашу душу и ничего более того…. Как видите, всё мило и безобидно! –
слащаво оскалился тип в котелке….
-И ты согласилась? – не удержался я
от вопроса.
-Да…, согласилась…. Не сразу,
конечно! ... Трудно передать то состояние, в котором я тогда пребывала….
Сначала я испугалась! Представь себе эту сцену на кладбище в полночь, при свете
луны…. Не жутко ли тебе?
-Жутковато, - согласился я,
попытавшись представить себя на её месте.
-Вот и я испугалась!.. И испугалась
даже не этого типа, не того, что я на кладбище, а того, что вот сейчас, от
одного моего слова могу лишиться чего-то такого, что никогда не подозревала и
не ценила в себе, но вдруг, в одно мгновение осознала, что оно представляет
огромную, неземных мерок, ценность. Я вдруг в тот момент словно бы ощутила
вечность этого слова «душа». Вот этим бесценным божественным даром мне
предлагали расплатиться за несколько минут свидания…, конечно, свидания удивительного
и необычного, с человеком уже умершим, переступившим рамки естества.
Что толкнуло меня тогда согласиться
на сделку?! Я до сих пор сама не могу толком ответить на этот вопрос. Но тогда
я сдалась…. Да и, как было не огласиться, когда тебе предлагают такое?!
Отказалась бы я тогда, и сейчас, вспоминая это, даже не верила бы, что это было
на самом деле, а не приснилась мне всего лишь в ночном кошмаре….
-Но почему ты так уверена, что это
был сатана?.. Не возможно ли здесь какое-нибудь более земное, естественное
объяснение?.. Может быть, ты находилась в состоянии гипноза? И на кладбище тебя
провёл какой-нибудь плут-гипнотизёр? – возразил я.
-Дьявол – самый лучший гипнотизёр!..
Вот что я могу сказать тебе!.. Вероятно, этому и можно было бы найти
какое-нибудь земное объяснение, если бы не одна маленькая деталь: ни один самый
лучший маг и гипнотизёр, какой бы искусный он ни был, не сможет стать над своей
сущностью. А сущность эта такова, что он тоже человек, обыкновенный смертный
человек с теми же потребностями, что и у других людей. А все земные потребности
покупаются на деньги. Просить за свою услугу душу для любого экстрасенса просто
абсурд!.. Самое большее, что нужно любому человеку – это деньги. Ни один
живущий в мире божьем не может купить чужую душу и владеть ею. Душа, не смотря
на всю банальность утверждения, - категория другого, более высокого мира,
данная нам свыше, каждому из людей. Душа – это понятие сверхъестественное,
дающееся нам в этой жизни напрокат, во временное пользование, и забираемое
обратно поле смерти. Это дар божий человеку. Быть может, я ошибаюсь в своих
размышлениях, но знаю одно, что ею надо дорожить больше во сто крат, чем телом,
чем самой жизнью. А я по глупости своей заложила этот бесценный дар. Сейчас бы
я уже ни за что этого не сделала, - Вероника отвлеклась от рассказа и как бы
спросила сама себя. – Впрочем, когда я получала то, что хотела?..
-Даже, если бы тебе снова предложили
взамен нечто подобное?
-Да.
-Ну, а как же любовь? Разве
невозможно пожертвовать душою ради любви? Ведь тебе предлагали свидание с
любимым человеком.
-Любовь – это состояние души. А как
состояние предмета может быть без него самого? Ты сам не понимаешь, что
говоришь!
-Хорошо, я согласен, ты права. И
всё-таки, как удалось лукавому обмануть тебя?..
-Он меня и не обманывал. Сначала он
хотел немедленной расплаты, сразу же после свидания с Афоней. Но потом, видя,
что я не соглашаюсь, он пошёл на уступку и предложил мне трёхмесячный
испытательный срок, в течение которого я должна буду привыкнуть к новому
состоянию. Временами у меня будет исчезать то, что зовётся душою, но потом душа
будет возвращаться ко мне в тело, и я буду жить то с ней, то без неё. Я
согласилась, но с одним условием, которое придумала сама…. После того, как мы
договорились, тип повёл меня за собой. Едва мы вышли с кладбища, как тут же
оказались у входа в больницу, где умер мой друг, потом сразу внутри, в палате
реанимации, в той самой, где год назад лежало тело Афони. Здесь всё было, как
тогда, когда я навещала его. Быть может, мы действительно вернулись назад во
времени?.. Такая догадка промелькнула у меня в голове, и я уже хотела
возмутиться, что это за надувательство: мне не нужно свидание с без пяти минут
трупом, который не ответит мне ни слова. Я обернулась, но тип в шляпе словно
сквозь землю провалился. В палате я была одна.
Тогда я решила, что меня
действительно обманули. В самом деле, если это и было волшебство, то какое-то
дерьмовое и низкопробное. Во мне вскипели гнев и ярость, но повернув голову в
сторону стола, где лежало безжизненное тело Афони, я едва не вскрикнула от
испуга….
Эпилог
Телефон в моей квартире звонил
редко. Но теперь аппарат трезвонил так настойчиво, что я, ругаясь, всё же устало
подошёл к нему, потягиваясь после бессонной ночи и снял трубку.
-Здравствуйте! – раздался в трубке
мужской голос.
Он был и знаком, и не знаком
одновременно.
-Здравствуйте! – ответил я, пытаясь
вспомнить, из каких глубин памяти он чудится мне знакомым.
-Яковлев?!
-Не понял?! – многочисленные
опасности, которые мне пришлось пережить в жизни приучили меня к осторожности,
и я сначала решил, как всегда, по выработавшейся уже привычке, узнать, кто на
другом конце линии.
-Это Дмитрий Гладышев! Возможно вы
меня помните?!...
Сонм воспоминаний накрыл меня с
головой. Я вспомнил те далёкие уже дни так, будто всё случившееся произошло
только вчера.
Вот откуда был этот голос.
Я вспомнил его, Бегемота, и, конечно
же, Веронику: о ней я не забывал никогда и пронёс её образ через всю свою жизнь.
-Да, конечно, помню! – обрадовался
я.
Я замялся не зная, что спросить.
Хотелось узнать сразу очень много, но…. Самое главное, хотелось узнать, как там
Вероника.
Впрочем, я понимал, что вероятность
того, что странный поэт из ресторана хоть что-то знает о её судьбе, ничтожно
мала: она и тогда не питала к нему симпатий, а теперь, по прошествии стольких
путей-дорожек, наверняка они были далеко друг от друга. Всё-таки, что ни
говори, тогда я видел их ещё почти детьми. А теперь….
Я оглянулся на прожитую жизнь и
вздрогнул. Столько пришлось пережить! И развал Союза, случившийся почти сразу
после выпуска из училища, был ещё цветочками….
-Вы что-то хотели?! – опомнился я от
мыслей, вспомнив, что на другом конце провода меня ждёт звонящий.
-Да, хотел.
Голос был очень грустный, а, может
быть, просто усталый или… старый уже. Хотя нет, не мог он так быстро
состариться.
Я вновь хотел спросить его о
Веронике, но тут же осёкся, сказав себе, что он вряд ли что знает о её судьбе.
Зачем он звонил? Как нашёл меня в безбрежном океане мира?! Я был уже так далеко
от мест событий, которые связывали меня, Гладышева, Веронику. Я сам не думал,
что когда-то буду жить здесь, так далеко….
-Говорите, - будто разрешил я, сам
испытывая нервную дрожь и жуткое волнение.
Мне показалось, что Гладышев будет
говорить сейчас со мной о Веронике.
Сердце затрепетало в груди,
окрылённое надеждой услышать хоть что-то о женщине, которую я любил, любил всю
свою жизнь.
Было странно, но встречая многих и
до неё, и после, я сохранил в себе образ Вероники, как самую большую
драгоценность, даже не зная, почему это делаю. Ведь у меня так с ней ничего и
не получилось! Впрочем, наверное, любовь и «получилось» - вещи разных порядков
мироздания. Мне было достаточно только того, что однажды Вероника возникла в
моей жизни, как яркая вспышка, пронеслась по её сумрачному небосводу и скрылась
за его горизонтом. Но всё же…. Я надеялся, что однажды встречусь с ней. Но
встречусь окончательно, не так, как это случалось пару раз в совершенно
невообразимых условиях, где я и не чаял на неё нарваться. Я надеялся, что
встречусь с ней навсегда, чтобы уже никогда от неё не уходить, и чтобы она
всегда оставалась подле меня.
Я мечтал, что вновь, как когда-то
хотел и не смог, у двери её квартиры после той странной ночи, когда приехал забирать
свой парадный мундир, упаду к её ногам и признаюсь, что люблю её…. Я буду
молить уже в этот раз о том, чтобы она осталась со мной навсегда, и, если она
так хочет, то обвенчаюсь с ней в церкви, с удовольствием обвенчаюсь! Да я сам
потащу её под венец!..
-Я звоню по просьбе Вероники! –
раздался в трубке голос Гладышева.
«Вот, я так и знал! Я чувствовал,
что он будет говорить о ней!» - обрадовался я, услышав её имя.
Это было похоже на чудо! Гладышев
каким-то непостижимым образом нашёл мой номер и теперь, словно весточку из
прошлого передаёт мне, говоря, что звонит по просьбе той, о которой я думал всю
свою жизнь.
-Да-да!.. Как она?!.. Где?!..
В трубке немного помолчали, потом
заговорили снова:
-Знаете, у Вероники остались ваши
вещи!..
-Какие?! – удивился я, ведь даже
если что и забыл из формы у неё дома много-много лет назад, то помнить об этом
было, право, пустяком. – Да…, оставлял у неё форму, но, кажется, всю забрал….
Да и…, прошло столько времени….
Однако, было чрезвычайно приятно,
что Вероника помнила обо мне, иначе, на кой ляд ей просить Гладышева, чтобы он
нашёл меня и рассказал о том, что у неё находятся забытые мной шмотки.
-Нет…, не форму! – ответил Гладышев
из трубки. – Вместе с формой вы привозили ещё и сумку. Так вот, когда её
забирали, то нечаянно обронили книгу….
«Ах, да! – вспомнил я. – Книги!..
Конечно!.. Так вот куда они делись!..»
Некоторое время после выпуска я не
мог понять, куда же запропастились те рукописные книги, которые я вынес из
хранилища и некоторое время держал у себя в тумбочке. В сумбуре происходивших
накануне выпуска событий мне показалось тогда, что у меня их украли. И вспомнил
я о них лишь много позже, поискал-поискал, да и решил, что потерял. Теперь
понятно! Вот куда они делись!.. Впрочем!… Я уже давно смирился с их утратой, и
то, что они нашлись, никакой особой радости мне не доставило: я уже
переболел!..
-Да, книги! – машинально согласился
я, радуясь тому, что получил от Вероники весточку хотя бы в таком виде.
-Да нет, не книги, а книга! –
уточнил Гладышев.
-Одна книга?! – переспросил я.
-Одна, - подтвердил он.
-Странно, - я пытался вспомнить,
восстановить в памяти порядок событий, произошедших в то удивительное лето. – А
какая она?!..
-Рукописная….
-Да-да, - подтвердил я, - у меня
было несколько рукописных книг…. Помнится «Магия чёрная и белая», и ещё….
Я стал перечислять ему, напрягая
память и выуживая из неё названия книг, которые, едва попав ко мне в руки, тут
же исчезли.
-Нет-нет, таких книг у нас никогда
не было! – ответил после того, как долго слушал мои потуги, мой нежданный
собеседник.
Мне захотелось спросить его: почему
он говорит «у нас», но это было бестактно. «Неужели Вероника вышла замуж за
этого тюфяка?! – удивился я про себя. – Нет, быть такого не может!..»
Я знал, что она была замужем за
Бегемотом, я знал кое-что ещё о её жизни. Но это было так давно!.. «Неужели
судьба повернулась так, что она стала женой ещё и Гладышева?!.. Лучше бы тогда
вышла замуж за меня!» - с негодованием подумал я и, чтобы развеять сомнения,
напрямик спросил его:
-А что, вы поженились?!..
-Да, - подтвердил, кажется…, Дима, -
но это было давно….
-И что же?! – удивился я.
-Да нет, я не о том…, я о книге!
-Но почему об одной?! – я
почувствовал раздражение от того, что разговариваю с человеком, который,
оказывается, обладает моей возлюбленной, чей образ навсегда впечатался в моё
сердце. – У меня их было несколько!...
-Не знаю…, у нас всегда была только
эта ваша книга. Вероника всегда говорила, что её вам надо вернуть….
-Говорила?!.. А как называется?..
-«Возвращение к истине»….
-«Возвращение к истине»?
-Да, «Возвращение к истине»!
-Я что-то не припомню такой книги
среди тех, что у меня были…. «Возвращение к истине»…. А кто автор?
-Ващ отец.
-Мой отец?!..
Это было очень странно. Я помнил,
что взял из хранилища книгу моего отца, но она называлась совершенно иначе.
Впрочем, она тоже куда-то бесследно исчезла.
-Да, ваш отец.
-Странно…. Не припомню. И что?..
-В любом случае я должен выполнить
её просьбу и каким-то образом передать вам эту книгу, - продолжил спокойным, но
грустным или уставшим голосом на другом конце линии Гладышев.
-А вы сейчас где?!..
Мне подумалось, что, раз он нашёл
мой номер телефона, то, наверняка, каким-то странным образом раздобыл и мой
адрес. Возможно он сейчас, вообще, где-то поблизости и напросится зайти в гости!
-Да…. Всё там же, где и был, -
ответил он. – В Сумах….
-Милый-милый город, - воспоминания о
юности, проведённой в этом красивом украинском областном центре, невольно
ворвались в мою память и забередили мои чувства.
Я вспомнил тот вечер, когда мы
сидели в ресторане, отмечая день рождения Бегемота, вспомнил снова Веронику,
как был у неё дома, где так и не смог ничего с ней сделать. А Бегемот – смог, а
теперь, оказывается, и Гладышев – смог!..
Гладышев больше не произносил ни
слова, а я перебирал догадки.
Раз он звонит по просьбе Вероники,
значит…. Впрочем, возможно ей некогда, или они разводятся и делят имущество, и
она попросила отдать мне то, что не принадлежит ни ей, ни ему….
Целый сонм пустых и взбалмошных
мыслей запрудил мне голову.
-Так что вы хотели сделать с книгой…
«Возвращение… к истине»?! – поинтересовался я у него. – Передать мне?!.. Но,
дорогой мой, я-то не в Сумах!..
-Я отправлю вам её по почте….
-Нет, ну, конечно!.. Наверняка, раз вы
нашли мой телефон, - знаете и мой адрес…. Отправляйте!
-Хорошо….
Я почувствовал, что Гладышев сейчас
положит трубку, так и не сказав мне ничего о ней….
Не смотря на то, что, как теперь я выяснил,
Вероника вышла за него замуж, мне хотелось услышать хоть что-то о ней.
«Наверняка, если попрошу позвать её к телефону, он этого не сделает! –
мелькнуло у меня в голове. – Муж ведь!..»
-Постойте!.. Дима! – крикнул я в
микрофон. – Это всё?!..
-В смысле?! – не понял он.
-Ну…, разговор закончен?!..
-Да! – подтвердил Гладышев.
И тут я решил сыграть ва-банк.
-Оставьте мне хоть номер телефона!
-Зачем?!
-Чтобы я мог позвонить вам….
-Зачем?!..
-Ну, вдруг, книга затеряется в
дороге…. Сами понимаете, что это рукопись! Она уже потому имеет большую цену.
Ну, а для меня, раз это книга моего отца…, «Возвращение… к истине»…, - что-то
не припомню, чтобы она была у меня…. Но, не важно!.. Вдруг вы отправите книгу,
а она затеряется в дороге!.. Тогда я позвоню…. Вам!
-Зачем?!..
-Ну, сообщу, что книга не пришла….
Или поинтересуюсь, хотя бы, вы её отправили уже или ещё нет.
-Я отправлю её завтра же, наложенным
платежом!.. И оценю так, что воровать её никто не станет! – ответил Гладышев. –
Поэтому не вижу никакого смысла вам звонить!..
-Точно отправите?!..
-Точно! Воля моей супруги для меня
закон!..
«Надо же как! – вспылил я про себя.
– Подкаблучник!.. Нет, он наверняка не даст мне с ней пообщаться….» И вдруг я
зачем-то спросил, наверное, затем, чтобы хоть что-нибудь знать о ней:
-А у вас дети есть?!..
-Да, есть! – ответил Гладышев. – А
вам зачем это знать?!..
-Да так просто! – я пытался
подобрать объяснение такое, чтобы не обидеть его чувства. – Интересно, как
сложилась её судьба.
-По-разному, - ответил Дима. – По-всякому!.. У нас мальчик и девочка….
-Всё как у всех! – поддержал я его
ответ.
Мне показалось, что ещё немного, и
Гладышев оттает и, возможно, даст мне поговорить с самой Вероникой: в этот
момент мне почему-то нестерпимо захотелось услышать её голос.
-Знаете, я всё-таки не припомню
такой книги - «Возвращение к истине»!.. Вы точно знаете, что это книга моего
отца?..
Я крутился вокруг да около, как кот
вокруг сала, подбираясь к главной теме: чтобы он разрешил мне поговорить со своей
женой.
-Точно…. Послушайте, мы с вами
впустую треплемся уже минут пять, а связь очень дорогая!..
Я понял, что финансовые дела у них обстоят
не очень. Ещё бы: Украина..., двое детей…. Но я не мог позволить ему положить
трубку.
-Послушайте…, в самом деле, вы
правы! Давайте я вам перезвоню! Тогда разговор вам ничего не будет стоить! А
мне это не накладно….
-Зачем?! – как заведённый вновь
спросил Гладышев. – Ваш адрес я нашёл, книгу вам отправлю, просто позвонил,
чтобы убедиться, что вы там живёте, а то, – знаете как…. Сейчас же многие
прописаны в одном месте, а живут совершенно в другом, иногда даже в другой
стране….
-Да-да, - согласился я. – И всё же,
давайте я вам перезвоню!.. Скажите номер телефона.
-Зачем?! – снова спросил Гладышев, и
я уже не выдержал: у меня больше не было аргументов, а он был не догадлив.
-Послушайте, в конце концов…, Дима!..
Вы сами позвонили мне!.. Я вас не просил!..
-Меня просила моя супруга!..
Вероника!..
-Хорошо! – согласился я. – Она вас
попросила!.. Но вы позвонили мне и… даже не представляете, что сделали!.. Вы
затронули старые раны моей души, которые уже стали затягиваться…, разбередили
их!.. А теперь хотите повесить трубку и исчезнуть в тине вашего болота
навсегда! Вы даже не представляете, что вы наделали с моими чувствами! Ваш
звонок перевернул мне вверх дном всю душу!.. Вот я с вами сейчас говорю, а на
меня обрушился целый океан воспоминаний!.. Мне очень больно! – я в самом деле
вдруг едва не заплакал, осознав, как далеко провёл все дни своей жизни от
человека, которого единственного любил по-настоящему.
-Я просто выполнил просьбу своей
жены! – спокойно ответил Гладышев из трубки. – Я нашёл ваш адрес, узнал ваш
номер телефона и, перед тем как отправить то, что она просила вам передать,
просто убедился, что вы там живёте. Что ещё?!..
-Вы не понимаете…. Не понимаете, - я
ощутил, как по моим щекам потекли горючие слёзы.
О, если бы сейчас она была рядом, я
бы упал на колени перед ней и рыдая, просил бы у неё прощения за то, что провёл
жизнь вдали от неё, за то, что оставил её Бегемоту, а теперь и Гладышеву!..
-Не понимаю что? – спросил на том
конце, из далёкой Украины, Дмитрий Гладышев, но по его голосу я вдруг понял,
что он почувствовал, словно увидел, мои слёзы.
-Я хотел бы услышать её голос…..
Можно позвать её к телефону? – я уже не скрывал своего рыдания от него, я не,
стесняясь, плакал.
В трубке родилась тишина.
Странное предчувствие овладело мной.
Мне показалось, что Дима выполнил мою просьбу и пошёл звать её к телефону.
Тайная надежда вновь услышать её прекрасный голос стала расти и крепнуть во
мне.
Вот сейчас она подойдёт и скажет в
трубку: «Алло, кто это?!..» И я отвечу ей: «Здравствуй! Это я, ты меня не
узнала?!.. Вероника!.. Это я!..»
…Тишина в трубке всё не
прекращалась, и я начал уже переживать: почему так долго, неужели у них такой
большой дом?..
И тут я понял, что Гладышев не
позвал её, что он просто стоит где-то там, в Сумах, в задрипанной, поди,
квартирке, держит паузу на том конце провода и слушает, как я плачу, как капают
мои слёзы!.. Это возмутило меня!..
-Алло!..
-Да?!..
-Дима!..
-Да?!..
-Можно мне услышать Веронику?!..
-…Нет.
-Почему?!..
-Она умерла….
1991, 2016 гг.