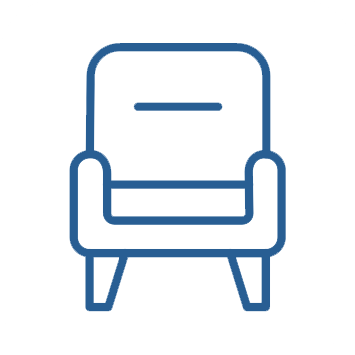- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
1984
Роман
-
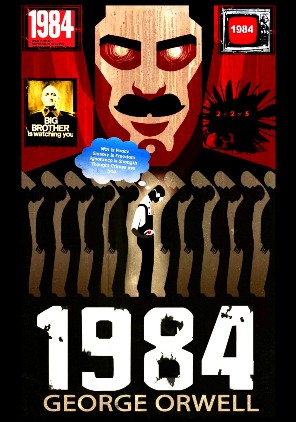
Джордж Оруэлл 1984
Приобрести произведение напрямую у автора на Цифровой Витрине. Скачать бесплатно.
Электронная книга
Аннотация
906
Главный герой — Уинстон Смит — живёт в Лондоне, работает в министерстве правды и является членом внешней партии. Он не разделяет партийные лозунги и идеологию и в глубине души сильно сомневается в партии, окружающей действительности и вообще во всём том, в чём только можно сомневаться. Чтобы «выпустить пар» и не совершить безрассудный поступок, он ведёт дневник, в котором старается излагать все свои сомнения. На людях же он старается притворяться приверженцем партийных идей.
PDF
Вы приобретаете произведение напрямую у автора. Без наценок и комиссий
магазина.
Подробнее...
Какие эмоции у вас вызвало это произведение?

0

0

0

0

0

0
Читать бесплатно «1984» ознакомительный фрагмент книги
1984
Первая часть
Был холодный ясный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Уткнув подбородок вгрудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверьжилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли.
В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене виселцветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное,больше метра в ширину, лицо, — лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами,грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило иподходить. Он даже в лучшие времена редко работал, а теперь, в дневное время, электричествовообще отключали. Действовал режим экономии — готовились к Неделе ненависти. Уинстонупредстояло одолеть семь маршей; ему шел сороковой год, над щиколоткой у него былаварикозная язва: он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. Накаждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что, куда бы тыни стал, глаза тебя не отпускали. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ, — гласила подпись.В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голосшел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутноезеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппаратэтот (он назывался телекран) притушить было можно, полностью же выключить — нельзя.Уинстон отошел к окну; невысокий тщедушный человек, он казался еще более щуплым в синемформенном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицошелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода только что кончившейся зимы.Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль иобрывки бумаги; и, хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выгляделобесцветным — кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицочерноусого. С дома напротив тоже. СТАРШИЙ БРАТ СМОТРИТ НА ТЕБЯ , — говорилаподпись, и темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу, над тротуаром, трепался на ветруплакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово: АНГСОЦ. Вдалекемежду крышами скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унессяпрочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна. Но патрули в счет не шли. В счетшла только полиция мыслей.
За спиной Уинстона голос из телекрана все еще болтал о выплавке чугуна иперевыполнении девятого трехлетнего плана. Телекран работал на прием и на передачу. Онловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом; мало того, покудаУинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден.Конечно, никто не знал, наблюдают за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какомурасписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей — об этом можно было толькогадать. Не исключено, что следили за каждым — и круглые сутки. Во всяком случае,подключиться могли когда угодно. Приходилось жить — и ты жил, по привычке, котораяпревратилась в инстинкт, — с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают и каждоетвое движение, пока не погас свет, наблюдают.
Уинстон держался к телекрану спиной. Так безопаснее; хотя — он знал это — спина тожевыдает. В километре от его окна громоздилось над чумазым городом белое здание министерстваправды — место его службы. Вот он, со смутным отвращением подумал Уинстон, вот он,Лондон, главный город Взлетной полосы I, третьей по населению провинции государстваОкеания. Он обратился к детству — попытался вспомнить, всегда ли был таким Лондон. Всегдали тянулись вдаль эти вереницы обветшалых домов XIX века, подпертых бревнами, сзалатанными картоном окнами, лоскутными крышами, пьяными стенками палисадников? И этипрогалины от бомбежек, где вилась алебастровая пыль и кипрей карабкался по грудамобломков; и большие пустыри, где бомбы расчистили место для целой грибной семьи убогихдощатых хибарок, похожих на курятники? Но — без толку, вспомнить он не мог; ничего неосталось от детства, кроме отрывочных ярко освещенных сцен, лишенных фона и чаще всегоневразумительных.
Министерство правды — на новоязе[1] Миниправ — разительно отличалось от всего, чтолежало вокруг. Это исполинское пирамидальное здание, сияющее белым бетоном, вздымалось,уступ за уступом, на трехсотметровую высоту. Из своего окна Уинстон мог прочесть на беломфасаде написанные элегантным шрифтом три партийных лозунга:ВОЙНА — ЭТО МИРСВОБОДА — ЭТО РАБСТВОНЕЗНАНИЕ — СИЛА
По слухам, министерство правды заключало в себе три тысячи кабинетов над поверхностьюземли и соответствующую корневую систему в недрах. В разных концах Лондона стояли лишьтри еще здания подобного вида и размеров. Они настолько возвышались над городом, что скрыши жилого дома «Победа» можно было видеть все четыре разом. В них помещались четыреминистерства, весь государственный аппарат: министерство правды, ведавшее информацией,образованием, досугом и искусствами; министерство мира, ведавшее войной; министерстволюбви, ведавшее охраной порядка, и министерство изобилия, отвечавшее за экономику. Нановоязе: миниправ, минимир, минилюб и минизо.
Министерство любви внушало страх. В здании отсутствовали окна. Уинстон ни разу непереступал его порога, ни разу не подходил к нему ближе чем на полкилометра. Попасть тудаможно было только по официальному делу, да и то преодолев целый лабиринт колючейпроволоки, стальных дверей и замаскированных пулеметных гнезд. Даже на улицах, ведущих квнешнему кольцу ограждений, патрулировали охранники в черной форме, с лицами горилл,вооруженные суставчатыми дубинками.
Уинстон резко повернулся. Он придал лицу выражение спокойного оптимизма, наиболееуместное перед телекраном, и прошел в другой конец комнаты, к крохотной кухоньке. Покинувв этот час министерство, он пожертвовал обедом в столовой, а дома никакой еды не было —кроме ломтя черного хлеба, который надо было поберечь до завтрашнего утра. Он взял с полкибутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой: «Джин Победа». Запах у джина былпротивный, маслянистый, как у китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку,собрался с духом и проглотил, точно лекарство.
Лицо у него сразу покраснело, а из глаз потекли слезы. Напиток был похож на азотнуюкислоту; мало того: после глотка ощущение было такое, будто тебя огрели по спине резиновойдубинкой. Но вскоре жжение в желудке утихло, а мир стал выглядеть веселее. Он вытянулсигарету из мятой пачки с надписью «Сигареты Победа», по рассеянности держа еевертикально, в результате весь табак из сигареты высыпался на пол. Со следующей Уинстонобошелся аккуратнее. Он вернулся в комнату и сел за столик слева от телекрана. Из ящика столаон вынул ручку, пузырек с чернилами и толстую книгу для записей с красным корешком ипереплетом под мрамор.
По неизвестной причине телекран в комнате был установлен не так, как принято. Онпомещался не в торцовой стене, откуда мог бы обозревать всю комнату, а в длинной, напротивокна. Сбоку от него была неглубокая ниша, предназначенная, вероятно, для книжных полок, —там и сидел сейчас Уинстон. Сев в ней поглубже, он оказывался недосягаемым для телекрана,вернее, невидимым. Подслушивать его, конечно, могли, но наблюдать, пока он сидел там, —нет. Эта несколько необычная планировка комнаты, возможно, и натолкнула его на мысльзаняться тем, чем он намерен был сейчас заняться.
Но кроме того, натолкнула книга в мраморном переплете. Книга была удивительно красива.Гладкая кремовая бумага чуть пожелтела от старости — такой бумаги не выпускали уже летсорок, а то и больше. Уинстон подозревал, что книга еще древнее. Он приметил ее на витринестарьевщика в трущобном районе (где именно, он уже забыл) и загорелся желанием купить.Членам партии не полагалось ходить в обыкновенные магазины (это называлось «приобретатьтовары на свободном рынке»), но запретом часто пренебрегали: множество вещей, таких, какшнурки и бритвенные лезвия, раздобыть иным способом было невозможно. Уинстон быстрооглянулся по сторонам, нырнул в лавку и купил книгу за два доллара пятьдесят. Зачем — он самеще не знал. Он воровато принес ее домой в портфеле. Даже пустая, она компрометировалавладельца.
Намеревался же он теперь — начать дневник. Это не было противозаконным поступком(противозаконного вообще ничего не существовало, поскольку не существовало больше самихзаконов), но если дневник обнаружат, Уинстона ожидает смерть или, в лучшем случае, двадцатьпять лет каторжного лагеря. Уинстон вставил в ручку перо и облизнул, чтобы снять смазку.Ручка была архаическим инструментом, ими даже расписывались редко, и Уинстон раздобылсвою тайком и не без труда: эта красивая кремовая бумага, казалось ему, заслуживает того,чтобы по ней писали настоящими чернилами, а не корябали чернильным карандашом. Вообще-то он не привык писать рукой. Кроме самых коротких заметок, он все диктовал в речепис, нотут диктовка, понятно, не годилась. Он обмакнул перо и замешкался. У него схватило живот.Коснуться пером бумаги — бесповоротный шаг. Мелкими корявыми буквами он вывел:4 апреля 1984 года
И откинулся. Им овладело чувство полной беспомощности. Прежде всего он не знал, правдали, что год — 1984-й. Около этого — несомненно: он был почти уверен, что ему 39 лет, ародился он в 1944-м или 45-м; но теперь невозможно установить никакую дату точнее, чем сошибкой в год или два.
А для кого, вдруг озадачился он, пишется этот дневник? Для будущего, для тех, кто еще неродился. Мысль его покружила над сомнительной датой, записанной на листе, и вдругнаткнулась на новоязовское слово «двоемыслие». И впервые ему стал виден весь масштаб егозатеи. С будущим как общаться? Это по самой сути невозможно. Либо завтра будет похоже насегодня и тогда не станет его слушать, либо оно будет другим, и невзгоды Уинстона ничего емуне скажут.
Уинстон сидел, бессмысленно уставясь на бумагу. Из телекрана ударила резкая военнаямузыка. Любопытно: он не только потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл,что ему хотелось сказать. Сколько недель готовился он к этой минуте, и ему даже в голову непришло, что потребуется тут не одна храбрость. Только записать — чего проще? Перенести набумагу нескончаемый тревожный монолог, который звучит у него в голове годы, годы. И вотдаже этот монолог иссяк. А язва над щиколоткой зудела невыносимо. Он боялся почесатьногу — от этого всегда начиналось воспаление. Секунды капали. Только белизна бумаги, да зуднад щиколоткой, да гремучая музыка, да легкий хмель в голове — вот и все, что воспринималисейчас его чувства.
И вдруг он начал писать — просто от паники, очень смутно сознавая, что идет из-под пера.Бисерные, но по-детски корявые строки ползли то вверх, то вниз по листу, теряя спервазаглавные буквы, а потом и точки.
4 апреля 1984 года. Вчера в кино. Сплошь военные фильмы. Один очень хорошийгде-то в Средиземном море бомбят судно с беженцами. Публику забавляют кадры, гдепробует уплыть громадный толстенный мужчина а его преследует вертолет. Спервамы видим как он по-дельфиньи бултыхается в воде, потом видим его с вертолета черезприцел потом он весь продырявлен и море вокруг него розовое и сразу тонет словночерез дыры набрал воды. Когда он пошел на дно зрители загоготали. Потом шлюпкаполная детей и над ней вьется вертолет. Там на носу сидела женщина средних летпохожая на еврейку а на руках у нее мальчик лет трех. Мальчик кричит от страха ипрячет голову у нее на груди как будто хочет в нее ввинтиться а она его успокаивает иприкрывает руками хотя сама посинела от страха. Все время старается закрыть егоруками получше, как будто может заслонить от пуль. Потом вертолет сбросил на них20 килограммовую бомбу ужасный взрыв и лодка разлетелась в щепки. Потомзамечательный кадр детская рука летит вверх, вверх прямо в небо наверно ее снималииз стеклянного носа вертолета и в партийных рядах громко аплодировали но там гдесидели пролы какая-то женщина подняла скандал и крик, что этого нельзя показыватьпри детях куда это годится куда это годится при детях и скандалила пока полицейскиене вывели не вывели ее вряд ли ей что-нибудь сделают мало ли что говорят пролытипичная проловская реакция на это никто не обращает…
Уинстон перестал писать, отчасти из-за того, что у него свело руку. Он сам не понимал,почему выплеснул на бумагу этот вздор. Но любопытно, что, пока он водил пером, в памяти унего отстоялось совсем другое происшествие, да так, что хоть сейчас записывай. Ему сталопонятно, что из-за этого происшествия он и решил вдруг пойти домой и начать дневник сегодня.Случилось оно утром в министерстве — если о такой туманности можно сказать«случилась».
Время приближалось к одиннадцати-ноль-ноль, и в отделе документации, где работалУинстон, сотрудники выносили стулья из кабин и расставляли в середине холла перед большимтелекраном — собирались на двухминутку ненависти. Уинстон приготовился занять свое местов средних рядах, и тут неожиданно появились еще двое: лица знакомые, но разговаривать сними ему не приходилось. Девицу он часто встречал в коридорах. Как ее зовут, он не знал, знаятолько, что она работает в отделе литературы. Судя по тому, что иногда он видел ее с гаечнымключом и маслеными руками, она обслуживала одну из машин для сочинения романов. Онабыла веснушчатая, с густыми темными волосами, лет двадцати семи; держалась самоуверенно,двигалась по-спортивному стремительно. Алый кушак — эмблема Молодежного антиполовогосоюза, — туго обернутый несколько раз вокруг талии комбинезона, подчеркивал крутые бедра.Уинстон с первого взгляда невзлюбил ее. И знал, за что. От нее веяло духом хоккейных полей,холодных купаний, туристских вылазок и вообще правоверности. Он не любил почти всехженщин, в особенности молодых и хорошеньких. Именно женщины, и молодые в первуюочередь, были самыми фанатичными приверженцами партии, глотателями лозунгов,добровольными шпионами и вынюхивателями ереси. А эта казалась ему даже опаснее других.Однажды она повстречалась ему в коридоре, взглянула искоса — будто пронзила взглядом, — ив душу ему вполз черный страх. У него даже мелькнуло подозрение, что она служит в полициимыслей. Впрочем, это было маловероятно. Тем не менее всякий раз, когда она оказываласьрядом, Уинстон испытывал неловкое чувство, к которому примешивались и враждебность истрах. Одновременно с женщиной вошел О’Брайен, член внутренней партии, занимавшийнастолько высокий и удаленный пост, что Уинстон имел о нем лишь самое смутноепредставление. Увидев черный комбинезон члена внутренней партии, люди, сидевшие передтелекраном, на миг затихли. О’Брайен был рослый плотный мужчина с толстой шеей и грубымнасмешливым лицом. Несмотря на грозную внешность, он был не лишен обаяния. Он имелпривычку поправлять очки на носу, и в этом характерном жесте было что-то до странностиобезоруживающее, что-то неуловимо интеллигентное. Дворянин восемнадцатого века,предлагающий свою табакерку, — вот что пришло бы на ум тому, кто еще способен был бымыслить такими сравнениями. Лет за десять Уинстон видел О’Брайена, наверно, с десяток, раз.Его тянуло к О’Брайену, но не только потому, что озадачивал этот контраст междувоспитанностью и телосложением боксера-тяжеловеса. В глубине души Уинстон подозревал —а может быть, не подозревал, а лишь надеялся, — что О’Брайен политически не вполнеправоверен. Его лицо наводило на такие мысли. Но опять-таки возможно, что на лице былонаписано не сомнение в догмах, а просто ум. Так или иначе, он производил впечатлениечеловека, с которым можно поговорить — если остаться с ним наедине и укрыться от телекрана.Уинстон ни разу не попытался проверить эту догадку; да и не в его это было силах. О’Брайенвзглянул на свои часы, увидел, что время — почти 11:00, и решил остаться на двухминуткуненависти в отделе документации. Он сел в одном ряду с Уинстоном, за два места от него.Между ними расположилась маленькая рыжеватая женщина, работавшая по соседству сУинстоном. Темноволосая села прямо за ним.
И вот из большого телекрана в стене вырвался отвратительный вой и скрежет — словнозапустили какую-то чудовищную несмазанную машину. От этого звука вставали дыбом волосыи ломило зубы. Ненависть началась.
Как всегда, на экране появился враг народа Эммануэль Голдстейн. Зрители зашикали.Маленькая женщина с рыжеватыми волосами взвизгнула от страха и омерзения. Голдстейн,отступник и ренегат, когда-то, давным-давно (так давно, что никто уже и не помнил, когда), былодним из руководителей партии, почти равным самому Старшему Брату, а потом встал на путьконтрреволюции, был приговорен к смертной казни и таинственным образом сбежал, исчез.Программа двухминутки каждый день менялась, но главным действующим лицом в ней всегдабыл Голдстейн. Первый изменник, главный осквернитель партийной чистоты. Из его теорийпроизрастали все дальнейшие преступления против партии, все вредительства, предательства,ереси, уклоны. Неведомо где он все еще жил и ковал крамолу: возможно, за морем, под защитойсвоих иностранных хозяев, а возможно — ходили и такие слухи, — здесь, в Океании, вподполье.
Уинстону стало трудно дышать. Лицо Голдстейна всегда вызывало у него сложное имучительное чувство. Сухое еврейское лицо в ореоле легких седых волос, козлиная бородка —умное лицо и вместе с тем необъяснимо отталкивающее; и было что-то сенильное в этомдлинном хрящеватом носе с очками, съехавшими почти на самый кончик. Он напоминал овцу, ив голосе его слышалось блеяние. Как всегда, Голдстейн злобно обрушился на партийныедоктрины; нападки были настолько вздорными и несуразными, что не обманули бы и ребенка,но при этом не лишенными убедительности, и слушатель невольно опасался, что другие люди,менее трезвые, чем он, могут Голдстейну поверить. Он поносил Старшего Брата, он обличалдиктатуру партии. Требовал немедленного мира с Евразией, призывал к свободе слова, свободепечати, свободе собраний, свободе мысли; он истерически кричал, что революцию предали, — ивсе скороговоркой, с составными словами, будто пародируя стиль партийных ораторов, даже сновоязовскими словами, причем у него они встречались чаще, чем в речи любого партийца. Ивсе время, дабы не было сомнений в том, что стоит за лицемерными разглагольствованиямиГолдстейна, позади его лица на экране маршировали бесконечные евразийские колонны:шеренга за шеренгой кряжистые солдаты с невозмутимыми азиатскими физиономиямивыплывали из глубины на поверхность и растворялись, уступая место точно таким же. Глухоймерный топот солдатских сапог аккомпанировал блеянию Голдстейна.
Ненависть началась каких-нибудь тридцать секунд назад, а половина зрителей уже немогла сдержать яростных восклицаний. Невыносимо было видеть это самодовольное овечьелицо и за ним — устрашающую мощь евразийских войск; кроме того, при виде Голдстейна идаже при мысли о нем страх и гнев возникали рефлекторно. Ненависть к нему была постояннее,чем к Евразии и Остазии, ибо когда Океания воевала с одной из них, с другой она обыкновеннозаключала мир. Но вот что удивительно: хотя Голдстейна ненавидели и презирали все, хотякаждый день, по тысяче раз на дню, его учение опровергали, громили, уничтожали, высмеиваликак жалкий вздор, влияние его нисколько не убывало. Все время находились новые простофили,только и дожидавшиеся, чтобы он их совратил. Не проходило и дня без того, чтобы полициямыслей не разоблачала шпионов и вредителей, действовавших по его указке. Он командовалогромной подпольной армией, сетью заговорщиков, стремящихся к свержению строя.Предполагалось, что она называется Братство. Поговаривали шепотом и об ужасной книге, сводевсех ересей — автором ее был Голдстейн, и распространялась она нелегально. Заглавия у книгине было. В разговорах о ней упоминали — если упоминали вообще — просто как о книге. Но отаких вещах было известно только по неясным слухам. Член партии по возможности старалсяне говорить ни о Братстве, ни о книге.
Ко второй минуте ненависть перешла в исступление. Люди вскакивали с мест и кричали вовсе горло, чтобы заглушить непереносимый блеющий голос Голдстейна. Маленькая женщина срыжеватыми волосами стала пунцовой и разевала рот, как рыба на суше. Тяжелое лицоО’Брайена тоже побагровело. Он сидел выпрямившись, и его мощная грудь вздымалась исодрогалась, словно в нее бил прибой. Темноволосая девица позади Уинстона закричала:«Подлец! Подлец! Подлец!» — а потом схватила тяжелый словарь новояза и запустила им втелекран. Словарь угодил Голдстейну в нос и отлетел. Но голос был неистребим. В какой-то мигпросветления Уинстон осознал, что сам кричит вместе с остальными и яростно лягаетперекладину стула. Ужасным в двухминутке ненависти было не то, что ты должен разыгрыватьроль, а то, что ты просто не мог остаться в стороне. Какие-нибудь тридцать секунд — ипритворяться тебе уже не надо. Словно от электрического разряда, нападали на все собраниегнусные корчи страха и мстительности, исступленное желание убивать, терзать, крушить лицамолотом: люди гримасничали и вопили, превращались в сумасшедших. При этом ярость былаабстрактной и ненацеленной, ее можно было повернуть в любую сторону, как пламя паяльнойлампы. И вдруг оказывалось, что ненависть Уинстона обращена вовсе не на Голдстейна, анаоборот, на Старшего Брата, на партию, на полицию мыслей; в такие мгновения сердцем онбыл с этим одиноким осмеянным еретиком, единственным хранителем здравомыслия и правдыв мире лжи. А через секунду он был уже заодно с остальными, и правдой ему казалось все, чтоговорят о Голдстейне. Тогда тайное отвращение к Старшему Брату превращалось в обожание, иСтарший Брат возносился над всеми — неуязвимый, бесстрашный защитник, скалою вставшийперед азийскими ордами, а Голдстейн, несмотря на его изгойство и беспомощность, несмотряна сомнения в том, что он вообще еще жив, представлялся зловещим колдуном, способнымодной только силой голоса разрушить здание цивилизации.
А иногда можно было, напрягшись, сознательно обратить свою ненависть на тот или инойпредмет. Каким-то бешеным усилием воли, как отрываешь голову от подушки во времякошмара, Уинстон переключил ненависть с экранного лица на темноволосую девицу позади. Ввоображении замелькали прекрасные отчетливые картины. Он забьет ее резиновой дубинкой.Голую привяжет к столбу, истычет стрелами, как святого Себастьяна. Изнасилует и в последнихсудорогах перережет глотку. И яснее, чем прежде, он понял, за что ее ненавидит. За то, чтомолодая, красивая и бесполая; за то, что он хочет с ней спать и никогда этого не добьется; за то,что на нежной тонкой талии, будто созданной для того, чтобы ее обнимали, — не его рука, аэтот алый кушак, воинствующий символ непорочности.
Ненависть кончалась в судорогах. Речь Голдстейна превратилась в натуральное блеяние, аего лицо на миг вытеснила овечья морда. Потом морда растворилась в евразийском солдате:огромный и ужасный, он шел на них, паля из автомата, грозя прорвать поверхность экрана, —так что многие отпрянули на своих стульях. Но тут же с облегчением вздохнули: фигуру врагазаслонила наплывом голова Старшего Брата, черноволосая, черноусая, полная силы итаинственного спокойствия, такая огромная, что заняла почти весь экран. Что говорит СтаршийБрат, никто не расслышал. Всего несколько слов ободрения, вроде тех, которые произноситвождь в громе битвы, — сами по себе пускай невнятные, они вселяют уверенность одним тем,что их произнесли. Потом лицо Старшего Брата потускнело, и выступила четкая крупнаянадпись — три партийных лозунга:ВОЙНА — ЭТО МИРСВОБОДА — ЭТО РАБСТВОНЕЗНАНИЕ — СИЛА
Но еще несколько мгновений лицо Старшего Брата как бы держалось на экране: так ярокбыл отпечаток, оставленный им в глазу, что не мог стереться сразу. Маленькая женщина срыжеватыми волосами навалилась на спинку переднего стула. Всхлипывающим шепотом онапроизнесла что-то вроде: «Спаситель мой!» — и простерла руки к телекрану. Потом закрылалицо ладонями. По-видимому, она молилась.
Тут все собрание принялось медленно, мерно, низкими голосами скандировать: «ЭС-БЭ!..ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» — снова и снова, врастяжку, с долгой паузой между «ЭС» и «БЭ», и было вэтом тяжелом волнообразном звуке что-то странно первобытное — мерещился за ним топотбосых ног и рокот больших барабанов. Продолжалось это с полминуты. Вообще такое нередкопроисходило в те мгновения, когда чувства достигали особенного накала. Отчасти это был гимнвеличию и мудрости Старшего Брата, но в большей степени самогипноз — люди топили своиразум в ритмическом шуме. Уинстон ощутил холод в животе. На двухминутках ненависти он немог не отдаваться всеобщему безумию, но этот дикарский клич «ЭС-БЭ!.. ЭС-БЭ!» всегдавнушал ему ужас. Конечно, он скандировал с остальными, иначе было нельзя. Скрывать чувства,владеть лицом, делать то же, что другие, — все это стало инстинктом. Но был такойпромежуток секунды в две, когда его вполне могло выдать выражение глаз. Как раз в это время ипроизошло удивительное событие — если вправду произошло.
Он встретился взглядом с О’Брайеном. О’Брайен уже встал. Он снял очки и сейчас, надевих, поправлял на носу характерным жестом. Но на какую-то долю секунды их взглядыпересеклись, и за это короткое мгновение Уинстон понял — да, понял! — что О’Брайен думаето том же самом. Сигнал нельзя было истолковать иначе. Как будто их умы раскрылись и мыслипотекли от одного к другому через глаза. «Я с вами, — будто говорил О’Брайен. — Я отличнознаю, что вы чувствуете. Знаю о вашем презрении, вашей ненависти, вашем отвращении. Нетревожьтесь, я на вашей стороне!» Но этот проблеск ума погас, и лицо у О’Брайена стало такимже непроницаемым, как у остальных.
Вот и все — и Уинстон уже сомневался, было ли это на самом деле. Такие случаи не имелипродолжения. Одно только: они поддерживали в нем веру — или надежду, — что есть еще,кроме него, враги у партии. Может быть, слухи о разветвленных заговорах все-таки верны —может быть, Братство впрямь существует! Ведь, несмотря на бесконечные аресты, признания,казни, не было уверенности, что Братство — не миф. Иной день он верил в это, иной день —нет. Доказательств не было — только взгляды мельком, которые могли означать все, что угоднои ничего не означать, обрывки чужих разговоров, полустертые надписи в уборных, а однажды,когда при нем встретились двое незнакомых, он заметил легкое движение рук, в котором можнобыло усмотреть приветствие. Только догадки; весьма возможно, что все это — плодвоображения. Он ушел в свою кабину, не взглянув на О’Брайена. О том, чтобы развитьмимолетную связь, он и не думал. Даже если бы он знал, как к этому подступиться, такаяпопытка была бы невообразимо опасной. За секунду они успели обменяться двусмысленнымвзглядом — вот и все. Но даже это было памятным событием для человека, чья жизнь проходитпод замком одиночества.
Уинстон встряхнулся, сел прямо. Он рыгнул. Джин бунтовал в желудке.Глаза его снова сфокусировались на странице. Оказалось, что, пока он был занятбеспомощными размышлениями, рука продолжала писать автоматически. Но не судорожныекаракули, как вначале. Перо сладострастно скользило по глянцевой бумаге, крупнымипечатными буквами выводя:ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТАДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТАДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТАДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТАДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
раз за разом, и уже исписана была половина страницы.На него напал панический страх. Бессмысленный, конечно: написать эти слова ничуть неопаснее, чем просто завести дневник; тем не менее у него возникло искушение разорватьиспорченные страницы и отказаться от своей затеи совсем.
Но он не сделал этого, он знал, что это бесполезно. Напишет он «ДОЛОЙ СТАРШЕГОБРАТА» или не напишет — разницы никакой. Будет продолжать дневник или не будет —разницы никакой. Полиция мыслей и так и так до него доберется. Он совершил — и если бы некоснулся бумаги пером, все равно совершил бы — абсолютное преступление, содержащее в себевсе остальные. Мыслепреступление — вот как оно называлось. Мыслепреступление нельзяскрывать вечно. Изворачиваться какое-то время ты можешь, и даже не один год, но рано илипоздно до тебя доберутся.
Бывало это всегда по ночам — арестовывали по ночам. Внезапно будят, грубая рука трясеттебя за плечи, светят в глаза, кровать окружили суровые лица. Как правило, суда не бывало, обаресте нигде не сообщалось. Люди просто исчезали, и всегда — ночью. Твое имя вынуто изсписков, все упоминания о том, что ты делал, стерты, факт твоего существования отрицается ибудет забыт. Ты отменен, уничтожен: как принято говорить, распылен.На минуту он поддался истерике. Торопливыми кривыми буквами стал писать:меня расстреляют мне все равно пускай выстрелят в затылок мне все равно долойстаршего брата всегда стреляют в затылок мне все равно долой старшего брата.С легким стыдом он оторвался от стола и положил ручку. И тут же вздрогнул всем телом.Постучали в дверь.
Уже! Он затаился, как мышь, в надежде, что, не достучавшись с первого раза, они уйдут. Нонет, стук повторился. Самое скверное тут — мешкать. Его сердце бухало, как барабан, но лицоот долгой привычки, наверное, осталось невозмутимым. Он встал и с трудом пошел к двери.IIУже взявшись за дверную ручку, Уинстон увидел, что дневник остался на столе раскрытым.Весь в надписях «ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА», да таких крупных, что можно разглядеть сдругого конца комнаты. Непостижимая глупость. Нет, сообразил он, жалко стало пачкатькремовую бумагу, даже в панике не захотел захлопнуть дневник на непросохшей странице.Он вздохнул и отпер дверь. И сразу по телу прошла теплая волна облегчения. На порогестояла бесцветная подавленная женщина с жидкими растрепанными волосами и морщинистымлицом.—Ой, товарищ, — скулящим голосом завела она, — значит, правильно мне послышалось,что вы пришли. Вы не можете зайти посмотреть нашу раковину в кухне? Она засорилась, а…Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия не вполне одобряла слово«миссис», всех полагалось называть товарищами, но с некоторыми женщинами это почему-тоне получалось.) Ей было лет тридцать, но выглядела она гораздо старше. Впечатление былотакое, что в морщинах ее лица лежит пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Этой слесарнойсамодеятельностью он занимался чуть ли не ежедневно. Дом «Победа» был старой постройки,года 1930-го или около того, и пришел в полный упадок. От стен и потолка постоянноотваливалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла, стоилотолько выпасть снегу, отопительная система работала на половинном давлении — если ее невыключали совсем из соображений экономии. Для ремонта, которого ты не мог сделать сам,требовалось распоряжение высоких комиссий, а они и с починкой разбитого окна тянули двагода.
— Конечно, если бы Том был дома… — неуверенно сказала миссис Парсонс.Квартира у Парсонсов была больше, чем у него, и убожество ее было другого рода. Всевещи выглядели потрепанными и потоптанными, как будто сюда наведалось большое и злоеживотное. По полу были разбросаны спортивные принадлежности — хоккейные клюшки,боксерские перчатки, дырявый футбольный мяч, пропотевшие и вывернутые наизнанкутрусы, — а на столе вперемешку с грязной посудой валялись мятые тетради. На стенах алыезнамена Молодежного союза и разведчиков и плакат уличных размеров — со Старшим Братом.Как и во всем доме, здесь витал душок вареной капусты, но его перешибал крепкий запах пота,оставленный — это можно было угадать с первой понюшки, хотя и непонятно, по какомупризнаку, — человеком, в данное время отсутствующим. В другой комнате кто-то на гребенкепытался подыгрывать телекрану, все еще передававшему военную музыку.— Это дети, — пояснила миссис Парсонс, бросив несколько опасливый взгляд на дверь. —Они сегодня дома. И конечно…Она часто обрывала фразы на половине. Кухонная раковина была почти до краев полнагрязной зеленоватой водой, пахшей еще хуже капусты. Уинстон опустился на колени иосмотрел угольник на трубе. Он терпеть не мог ручного труда и не любил нагибаться — отэтого начинался кашель. Миссис Парсонс беспомощно наблюдала.— Конечно, если бы Том был дома, он бы в два счета прочистил, — сказала она. — Томобожает такую работу. У него золотые руки — у Тома.
Парсонс работал вместе с Уинстоном в министерстве правды. Это был толстый, нодеятельный человек, ошеломляюще глупый — сгусток слабоумного энтузиазма, один из техпреданных, невопрошающих работяг, которые подпирали собой партию надежнее, чем полициямыслей. В возрасте тридцати пяти лет он неохотно покинул ряды Молодежного союза; передтем же как поступить туда, он умудрился пробыть в разведчиках на год дольше положенного. Вминистерстве он занимал мелкую должность, которая не требовала умственных способностей,зато был одним из главных деятелей спортивного комитета и разных других комитетов,отвечавших за организацию туристских вылазок, стихийных демонстраций, кампаний поэкономии и прочих добровольных начинаний. Со скромной гордостью он сообщал о себе,попыхивая трубкой, что за четыре года не пропустил в общественном центре ни единого вечера.Сокрушительный запах пота — как бы нечаянный спутник многотрудной жизни —сопровождал его повсюду и даже оставался после него, когда он уходил.— У вас есть гаечный ключ? — спросил Уинстон, пробуя гайку на соединении.— Гаечный? — сказала миссис Парсонс, слабея на глазах. — Правда, не знаю. Может быть,дети… Раздался топот, еще раз взревела гребенка, и в комнату ворвались дети. Миссис Парсонспринесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Потом какмог отмыл пальцы под холодной струей и перешел в комнату.— Руки вверх! — гаркнули ему.Красивый девятилетний мальчик с суровым лицом вынырнул из-за стола, нацелив на негоигрушечный автоматический пистолет, а его сестра, года на два младше, нацелиласьдеревяшкой. Оба были в форме разведчиков — синие трусы, серая рубашка и красный галстук.Уинстон поднял руки, но с неприятным чувством: чересчур уж злобно держался мальчик, играбыла не совсем понарошку.— Ты изменник! — завопил мальчик. — Ты мыслепреступник! Ты евразийский шпион! Ятебя расстреляю, я тебя распылю, я тебя отправлю на соляные шахты!Они принялись скакать вокруг него, выкрикивая: «Изменник!», «Мыслепреступник!» — идевочка подражала каждому движению мальчика. Это немного пугало, как возня тигрят,которые скоро вырастут в людоедов. В глазах у мальчика была расчетливая жестокость, явноежелание ударить или пнуть Уинстона, и он знал, что скоро это будет ему по силам, осталосьтолько чуть-чуть подрасти. Спасибо хоть пистолет не настоящий, подумал Уинстон.Взгляд миссис Парсонс испуганно метался от Уинстона к детям и обратно. В этой комнатебыло светлее, и Уинстон с любопытством отметил, что у нее действительно пыль в морщинах.— Расшумелись, — сказала она. — Огорчились, что нельзя посмотреть на висельников, —вот почему. Мне с ними пойти некогда, а Том еще не вернется с работы.— Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? — оглушительно взревел мальчик.— Хочу посмотреть, как вешают! Хочу посмотреть, как вешают! — подхватила девочка,прыгая вокруг.
Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в Парке будут вешать евразийских пленных —военных преступников. Это популярное зрелище устраивали примерно раз в месяц. Дети всегдаскандалили — требовали, чтобы их повели смотреть. Он отправился к себе. Но не успел пройтипо коридору и шести шагов, как затылок его обожгла невыносимая боль. Будто ткнули в шеюдокрасна раскаленной проволокой. Он повернулся на месте и увидел, как миссис Парсонсутаскивает мальчика в дверь, а он засовывает в карман рогатку.— Голдстейн! — заорал мальчик, перед тем как закрылась дверь. Но больше всегоУинстона поразило выражение беспомощного страха на сером лице матери.Уинстон вернулся к себе, поскорее прошел мимо телекрана и снова сел за стол, все ещепотирая затылок. Музыка в телекране смолкла. Отрывистый военный голос с грубымудовольствием стал описывать вооружение новой плавающей крепости, поставленной на якорьмежду Исландией и Фарерскими островами.
Несчастная женщина, подумал он, жизнь с такими детьми — это жизнь в постоянномстрахе. Через год-другой они станут следить за ней днем и ночью, чтобы поймать на идейнойневыдержанности. Теперь почти все дети ужасны. И хуже всего, что при помощи такихорганизаций, как разведчики, их методически превращают в необузданных маленьких дикарей,причем у них вовсе не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Наоборот,они обожают партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, муштра сучебными винтовками, выкрикивание лозунгов, поклонение Старшему Брату — все это для нихувлекательная игра. Их натравливают на чужаков, на врагов системы, на иностранцев,изменников, вредителей, мыслепреступников. Стало обычным делом, что тридцатилетние людибоятся своих детей. И не зря: не проходило недели, чтобы в «Таймс» не мелькнула заметка отом, как юный соглядатай — «маленький герой», по принятому выражению, — подслушалнехорошую фразу и донес на родителей в полицию мыслей.Боль от пульки утихла. Уинстон без воодушевления взял ручку, не зная, что еще написать вдневнике. Вдруг он снова начал думать про О’Брайена.
Несколько лет назад… — сколько же? Лет семь, наверно, — ему приснилось, что он идет вкромешной тьме по какой-то комнате. И кто-то сидящий сбоку говорит ему: «Мы встретимсятам, где нет темноты». Сказано это было тихо, как бы между прочим, — не приказ, простофраза. Любопытно, что тогда, во сне, большого впечатления эти слова не произвели. Лишьвпоследствии, постепенно приобрели они значительность. Он не мог припомнить, было это доили после его первой встречи с О’Брайеном; и когда именно узнал в том голосе голосО’Брайена — тоже не мог припомнить. Так или иначе, голос был опознан. Говорил с ним вотьме О’Брайен.
Уинстон до сих пор не уяснил себе — даже после того, как они переглянулись, не смогуяснить, — друг О’Брайен или враг. Да и не так уж это, казалось, важно. Между нимипротянулась ниточка понимания, а это важнее дружеских чувств или соучастия. «Мывстретимся там, где нет темноты», — сказал О’Брайен. Что это значит, Уинстон не понимал, ночувствовал, что каким-то образом это сбудется.Голос в телекране прервался. Душную комнату наполнил звонкий, красивый звук фанфар.Скрипучий голос продолжал:«Внимание! Внимание! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта.Наши войска в Южной Индии одержали решающую победу. Мне поручено заявить, что врезультате этой битвы конец войны может стать делом обозримого будущего. Слушайтесводку».
Жди неприятности, подумал Уинстон. И точно: вслед за кровавым описанием разгромаевразийской армии с умопомрачительными цифрами убитых и взятых в плен последовалообъявление о том, что с будущей недели норма отпуска шоколада сокращается с тридцатиграммов до двадцати.
Уинстон опять рыгнул. Джин уже выветрился, оставив после себя ощущение упадка.Телекран, то ли празднуя победу, то ли чтобы отвлечь от мыслей об отнятом шоколаде,громыхнул: «Тебе, Океания». Полагалось встать по стойке смирно. Но здесь он был невидим.«Тебе, Океания» сменялась легкой музыкой. Держась к телекрану спиной, Уинстонподошел к окну. День был все так же холоден и ясен. Где-то вдалеке с глухим раскатистымгрохотом разорвалась ракета. Теперь их падало на Лондон по двадцать-тридцать штук в неделю.Внизу на улице ветер трепал рваный плакат, на нем мелькало слово АНГСОЦ. Ангсоц.Священные устои ангсоца. Новояз, двоемыслие, зыбкость прошлого. У него возникло такоечувство, как будто он бредет по лесу на океанском дне, заблудился в мире чудищ и сам он —чудище. Он был один. Прошлое умерло, будущее нельзя вообразить. Есть ли какая-нибудьуверенность, что хоть один человек из живых — на его стороне? И как узнать, что владычествопартии не будет вечным? И ответом встали перед его глазами три лозунга на белом фасадеминистерства правды:ВОЙНА — ЭТО МИРСВОБОДА — ЭТО РАБСТВОНЕЗНАНИЕ — СИЛА
Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И здесь мелкими четкими буквами теже лозунги, а на оборотной стороне — голова Старшего Брата. Даже с монеты преследовал тебяего взгляд. На монетах, на марках, на книжных обложках, на знаменах, плакатах, на сигаретныхпачках — повсюду. Всюду тебя преследуют эти глаза и обволакивает голос. Во сне и наяву, наработе и за едой, на улице и дома, в ванной, в постели — нет спасения. Нет ничего твоего,кроме нескольких кубических сантиметров в черепе.
Солнце ушло, погасив тысячи окон на фасаде министерства, и теперь они глядели угрюмо,как крепостные бойницы. Сердце у него сжалось при виде исполинской пирамиды. Слишкомпрочна она, ее нельзя взять штурмом. Ее не разрушит и тысяча ракет. Он снова спросил себя,для кого пишет дневник. Для будущего, для прошлого… для века, быть может, простовоображаемого. И ждет его не смерть, а уничтожение. Дневник превратят в пепел, а его — впыль. Написанное им прочтет только полиция мыслей — чтобы стереть с лица земли и изпамяти. Как обратишься к будущему, если следа твоего и даже безымянного слова на земле несохранится?
Телекран пробил четырнадцать. Через десять минут ему уходить. В 14:30 он должен бытьна службе.Как ни странно, бой часов словно вернул ему мужество. Одинокий призрак, он возвещаетправду, которой никто никогда не расслышит. Но пока он говорит ее, что-то в мире непрервется. Не тем, что заставишь себя услышать, а тем, что остался нормальным, хранишь тынаследие человека. Он вернулся за стол, обмакнул перо и написал.Будущему или прошлому — времени, когда мысль свободна, люди отличаютсядруг от друга и живут не в одиночку, времени, где правда есть правда и былое непревращается в небыль.
От эпохи одинаковых, эпохи одиноких, от эпохи Старшего Брата, от эпохидвоемыслия — привет!Я уже мертв, подумал он. Ему казалось, что только теперь, вернув себе способностьвыражать мысли, сделал он бесповоротный шаг. Последствия любого поступка содержатся всамом поступке. Он написал:Мыслепреступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление ЕСТЬ смерть.Теперь, когда он понял, что он мертвец, важно прожить как можно дольше. Два пальца направой руке были в чернилах. Вот такая мелочь тебя и выдаст. Какой-нибудь востроносыйретивец в министерстве (скорее, женщина — хотя бы та маленькая с рыжеватыми волосами, илитемноволосая из отдела литературы) задумается, почему это он писал в обеденный перерыв, ипочему писал старинной ручкой, и что писал, а потом сообщит куда следует. Он отправился вванную и тщательно отмыл пальцы зернистым коричневым мылом, которое скребло, какнаждак, и отлично годилось для этой цели.
Дневник он положил в ящик стола. Прячь, не прячь — его все равно найдут; но можно хотябы проверить, узнали о нем или нет. Волос поперек обреза слишком заметен. Кончиком пальцаУинстон подобрал крупинку белесой пыли и положил на угол переплета: если книгу тронут,крупинка свалится.