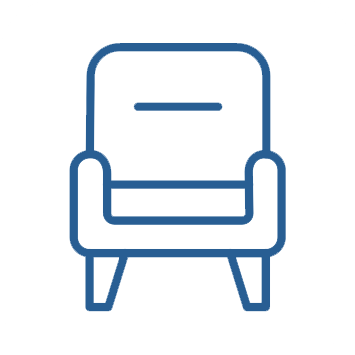- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
Мой брат
Рассказы о любви
-

Петр Алешкин Мой брат
Приобрести произведение напрямую у автора на Цифровой Витрине. Скачать бесплатно.
В русской литературе была единственная книга, в которой были все рассказы только о любви. Это "Темные аллеи" Ивана Бунина. Перед вами вторая книга рассказов о любви: счастливой и трагической, взаимной и безответной, добропорядочной и несчастной. Некоторые рассказы из этой книги после публикаций в журналах изучали в Литературном институте, чтобы показать студентам, как надо писать рассказы. Случайно узнал, что в немецком университете в городе Эссен тоже изучали эти рассказы, сейчас не знаю. Доходят до меня сведения, что и в некоторых школах в России их предлагают для внеклассного чтения. Некоторые переведены на китайский и европейские языки.
Какие эмоции у вас вызвало это произведение?

0

0

0

0

0

0
Читать бесплатно «Мой брат» ознакомительный фрагмент книги
Мой брат
Мой брат
Рассказ
Мне казалось, что я хорошо знаю своего старшего брата Валеру, пока не произошла эта ужасная история. Трагически завершилась она совсем недавно, всего три года назад.
А когда началась? Может быть, в девяносто пятом, когда я, директор собственного и процветающего в те годы издательства, соблазнился на уговоры туристического агентства купить на Канарских островах в одном из клубов ежегодную неделю на двоих. По глупости решил, что смогу каждый год летать на Канары и писать среди пальм в тиши и тепле под шум волн свои рассказы и романы. Я тогда представлял себе эти острова тропическими, сплошь покрытыми непроходимыми зарослями из кокосовых пальм, бананов и манго с ананасами. Виделись мне там песчаные пляжи по всему побережью.
Действительность, как всегда, оказалась иной. Канарские острова были вулканического происхождения и представляли собой каменистую пустыню с редкими чахлыми кустиками, похожими на верблюжьи колючки, и пыльными зарослями невысоких лопушистых кактусов, густо разбросанных по острову небольшими колониями. На острове Тенерифе, где был мой клуб, только в горах на полпути к кратеру вулкана Тейде были лесистые заросли тонких кривых деревьев да невысоких канарских сосен. Правда, на территории клуба вокруг чистого бассейна было зелено: огромные фикусы, пальмы, кусты бананов, другие неизвестные мне южные деревца с крупными цветами всех оттенков. Неподалеку от клуба недавно, видно, посажена молодая пальмовая роща. По всей ее площади были протянуты резиновые шланги с маленькими дырочками у стволов, откуда постоянно сочилась вода. Иначе пальмы не могли расти. Влаги совсем не было на этой сухой вулканической поверхности острова. Все побережье каменистое. Черные обугленные скалы то ровной отвесной стеной спускались к воде, то в беспорядке громоздились на берегу, торчали из океана. Волны играли среди черных камней, таких острых, что по ним трудно было войти в воду, не порезав ноги. Только в некоторых местах были маленькие бухточки с мелким черным песком, вернее, вулканической золой, которую постоянно полоскали мутные грязно-черные волны. Были и настоящие пляжи с мелким золотистым песком, но его привезли из Африки, из Сахары. Ближайший такой пляж от моего клуба Санинндейл Вилладж находился за четырнадцать километров. Рейсовых автобусов не было, и до пляжа нужно было добираться либо на такси, либо брать машину на прокат. Но у нас с Таней, моей женой, за неделю не нашлось ни одного дня, чтобы полежать на пляже. Все время мы провели в организованных экскурсиях по острову, осмотрели все достопримечательности, побывали на всех знаменитых развлекательных мероприятиях.
На следующий год Таня категорически отказалась лететь на Канары. Что там делать? Все увидели, везде побывали. Лететь далеко, семь часов, дорого. Если хочешь писать, говорила она мне, полетели в Ялту, в Дом творчества. Но черт тянул меня на Канары. Это обо мне писал Некрасов: «Мужик, что бык. Втемяшится в башку какая блажь, колом ее оттудова не выбьешь. Упирается, а на своем стоит!» Но одному ехать не хотелось. Апартаменты в клубе были на двоих. И тут мне под руку подвернулся брат Валера.
Был он на два года старше. И по складу характера, и внешностью Валера отличался от меня. Был основателен, нетороплив, постоянен в своих пристрастиях. Не любил мотаться по свету, как я. У нас в деревне говорили, что он пошел в отца, а я в деда с материнской стороны, такой же непоседа. Внешне он был мужественен, лицом сухощав, смугл, с прямым носом, с красивыми темными бровями. Я рано начал лысеть, а у него до того времени были темные густые волосы. В юности я однажды услышал разговор деревенских женщин о нас, братьях. Они говорили, что Валера интересней, чем я, лицом, красота у него какая-то благородная. Меня слова эти, честно говоря, неприятно задели, но брату я не завидовал, слишком мы были разными. Если меня полжизни носило по стране, пока я не осел в Москве, то Валера всю жизнь проработал на одном месте на химическом заводе в нашем районном городке Уварове старшим аппаратчиком. Работал бы там и сейчас, если бы завод не остановили реформаторы, а всех рабочих не отпустили в бессрочный отпуск без сохранения заработной платы. Женился он сразу после армии на легкомысленной и ветреной девчонке, которая любила легкую веселую жизнь, застолья, гулянки, мало думала о доме, о семье. Сын родился у них довольно быстро. Потом появилась дочь. Лет пятнадцать Валера терпел беспечную жизнь жены, пока не узнал о ее романе со знакомым шофером. Они разошлись.
Женщинам Валера нравился, поэтому после развода он не был долго один. Почти в каждый свой приезд из Москвы в родные края я заставал брата с новой женой. В те дни, когда я подыскивал среди друзей себе попутчика на Канары, Валера приехал в Москву развеяться после разрыва с очередной женой. Все эти разводы он воспринимал с иронией, посмеивался над собой, особенно не переживал. Я думаю, что давались они ему легко.
Валера ни разу не был за границей, и мне пришла в голову шальная мысль: предложить ему слетать со мной на Канары. Он согласился.
В аэропорту острова Тенерифе я взял машину на прокат, и мы покатили в клуб. Я чувствовал, что Валере приятно сидеть в новенькой машине, мчаться по прекрасной дороге по побережью. Он улыбался, глядел на спокойный солнечный океан, на скалистый берег, и я стал смотреть вокруг его глазами, глазами свежего человека, для которого все ново. До Канарских островов мы с Таней побывали во многих странах, пересекли всю Америку на машине от океана к океану, бывали в Мексике, всю Европу исколесили. Видели более экзотические места, потому-то, думаю, Тенерифе и не произвел на нас особого впечатления. А Валера нигде не был. Когда я представил себя на его месте, то вдруг даже пыльные заросли кактусов вдоль дороги на склонах холмов показались мне прекрасными, правильный серо-коричневый конус вулкана Тейде вдали, с зацепившимся за вершину серым облачком, увиделся таинственным и очаровательным, а небольшие поселки рыбаков, при‑ лепившиеся к скалам на берегу, необыкновенно романтическими.
— Представляешь, когда-то здесь стояли пиратские корабли! — взглянул на меня брат блестящими глазами, указывая на бухту, мимо которой мы проезжали.
Он показался мне в тот миг похожим на подростка, и я не удержался, засмеялся, кивнув:
— Ну да, — и добавил с улыбкой ему в тон, — чего только эти берега не повидали.
Ослепительно белые на солнце угловатые домики клуба; чистенькие дорожки, вдоль которых в черной земле, похожей на угольный шлак, росли необыкновенные тропические растения и цветы; белые каменные стены невысоких заборов сплошь увитые цветущими растениями; наши тоже белые внутри апартаменты — восхитили его. Он заглянул в холодильник, пооткрывал дверцы всех многочисленных шкафчиков, удивляясь тому, что даже посуда есть, потом включил телевизор, потрогал, покачал рукой матрас на застеленной белым покрывалом широченной кровати.
— Как чистенько, как бело все! — проговорил он и воскликнул, глядя в окно: — Смотри, океан видно! Какой он необыкновенно голубой на фоне белых домов!
Я вспомнил, как Таня фыркнула, войдя впервые в апартаменты и увидев, что это всего-навсего комната метров пятнадцать, заставленная многочисленной мебелью:
— Ну и апартаменты! Я думала тут черт знает что, а это обычный гостиничный номер…
Валера вышел на балкон, большой, чистый, с шезлонгами и круглым пластмассовым столом.
— На море, на море! — запел брат. — Море скучает без нас… Пошли поплаваем, — повернулся он ко мне.
— Я не хочу, чтобы ты в первый же день инвалидом стал. Вещи разберем и поплаваем в бассейне.
— Какой бассейн! Когда океан рядом. Я не сумасшедший!
— Если ты тут, — указал я в окно, — полезешь в воду, тебя именно за сумасшедшего примут. Только сумасшедший по таким камням полезет здесь купаться. Пляж подальше. Мы туда еще успеем…
Мы разобрали сумки, повесили вещи в шкаф и прямо в плавках, с полотенцами через плечо пошли в бассейн, где всегда плескалось, плавало несколько человек. Голубая прозрачная вода, белые пластмассовые лежаки и шезлонги на берегу под пальмами и широкими банановыми листьями, ресторанчик со столами возле воды, креветки с прохладным чудесным пивом, бильярдные столы возле воды — все приводило брата в восторг.
— Живут же люди! — покачивал он головой, отрываясь от кружки с пивом.
— Не живут, а отдыхают, — поправлял я с видом бывалого человека. — Живут они где-нибудь в скучной Европе.
В этот же день мы съездили на пляж, потом побывали в аквапарке Октопус, где, как дети, резвились, с визгом летали на спинах по мокрому пластмассовому желобу с высоченных горок в бассейн, прыгали с вышек. Вечером долго сидели в нашем ресторанчике на берегу бассейна, слушали, как тягуче и томно перекликаются цикады, смотрели, как черно возвышается на полнеба среди ярких южных звезд вулкан Тейде, на склонах которого мигали, переливались огоньками многочисленные поселки местных жителей, играли в бильярд. В бассейне, вдали от нас, все время забавлялась, резвилась юная парочка, все время слышался легкий плеск воды, смех, счастливое повизгивание. Освещенная фонарями изумрудная вода тихонько колебалась, поблескивала. Я чувствовал непонятную сладкую грусть, легкую хмель от вина, хотелось, чтобы эта ночь тянулась бесконечно. Мне почему-то казалось, что то же самое испытывает Валера. Я радовался, что приехал сюда с ним.
Утром я повез его показывать остров: вулкан, с потоками застывшей лавы, с огромными валунами, с безжизненным выгоревшим полем, до самого горизонта без единой травинки, без единого кустика, напоминающим лунный пейзаж; знаменитый парк попугаев, весь утопающий в зелени, с прекрасным дельфинарием. Потом погуляли по улицам столицы острова Санта-Крус-де-Тенерифе. Обедали в рыбачьем поселке Лос Абригос, в рыбном ресторане. Я заказал самые, на мой взгляд, экзотические блюда: лангуст, осьминога, устриц. Он попробовал на вкус порезанные щупальца осьминога и заключил:
— Наш рак лучше… — потом с отвращением указал на распахнутые перламутровые раковины устриц. — И ты эту гадость есть будешь?
— И ты будешь!
— Я не утка.
В детстве мы собирали в речке ракушки и кормили уток.
— Деликатес, — засмеялся я.
— У нас в речке этот деликатес пожирнее будет… Хотя б сварили, а то живьем…
Он, ехидно ухмыляясь, смотрел, как я выковыриваю ножом из раковины живое мясо устрицы и закусываю им водку. Наконец соблазнился, покушал.
— А под водочку ничего идет… — и засмеялся. — А я боялся, что дома скоро нечего будет есть, зарплату не дают. Вернусь, этим деликатесом питаться буду. У нас им все речки забиты…
Вечером свозил я брата в Экзит-Палас в городе Плайа де лас Америкас на национальные испанские танцы фламенко. С каким восхищением и восторгом смотрел брат на сцену, где, как огонь, полыхала танцовщица. Он забыл о вине, еде, которой был заставлен стол перед нами, не сводил глаз со смуглой испанки с гладко зачесанными назад жгуче-черными волосами с высоким бантом на затылке. Как гибко, как игриво-изысканно изгибала она свой тонкий стан в быстром танце под звучную испанскую музыку, как невесомо и грациозно вскидывала руки, играла пальцами, будоража сердце ритмичным стуком кастаньет! Как, приостанавливаясь, легко и звучно прищелкивала, стучала каблуками и вдруг игриво и изящно отбрасывала ногой широкое длинное платье с многочисленными оборками, резко вздымала их вверх, показывая на миг белые нижние юбки!
— Как хороша, как она хороша! — восхищенно шептал брат, не сводя глаз со сцены. Он как-то весь подался вперед, словно взлететь был готов и оказаться на сцене рядом с игривой и гордой испанкой. Пройтись вокруг нее, подняв руки и напружинив грудь, щелкая каблуками и кастаньетами. Мне показалось, что он представляет себя ее партнером в танце. Это он кружил по сцене, вытянувшись, как стрела, подбоченясь одной рукой, а другую полукругом держа над гордой головой, прищелкивая, притопывая быстро-быстро и не сводя с нее глаз. Брат не прикасался к еде, когда она танцевала. Ел, пил только тогда, когда танцоры отдыхали, а на сцене работали иллюзионисты или пел песни высокий длиннолицый негр.
После концерта мы снова сидели около бассейна в нашем ресторанчике. Брат был грустен, необычно молчалив, много пил.
— Устал, домой потянуло? — спросил я. — Ностальгия?
— Кто там меня ждет, — грустно отмахнулся брат и вздохнул: — У меня все стоит перед глазами танец ее рук, пальцев, взмах ноги, подбрасывающей платье, а в ушах — звук кастаньет, каблучков! Как она хороша!
— Ты все о танцовщице думаешь? — удивился, усмехнулся я. — Хороша Маша, да не наша!
Накануне вылета в Москву мы поехали в знаменитый замок Сан-Мигель посмотреть на средневековый рыцарский турнир. У входа в замок было уже многолюдно. Над толпой возвышались два всадника в рыцарских доспехах, в круглых блестящих шлемах с закрытыми забралами, в длинных голубых плащ-накидках. Кони закрыты такого же цвета легкими попонами. Брат вдруг заторопился к ним, глаза его почему-то возбужденно загорелись. Быстро пробрался к всадникам и, не обращая внимания на рыцарей, стал любовно поглаживать круп коня, потом подошел к его морде, снял длинную косицу гривы с глаза, похлопал ладонью по белой звездочке на лбу. Конь дружелюбно и приветливо качнул головой, словно встретил старого знакомого.
— Отличный коняга! Вот бы на нем проскакать сейчас!
Я вспомнил, что брат три с половиной года служил под Москвой в кавалерийском полку, который, как я думаю, никакой военной силы не представлял, только снимался в исторических фильмах. В молодости Валера гордился тем, что участвовал в киносъемках. Не пропускал ни одного такого сеанса в Уваровских кинотеатрах, несколько раз чуть ли не силой тащил меня посмотреть «еще разочек его фильм». Когда на экране появлялась скачущая конница, возбужденно дергал меня за рукав, кричал:
— Смотри, смотри, вон я, вдали! Видишь!.. Сейчас упаду, упаду!
Узнать брата в летевшей лаве всадников, а тем более на заднем плане, было невозможно. Тарахтели пулеметы, вздымалась земля от взрывов. Всадники один за другим летели на землю, кувыркались через голову, падали кони в пыль.
— Видел, видел! — спрашивал Валера.
— Да, да, — подтверждал я, чтоб не обидеть его.
— Закончишь свой ВГИК, непременно напиши сценарий исторического фильма. Я такие трюки на коне могу показать, любой казак позавидует, — хвастался он. — Как-никак три с лишним года в седле провел…
Каждому входившему в замок зрителю выдавали бумажную корону и передник, широкую полоску ткани с прорезью для головы. Их предлагали сразу надеть на себя. Внутри замок представлял собой длинный стадион, разбитый на секции, со скамьями, поднимающимися вверх. Перед скамейками — длинные грубые деревянные столы, на которых уже стояли высокие бутылки с красным и белым испанским вином, кружки и неизменные кока-кола и фанта. Проход между столом и нижней скамьей широкий. По нему потом будут на тележках развозить еду. Посреди стадиона длинная арена, засыпанная песком и отделенная от зрителей деревянным барьером. С одного торца — кирпичная стена, на которой висели щиты, мечи, копья, плети, цепи и широкий проем с темно-зеленым занавесом, откуда будут выскакивать всадники. На другом торце на высоте второго этажа была королевская ложа с открытым белым занавесом. В ложе все сверкало золотом. Оба трона с высокими резными спинками пока пусты. Стол перед ними накрыт бордовой скатертью, на ней бутылки, тарелки. Рассаживали нас по секциям по цвету передников, которые у всех были разные. Нам достался темно-синий цвет. Я знал по прошлому посещению замка с Таней, что все рыцари будут в разных по цвету плащах. Наша секция должна будет болеть за темно-синего рыцаря. Мы с Валерой заняли места во втором ряду.
Зрители еще шли, а некоторые секции уже начали что-то кричать, свистеть, что-то дружно скандировать, выкрикивать, орать песни. Ими снизу от барьера дирижировал какой-то человек. Стало шумно.
— Наливай! — крикнул я брату и взял бутылку. — Три часа такой ор стоять будет!
Грянула музыка, и из проема в стене показался первый всадник на белом коне. Брат отставил кружку с вином, весь вытянулся навстречу коню, который, танцуя стройными ногами, величаво выгнув голову с белой гривой, бочком поплыл по песку в сторону королевской ложи. Рыцарь, в шлеме, в доспехах, в черной накидке, сидел как влитой, словно он был с конем единым целым. Раздались аплодисменты: в ложе показались король с королевой. Оба в коронах, в малиновых мантиях, расшитых золотом. Поклонились зрителям, уселись на тронах. В это время рыцарь на белом коне подплыл к ним и низко склонил голову в шлеме.
Рыцари в разного цвета накидках и платьях под доспехами один за другим выезжали на арену, неторопливо, важно шагали по всему залу к ложе, приветствовали короля с королевой и поворачивали коней каждый к своей секции по цвету накидки поклониться болельщикам, которые встречали рыцарей аплодисментами и дружным криком. Мы с братом, подогретые вином, тоже не жалели глоток. Наш рыцарь оказался коренастым, крепким, ловким испанцем, лобастым, с короткими темными волосами и большими залысинами. Лицо, темное, круглое, светилось легкой иронией, уверенностью. Черные глаза жестко и нагло блестели при свете. Он поднял вверх меч, приветствуя нас.
— Турнир начинается! — Объявили на нескольких языках, в том числе и на русском.
— Смотри-ка! — радостно крикнул мне на ухо брат.— И на нашем!
— Здесь полно русских! — ответил я.
Вначале рыцари каждый в отдельности показывали нам свое мастерство наездников: срубали на скаку мечами подвешенные кольца, на скаку метали копья в большой деревянный брусок с мишенью. Нас в это время угощали мамалыгой в деревянных чашках, потом выдали каждому по целой жареной курице. Мы ели, пили, кричали. Восторженно орали после удачных трюков, оглушительно освистывали промахи. Рыцари нам подыгрывали, притворно злились, грозили чужим болельщикам кулаками, когда их освистывали. В них в ответ кидали обглоданными куриными костями. Захмелевший Валера тоже свистел, ругался, кричал «сапожники!», когда что-то не удавалось у рыцарей. Я хохотал над ним. Наш рыцарь был особенно удал, ловок, зол. После одного удачного трюка король угостил его вином. Выпив, он вдруг остаток вина выплеснул в лицо одному из рыцарей, который в тот момент оказался рядом с ним.
И тут произошло то, что я никак не мог ожидать. Если бы я мог подумать об этом, я бы непременно удержал брата, и не произошла бы эта ужасная история.
Рыцари стали по очереди выполнять следующий трюк. Они должны были на полном скаку, держа копье в руке, попасть острием в колечко, подвешенное над ареной на ленточке, нанизать его на копье и сорвать. Наш темно-синий рыцарь, до этого отлично выполнявший все трюки: на всем скаку метко бросал копье в мишень, на скаку поднимал ленточку с земли, — на этот раз промахнулся, не попал в кольцо, проскакал мимо. Зал взорвался свистом. Рыцарь сделал огорченное лицо и понуро вернулся, остановился возле нашей секции, глянул на нас, своих болельщиков, с надеждой, как бы ища у нас поддержки. Но мы тоже свистели, недовольные им, кое-кто из первого ряда плеснул в его сторону вином из кружки, кто-то сверху кинул куриную кость. Тогда рыцарь зло блеснул жесткими глазами, сделал вид, что рассердился на нас, спрыгнул с коня, подвел его к барьеру, протянул в нашу сторону поводья и что-то недовольно крикнул. Мол, попробуйте сами, а потом свистите. И в этот миг Валера вскочил на скамью, потом на стол, прыгнул через проход на спинку нижней скамьи, на чужой стол, на барьер, выхватил из рук рыцаря поводья, сильно толкнул его в грудь так, что тот от неожиданности рухнул навзничь на песок. Брат вскочил на коня, вздыбил его. Конь прыжком рванулся к стене с оружием. Все это произошло в один миг. Зал онемел на секунду, потом ахнул, взорвался диким ревом восторга. Я похолодел от ужаса, протрезвел сразу, прилип к скамейке, не зная, что делать. А брат подскакал к стене, сорвал копье, развернулся и полетел к кольцу, держа копье в поднятой вверх правой руке. Рыцарь вскочил на ноги и бросился ему навстречу, попытался схватить коня под уздцы. Но Валера промчался мимо, ни чуть не задержавшись, нанизал кольцо на копье, подскакал к королевской ложе, взмахнул снизу вверх копьем. Кольцо с ленточкой сорвалось с него и полетело в ложу. Король поймал его на лету и поднял над головой, показывая зрителям. Зал ревел от восторга. А к брату уже бежало несколько человек в униформе. Валера снова развернул коня, дернул поводья и полетел назад, держа копье над головой. Он взмахнул им, швырнул в мишень. Копье воткнулось в него. У противоположной стены на брата налетело сразу несколько спешившихся рыцарей. Они стащили его с коня. Валера упал в песок, но как-то сумел вывернуться из их рук, вскочил, побежал к барьеру в мою сторону. Но его снова сбили в песок и потащили к стене, к проему. Я кинулся ему на помощь. Но дежуривший около нашей секции охранник в униформе, бросился на меня сзади, обхватил руками и сильно придавил к деревянному барьеру так, что я шевельнуться не мог. Я с тоской смотрел, как рыцари чуть ли не волоком утаскивают брата с арены. Зал ревел, многие зрители стоя размахивали, крутили над головами свои передники. Охранник, видя, что я не дергаюсь, не сопротивляюсь, ослабил натиск, взял за локоть и повел к моему ряду, что-то говоря. Потом указал рукой на мое место. Я послушно пробрался по ряду к своему столу, сел и стал глядеть на занавес, на проем в стене, куда утащили брата, надеясь, что он вскоре появится. Я не слышал страшный рев зала, с тоской думал, что брат влетел минимум на полгода за хулиганство. За счастье приму, если его только оштрафуют. Пусть на кругленькую сумму, пусть! Лишь бы выпустили. Не отпустят, как я его буду искать, ведь я ни слова по-испански не знаю. Влипли, ну влипли!
Зал успокаивался потихоньку, представление продолжалось. Но мне было не до рыцарского турнира, не до еды, не до питья. Я все поглядывал на проем. Охранник стоял возле моего ряда, и как только я подозрительно шевелился, тут же поворачивал ко мне свое строгое лицо.
Брат появился не оттуда, откуда я его ждал. Он спустился сверху, быстро прошел мимо охранника и, широко улыбаясь своей наивной сияющей улыбкой, улыбкой подростка, хорошо и удачно пошутившего среди взрослых, стал пробираться ко мне.
На сердце у меня отлегло немного: отпустили, хоть искать не придется.
— Ты с ума сошел! — встретил я его сердито.
— Сошел, сошел, — быстро ответил он и улыбнулся соседям, которые смотрели на него с восхищением и восторгом. — Наливай! — И сам взялся за бутылку вина, разлил остатки в кружки. Потом поднял пустую бутылку, показал охраннику и пощелкал по ней пальцем.
Тот спокойно кивнул, подозвал официантку и что-то сказал ей, указывая глазами в нашу сторону.
— Ну, ты и наглец! — покачал я головой. Сердиться на него расхотелось.
— Как будто ты не знал, — радостно хохотнул он.
К нему потянулись чокнуться соседи, и он радостно подставлял им свою кружку.
— Рассказывай, штрафанули? — спросил я, когда мы выпили.
— Хуже, — взялся он за курицу. — Работать предложили…
— Брось…
— Без балды, — рвал он курицу зубами.
— Ну да, — усмехнулся я недоверчиво.
— Хочешь — верь, хочешь — не верь, а я согласился. Завтра выхожу на работу, — спокойно сказал брат и взял новую полную бутылку вина из рук официант- ки. — Вот так!
— И что ты будешь делать? — Я все еще не верил ему.
— Жрать курицу, пить вино задаром на этом месте… Еще по кружечке? — Спросил он у меня, указывая глазами на бутылку. — Впрочем, тебе рулить. Смотри, не перебери!
— Полкружечки можно… — Пододвинул я к нему свою кружку и съехидничал. — И вся работа?
— Нет, когда тот придурок, — кивнул он в сторону нашего рыцаря, который на арене рубился мечом так, что искры летели, — предложит попробовать вместо него, я, как сейчас, должен вскочить в седло и сорвать кольцо. Только и делов…Ты же видел, как народу моя проделка понравилась. За эти пять минут обещают пятьдесят долларов и бесплатное жилье, не считая курицы и вина, — щелкнул он пальцем по бутылке.
— Ты же ни одного испанского слова раньше не слышал, — начал я верить в правдоподобность его слов.
— Если надо, выучу, это чепуха… — беспечно ответил он и засмеялся. — Самое интересное вот что: меня обязали матом кричать, когда я буду скакать с копьем, для убедительности. Говорят, что здесь полно русских… Поработаю немного, а там, глядишь, в Уварове завод пустят, вернусь в аппаратчики. Все равно дома сейчас делать нечего…
Мне пришлось одному лететь в Москву. Дня через три он позвонил, сказал, что хозяин рыцарского турнира снял ему однокомнатную квартиру неподалеку от замка Сан-Мигель. Она получше моих апартаментов в клубе. Начал изучать испанский язык: не такой он уж сложный. Оставил мне свой телефон. Недели через две я ему позвонил, чтоб узнать, как дела, все ли в порядке.
— Прекрасно! — ответил он. — Познакомился-подружился с одним русским парнем, переводчиком… На работе порядок. Тренируюсь с рыцарями… Кое-чего свое предложил хозяину. Ему понравилось.
— А с испанкой еще не познакомился? — пошутиля.
— И это есть! — засмеялся он, но тему не поддержал.
Я успокоился, решил, что брат не пропадет. Если будет сложно, позвонит, вышлю денег на билет. Не проблема. И честно говоря, я забыл о нем, закрутился. В издательстве начались сложности. Не до него. Перезванивались мы, наверно, не чаще одного раза в месяц. Разговор шел примерно так: привет. Привет. Как дела? Нормально. Ну, и слава Богу! Мы и раньше никогда не вдавались в личные дела друг друга.
Прошло полгода. Вдруг звонок из Тенерифе ко мне на работу. Говорит мужчина. Представляется: Виктор Нефедов, друг Валеры.
— Что случилось? — испуганно спросил я, догадавшись, что это тот переводчик, о котором не один раз упоминал брат.
— Срочно вылетай сюда.
— Что с Валерой? — кричу я в трубку.
— Жив он, не волнуйся. Но нужно его забрать отсюда…
— Что с ним случилось? Где он?!
— В больнице… Его ударили ножом… Не волнуйся, не опасно, он в сознании. Врачи говорят, что через неделю выпишут. Поэтому срочно вылетай сюда!
— Он что, сам передвигаться не может!
— Может, может, — успокоил меня Виктор. — Но его нужно срочно отсюда вывезти!
— А сам он не может вылететь? Посади его в самолет, я встречу. Если деньги нужны, я сейчас же вышлю. Говори, сколько?!
— Деньги у него есть…
— В чем же дело, — не понимал я. — Канары не Тамбов, куда можно через час сесть на самолет и прилететь. Визу в Испанию дней десять оформлять надо. Растолкуй, зачем я там нужен? Почему ему самому нельзя прилететь?
— Сам он не полетит. Это точно!.. Почему?.. Долго рассказывать! Если ты хочешь, чтобы твой брат был жив, прилетай, немедленно прилетай! Пусть через десять дней, но прилетай. Записывай мой телефон. Купишь билет, звони!
Я записал его телефон и помчался в испанское посольство.
Виктор встретил меня в аэропорту Тенерифе на своей машине. Он оказался высоким, худощавым, энергичным на вид парнем, лет тридцати пяти.
— Валера в больнице? — сразу спросил я.
— Выписали вчера. Дома. Кстати, имей в виду, он не знает, что я тебе звонил, не знает, что ты прилетел.
По дороге Виктор рассказал мне, что Валера познакомился с одной танцовщицей, увлекся ею.
— Как у них получилось, — говорил Виктор, — не знаю, не понимаю… Я два года живу здесь, испанским, как русским, владею, и за два года ни одного даже легкого романчика не было. Так, на бегу, встретились — разбежались!.. А он без языка совсем — и вдруг такая взаимная страсть! Она раньше встречалась с артистом одним, он в замке рыцаря по вечерам играет…
— Коренастый такой, коротко стриженый, с залысинами! — перебил я. Ловкий, лобастый рыцарь с ироничным лицом и жестокими наглыми глазами явственно предстал передо мной.
— А ты откуда его знаешь? — удивился переводчик.
— Видел. А дальше?
— Она, конечно, по боку своего рыцаря. Валера тоже, как в омут головой. Фелипе, этот рыцарь незадачливый, рвать и метать, всеми силами тянуть ее к себе. Она, видно, голову совсем потеряла, ни в какую. Тот грозить — зарежу, то ей, то ему!.. Ох, что было однажды на арене в замке. Они чуть друг друга прилюдно мечами не порубили. Он Валере подбородок рассек, а тот Фелипе мечом по лысине шарахнул. Кровищи у обоих — страсть! Еле растащили…
— Почему — мечами? — удивился я. — Валера другую роль играл. Он должен был всего лишь копьем кольцо снимать!
— Ну да, кольцо… Он уж через месяц стал полноценную роль рыцаря играть. Такое выделывал… Кончилось тем, что их не стали на арену выпускать в один вечер, боялись — порубят друг друга. А две недели назад Фелипе встретил их вечером у Экзит-Паласа после концерта и пырнул ножом Валеру. Как говорят свидетели, Фелипе хотел убить танцовщицу. Сначала он будто бы что-то говорил ей резко, потом бросился на нее с ножом. Валера успел, оттолкнул. Они схватились. Машины там кругом, развернуться негде, ну и Фелипе ножом ему в живот. Валера согнулся от боли, а тот ему нож в спину воткнул и в суматохе скрылся.
Я содрогнулся, представив скрючившегося брата с прижатыми к животу руками и с ножом в спине.
— Поймали того?
— В том-то и дело, что нет… Я тебе не сразу позвонил. Надеялся, что Фелипе поймают, а во-вторых, думал, что сам уговорю Валеру уехать с острова хотя бы на месячишко, ждал, когда оклемается. Честно говоря, ему повезло — нож не задел у него ни одного важного органа. Я три дня уговаривал Валеру улететь — слушать не хочет… Надеюсь, ты уговоришь. Иначе Фелипе все равно подстережет их, зарежет. Это как дважды два!
— Может быть, Фелипе давно уж удрал с остро- ва?— с надеждой спросил я.
— Полиция тоже так думает… Я убежден — здесь он! Отсиживается где-нибудь у знакомых. Как уляжется шум, выползет и зарежет. Потом удерет на каком-нибудь рыбацком суденышке… Надо уговорить Валеру, непременно уговорить…
— А как же танцовщица? Что с ней будет?
— Без Валеры он ее не тронет. Узнает, что тот улетел, и помирятся… Такова жизнь!
Виктор остановил машину около подъезда белого пятиэтажного дома с выступавшими большими балконами, с которых свисали цветы, особенно яркие на белом. Мы поднялись на второй этаж. Открыла нам дверь смуглая женщина в небесно-голубом платье и со жгуче-черными волосами, подавшими на ее голые смуглые плечи. Меня поразила ее необыкновенная красота, особенно живые черные глаза, и я подумал, что мы ошиблись дверью. Но женщина тихо, не размыкая губ, улыбнулась Виктору, как старому знакомому, и посмотрела на меня вопросительно и удивленно, и вдруг лицо ее озарилось широкой улыбкой, блеском ослепительно белых зубов, отчего лицо ее стало еще краше, очаровательней, и мне показалось, что где-то я видел ее. Она что-то быстро спросила у Виктора. Тот кивнул, и она вдруг обняла меня, прильнула к груди на миг своим гибким тонким телом.
— Она узнала тебя, — ответил Виктор на мой вопросительный взгляд.
Женщина отстранилась от меня, крикнула что-то вглубь квартиры по-испански и рукой пригласила нас войти. Из комнаты донеслись мягкие шаги, и появился брат в широкой белой майке. Резко бросилась в глаза его худоба, необычная смуглость лица. Жалость, нежность сдавили меня, и я быстро шагнул к нему, намереваясь обнять. Но он выставил ладони навстречу, быстро говоря:
— Осторожней, осторожней! — и сам тихонько обнял меня. Я ощутил сквозь майку бинты, туго стянувшие его грудь. — Как ты здесь оказался?
— Отдохнуть приехал!
— Один? Без Тани? А как ты меня нашел? Почему не звонил?
— Звонил, и не раз, но у тебя глухо, как в танке… Виктору позвонил, он сказал, что ты в больнице. Спасибо ему, встретил меня, привез… — Я говорил нарочно ворчливо и грубовато, чтобы скрыть охватившие меня сентиментальные чувства.
— А как ты телефон Виктора узнал? — недоверчиво смотрел на меня брат, отстранившись.
— Ты же сам дал, еще полгода назад.
— Не помню, не помню… Ну, ладно… — Он взглянул на женщину, улыбнулся какой-то незнакомой мне особенно нежной улыбкой и спросил у меня: — Не узнаешь?.. Знакомься… Адела! Моя Кармен! Помнишь, Экзит-Палас? Там Амур подстрелил меня своей стрелой…
Я не удержался, засмеялся необычным словам аппаратчика уваровского химзавода, и вспомнил, увидел на сцене Экзит-Паласа гибкую, тонкую, гордую женщину с грациозно вскинутыми вверх руками, игру ее пальцев, взмах ноги, откидывающей широкое платье, услышал музыкальный стук кастаньет, прищелкивание каблучков. Валера что-то сказал Адели по-испански. Она, сияя улыбкой, ответила, быстро произнося слова. Брат перевел мне:
— Она говорит, что сразу узнала тебя по фотографии на твоей книге.
Адела еще что-то сказала и показала рукой на кресла.
— Предлагает сесть. Спрашивает, почему мы стоим… Сейчас она нам вина принесет, бутерброды, а обедать пойдем в ресторан.
— Ты, я смотрю, по-испански во всю шпрехаешь!— похвалил я его. — Я поражен!
— Да нет, так, немного на бытовом уровне. Больше догадываюсь, чем понимаю. Впрочем, испанский не такой уж сложный язык. Когда все время слышишь, быстро понимать начинаешь, а у меня все дни свободны. Работа вечерняя… Учи да учи!
Виктор Нефедов не поехал с нами в ресторан. Мы сели в машину Валеры, новенький рено «Меган». Брат похвастался, что купил ее всего месяц назад. Ни меня, ни Аделу за руль не пустил. Сам сел.
В ресторане Валера с Аделой долго неторопливо читали вслух меню, тихонько переговаривались. И такая сдержанная нежность сквозила в их голосах, что, казалось, они произносили не названия блюд, а говорили друг другу слова любви. На меня они совершенно не обращали внимания, будто бы меня не было. А я невольно любовался ими, так они были хороши! Я не узнавал брата: он резко изменился всего за семь месяцев. В его движениях, осанке, походке появилось необыкновенное достоинство, уверенность, что-то аристократически тонкое, благородное, изысканно-неуловимое, невыразимое словом. Вряд ли бы кто признал в нем крестьянского сына. Да и лицом он изменился: загорел под постоянным Канарским солнцем, посмуглел, стал суше. Мне вдруг почему-то стало неловко наблюдать за ними, я почувствовал смущение, какой-то стыд, будто невольно подслушал чужую интимную беседу, и отвернулся, стал смотреть вокруг. Ресторан был на набережной, на высоком берегу. Мы сидели на открытой площадке. Слева раскинулся сад из кактусов, разных и по сорту, и по возрасту. Некоторые росли на толстых четырехгранных ножках с раскидистой густой кроной из таких же, как ствол, четырехгранных веток, а другие были похожи на факел, где в центре над острыми, как длинные лезвия кинжалов, густыми листьями полыхали белым пламенем высокие цветы. Чуть дальше высоко тянулись вверх длинные пальмы, серые гладкие и морщинистые стволы которых походили на кожу слона. Внизу был пляж с многочисленными зонтами с серыми камышовыми крышами, синело море, по которому туда-сюда сновали катера и лодки, оставляя позади себя длинные белые следы. Большой катер тянул за собой на тросе парашют с ярким разноцветным куполом, под которым висел, летел над водой человек.
— Не пробовал ни разу? — спросил Валера, заметив, что я смотрю на парашют.
— Нет…
— А я летал… Здорово.
Вечером мы с Валерой сидели в Экзит-Паласе за столом, неторопливо пили красное вино, смотрели, как Адела на сцене пылает в любовной страсти, и разговаривали.
— Я не писатель, — говорил Валера, — я не могу высказать словами, что я чувствовал, как жил эти семь месяцев, точнее, шесть… Я не сразу с Аделой познакомился… Сказать, что я был счастлив, что я счастлив сейчас, значит, ничего не сказать. Счастье, наверно, слишком слабое слово, чтобы выразить то, что я чувствую постоянно. С утра до ночи я испытываю одну только радость, с утра до ночи душа моя поет одну песню, одно слово: Адела, Адела, Адела! На разные голоса, на разный мотив, но одно слово: Адела! Эта песня, эта радость заглушает все мои чувства. Я забыл, что такое грусть, печаль, скука. Адела всегда со мной, даже если ее нет рядом. Иногда мне кажется, что я сошел с ума.… Ну и пусть, пусть! — говорю я себе.… Не помню, кажется, я где-то читал, то ли говорил кто, что любовная страсть это временное умопомешательство, временное… Но у меня нет большего желания, как жить до конца с этим умопомешательством, чтобы, не дай Бог, я не выздоровел… Раньше со мной никогда подобного не было, я подозревать не мог, что такое бывает. Рассказал бы кто, не поверил… Ты понимаешь меня? Было ли у тебя что-нибудь подобное?
Я кивнул, вспомнив жену, и тихо сказал:
— Было, с Таней…
— Сколько вы уже вместе?
— Скоро пригласим тебя с Аделой на серебряную свадьбу.
— Почему ты ее сюда не взял? — спросил он о Тане.
— Валера, я ведь за тобой приехал…
— Как это?
— Приехал уговаривать, чтоб ты покинул Канары… хотя бы на время…
— Значит, тебе Виктор позвонил.
— Он твой настоящий друг.
— Ну что ж, давай, уговаривай, — изменил тон Валера.
— Язык не поворачивается… Впрочем, вы могли бы вместе месячишко пожить в России.
— Где? В Уварово? В моей холостяцкой комнатушке в облупленном семейном общежитии? Ты говоришь, у тебя воображение хорошее: так вот, представь Аделу, — указал он на сцену, — в моем общежитии!
Я засмеялся.
— Прекрасное виденье!.. — Потом сказал другим тоном. — Можно в Москве пожить, свозить ее в Питер… Деньги, как я понял, у тебя есть… Могу добавить.
— Адела мечтает побывать в России, и я непременно свожу ее туда либо летом, либо осенью, когда будет погода хорошая. А сейчас март, в Москве грязь, слякоть, холод, то снег то дождь, не мне тебе рассказывать… Какие впечатления оставит у нее Россия?.. Я этого не хочу!
— Но пока Фелипе не поймали, покоя вам не будет. Он не отстанет от вас…
— Ну да, испугался я Фильки, весь дрожу!.. Я его вот этими руками придушу, если он еще раз встретится нам на пути!
Через день я улетал. Поплавал в океане, погрелся на солнце на песке. Валера с Аделой уговаривали меня еще денька два отдохнуть, но непростые дела в издательстве звали в Москву. В аэропорту я со снисходительной улыбкой замечал их нежные взгляды, которыми они обменивались, прикосновения, блеск ее черных глаз. Каждый раз, когда Адела взглядывала на меня, я почему-то чувствовал смущение, неловкость, словно я подсматривал за ними. Мне радостно было смотреть на их любовь, на их счастье до умиления, до некоторой зависти, и в то же время беспокойство, тревога за них не покидала. Улетал я с грустью, улетал, не зная, что всего через месяц мне придется вновь приземляться на этой земле.
Вызвал меня снова Виктор Нефедов. На этот раз говорил он со мной как со старым знакомым, коротко и без обиняков:
— Вылетай, Валера в тюрьме!
— Убил Фелипе!!— обожгло меня.
— Да…
— А Адела? — выдохнул я.
— Ее больше нет…
Не сразу мне разрешили встретиться с братом в тюрьме. Помог консул.
Когда Валеру привели в комнату для свиданий, я не узнал его. Почернел, осунулся, сгорбился, глаза впали, щеки в серой щетине. Куда делась осанка, достоинство? Сплошная тоска, скорбь. Он припал ко мне, худой, легкий, и прошептал:
— Я не сберег ее, не сберег… не защитил… — Спина его задрожала под моими руками.
Я уже знал, как все произошло. Фелипе подстерег их среди бела дня возле ресторана. Когда Валера открыл дверь машины перед Аделой, и она наклонилась, чтобы сесть, Фелипе налетел на них неожиданно и ударил ее ножом в левый бок, прямо в сердце. Валера кинулся на него, схватил за горло, сбил с ног. Фелипе пытался воткнуть нож в спину брата, но в предсмертных конвульсиях сумел только порвать сорочку да порезать кожу в нескольких местах. К ним подскочили люди, стали разнимать. Никак не могли оторвать Валеру от Фелипе.
Я обнимал, гладил брата ладонью по спине и приговаривал машинально:
— Ты защитил ее, ты отомстил, ты убил его, ты поступил, как мужчина, ты защитил ее…
Что я еще мог сказать, чем утешить его?
Когда мы прощались, я сказал ему:
— Я горжусь тобой, брат!
Суд оправдал его, посчитал, что Валера, защищаясь, не превысил предела самообороны. Но вида на жительство в Испании его лишили, отправили в Россию.
С тех пор прошло три года. Химзавод в Уварово так и не пустили. Но Валеру больше это не заботит: ему недавно стукнуло пятьдесят лет, и он оформил пенсию, так как всю жизнь работал на вредном производстве. Живет он все лето в деревне, с мамой. Каждое утро и вечер ходит на рыбалку, молча сидит часами с удочкой на берегу. Когда я бываю в Масловке, я тоже хожу с ним на речку. Сидим мы молча, не разговариваем. Я смотрю на брата, на этого начинающего сутулиться деревенского мужика, с седеющими, редеющими волосами, в старой засаленной телогрейке, в старых резиновых сапогах — на утренней зорьке прохладно на берегу, — смотрю и думаю: «Неужели этот человек на далеких Канарских островах на коне, в рыцарских доспехах, с мечом и щитом в руках сражался в замке на турнирах под восторженные крики зрителей? Неужели в этой груди кипели средневековые испанские страсти? Неужели эти заскорузлые теперь мужицкие руки обнимали, ласкали небесной красоты женщину? Разве этому кто-нибудь поверит? А верит ли он сам, помнит ли Аделу?» И я решил поговорить об этом, спросил сначала о чем-то постороннем, чтобы завести разговор, но он грубовато прервал меня:
— Тише, рыбу распугаешь!
А после того, как минут через десять он вытащил удочку из воды с голым крючком и обратился ко мне не глядя, нежно: — Адела, подай червячка! — и смутился, сам потянулся к консервной банке с червями, после этого я больше никогда не пытался заговорить с ним о Канарах.
Пермская обитель
Рассказ
— Нет, нет, — быстро возразил Олегу Вдовину отец Михаил и мягко улыбнулся. — В монастырь меня привела любовь! — И уточнил, вздохнул со светлой грустью. — Обычная земная любовь, земная страсть!
— Не может быть! — не удержался, невольно воскликнул Олег и со стуком поставил на полированный стол рюмку с водкой. Сидели они в небольшом кафе за маленьким столом на двоих. Вдовин поразился, как мог Алешка Каменев (так в миру звали отца Михаила) скрыть от него свою страсть, которая привела выпивоху, бабника, весельчака, преферансиста, одним словом, компанейского рубаху-парня, в монастырь.
— Неужели ты не догадывался? — глядел на Олега Вдовина с прежней тихой, мягкой улыбкой отец Михаил.
— Помню, что ты изменился после поездки в Пермь, крутился, когда я тебе звонил, звал в ЦДЛ посидеть за рюмкой, поболтать. Я уж решил, что ты за роман засел. Ну, думаю, скоро выдаст… Помнишь, ты поговаривать начал, что пора на прозу переходить… Да-а… По правде сказать, я был ошеломлен, когда узнал, что ты в монахи подался… Такой жизнелюб — и в монастырь! С ума сойти можно! Это не только меня поразило, многие друзья наши долго пошучивали в буфете ЦДЛа, что ты грехи свои тяжкие замаливать подался. Уж мы с тобой погрешили много, — засмеялся Олег, глядя на крупное, красивое лицо с широкой густой бородой отца Михаила. Наметившаяся проседь в темных волосах бороды, на висках делала его доброе лицо еще романтичней, притягательней, подумалось, что такому человеку приятно исповедоваться, легко делиться наболевшим. Отец Михаил был высок ростом, плечист, за те три года, что Олег не видел его, пополнел, еще шире раздался в плечах, но остался по-прежнему моложавым, ни единой морщинки не было на его лице. Выглядел он эдаким добродушным богатырем, таким, вероятно, был легендарный монах Пересвет. Вдовин заметил, что после его слов о грехах отец Михаил опустил глаза, смутился, поскучнел. Вероятно, он подумал, что Олег, захмелев, начнет вспоминать какой-нибудь буйный эпизод из шальной молодости, испортит встречу.
— Возьму-ка и я винца, — пробормотал отец Михаил, неторопливо вставая со стула, но Вдовин опередил его, живо вскочил, говоря:
— Сиди-сиди, я принесу! — и приостановился. — А тебе можно?
— В меру не грех…
Олег Вдовин быстро направился к бару меж тесно расставленных столов. Посетителей в кафе было мало, несмотря на обеденное время. Вдовин, в отличии от Каменева был худощав, быстр, до суетливости, в движениях, добродушен, всегда готов был сделать приятное ближнему.
С Алешкой Каменевым они сдружились лет восемнадцать назад: познакомились на Всесоюзном совещании молодых литераторов и как-то сразу потянулись друг к другу. Алешка только что перебрался в Москву из Перми. Был насторожен, молчалив в говорливых компаниях поэтов-москвичей, а Олег к тому времени пообтерся среди них, был поуверенней. С тех пор их жизнь шла рядом. В одних издательствах выпускали книги, вместе вступили в Союз писателей, частенько сиживали в нижнем буфете Центрального дома литераторов, частенько в одной компании бывали в командировках, где очень весело и пьяно проводили время. Скажите, какой поэт не любит женщин? И какая женщина может устоять перед добродушным балагуром, высоким красавцем-брюнетом? Как сам Алешка Каменев шутливо писал о себе: «Как хорошо быть ветреным брюнетом, с особым шиком жить, как уркаган, играть в рулетку, херес пить при этом, и с новой дамой заводить роман!» Веселым, легким, удачливым был Алешка Каменев, потому-то так неожиданен был его уход в монастырь. Олегу было обидно, что он ни разу не намекнул ему, своему другу, о таком желании. Внезапно исчез, ни слуху ни духу, и вдруг Вдовин узнает — Алешка Каменев подался в монастырь! Сначала он не поверил, потом убедился — правда. Три года они не виделись. А сегодня в Перми, в День книги, в городском культурном центре на встрече местной интеллигенции с московскими писателями Вдовин со сцены обратил внимание на монаха, сидевшего среди слушателей в зале, и вдруг с восторгом узнал Алешку Каменева.
И вот они сидят в кафе, говорят неспешно. Олег чувствует некоторую неловкость, не знает как себя вести с отцом Михаилом, опасается неуклюжим словом задеть его, обидеть, ведь теперь рядом со ним не поэт Алешка Каменев, а монах. Кажется, что его черное монашеское одеяние невидимой стеной встало между ними.
Олег принес полный бокал красного сухого вина, поставил перед отцом Михаилом.
— Грустно что-то… — вздохнул монах.
— Осень, — наигранно бодро откликнулся Вдовин и пошутил: — Осенью душа поэта всегда в грусти и печали! Слышишь, как тонко, сыро пахнут осенние листья, как уныло ноет троллейбус, трогаясь от остановки, — кивнул он на открытое окно. — Кстати, тебе не дует, а то, может, закроем?
— Пускай, — вяло махнул рукой отец Михаил и взял бокал.
Они выпили.
— Честно говоря, я не совсем ловко чувствую себя рядом с тобой, — признался Олег. — Не знаю, как вести себя, о чем говорить. Ощущение такое, что мы из разных миров. Я остался в прежнем, такой же шальной гуляка, а ты шагнул в иной, чистый, недоступный мне мир…
— Брось ты, — как-то ласково улыбнулся отец Михаил и коснулся руки Вдовина.
— И сам ты стал иным, — продолжил Олег. — Таким я тебя раньше представить не мог. А те, кто знает тебя сейчас, вряд ли могут увидеть тебя таким, каким знал я.
— Человек меняется, но прошлое всегда с ним. От воспоминаний не спрячешься в монастырь. Особенно остры и сладки они бывают, когда встретишься с человеком из прошлого…
— Сладки? — удивленно переспросил Вдовин. Ему почему-то казалось, что монах должен тяготиться своим грешным прошлым.
— Да, сладки печальной сладостью…
— Может быть, тебя тянет вернуться назад, к нам?
— Нет-нет. Такого нет, не было… Ничего нового я не увижу, не почувствую там, особенно после встречи с Таней, после того, что я пережил… Ты говорил, что я изменился после поездки в Пермь, где мы были руководителями областного семинара молодых писателей, да, именно эта поездка опрокинула всю мою жизнь… Не знаю, помнишь ли ты молодую поэтессу Татьяну Федотову, ведь ты был у прозаиков…
— Не помню, — подумал, покачал головой Олег.
— Она не была звездой семинара, ее лишь вежливо упомянули в списке подающих надежды, но не в этом дело, не в этом… Ей было в то время двадцать один год, она только что закончила пединститут и работала в школе на полставке. Все это я узнал потом, потом, а сначала она произвела на меня ошеломляющее впечатление…
— Я помню много девчат, которые производили на тебя такое впечатление, — не удержался, вставил, усмехнулся Вдовин.
— Было, было, но здесь иное, — перебил отец Михаил, недовольно морщась, и отхлебнул вина из бокала. Олег Вдовин умолк и больше его не перебивал. — Здесь иное… Как передать тебе, что меня поразило! Таня была необыкновенно красива, обаятельна, но многие в ее возрасте пленительны в глазах поэта. Она была непередаваемо очаровательна: тонкая, гибкая, изящная, чрезвычайно грациозная. Темные глаза ее под цвет волос всегда блестели, светились каким-то мягким светом, светом неиспорченной молодости, светом изумительной доброты. В обращении она была проста, естественна, тепла и, казалось, совершенно не понимала, не чувствовала, что она божественно красива. Впрочем, может быть, все эти мысли о ней пришли ко мне потом, когда она заполнила собой всю мою жизнь. Впервые я увидел ее в конференц-зале среди семинаристов. Я сидел на сцене за столом среди руководителей, как всегда в таких случаях, был под хмельком, потихоньку разглядывал молодые лица в зале, пока не встретился с ней взглядом; помнится, она меня сразу поразила своей красотой, молодостью, и, как мне показалось, глядела она на меня с симпатией. Таня не отвела взгляда, не опустила глаза, когда я, не скрывая восхищения, уставился на нее, и помнится, в моей грешной голове мелькнула мысль: вот с кем я проведу сегодняшнюю ночь! «Как зовут девчонку в четвертом ряду, с краю?» — спросил я у сидевшего рядом со мной пермского поэта Игоря Тюленева, этакого Добрыню Никитича, лохматого, кучерявого, бородатого крепыша. Он с трудом вспомнил ее имя, шепнул: «Татьяна Федотова».
Я читал стихи семинаристов, но, откровенно говоря, не припомнил ни одной строки Татьяны Федотовой, видимо, они меня ничем не тронули, не запомнились. Я достал рукописи из кейса, нашел ее подборку. Полистал. Обычные строки начинающего поэта, без особой искры, без взлета, без ярких запоминающихся образов, но вполне грамотные, не бездарные. Одно стихотворение, о котором поговорить можно было, я отметил, запомнил одну строфу.
Вечером Игорь Тюленев познакомил меня с ней, сказал игриво Тане, что мне приглянулись ее стихи, и удалился, оставил нас наедине. Кстати, Игорь ничего необычного не видел в ней, как в женщине, а мне она почему-то сразу запала в душу. Я пригласил ее погулять возле пансионата, где проходило совещание и где все мы жили, поговорить о ее стихах.
Мы вышли на улицу. Приближался вечер. Солнце спряталось за деревья. В сторону леса к старому бетонному забору меж высоких сосен вела еле приметная тропинка. Мы неторопливо двинулись по ней, скользя по сосновым иглам, толстым слоем покрывавшим землю. Было тихо, тонко пахло хвоей, осенней грибной сыростью, прелыми листьями. Тропинка привела к пролому в заборе, по ту сторону которого был лес. «Пошли туда!» — предложил я. Таня подхватила в руки полы своего тонкого осеннего плаща, чтобы не зацепиться, не испачкаться, и гибко, юрко нырнула в узкую щель. Меня восхитило, как она легко, мило, грациозно проскользнула в дыру, и я с восторгом представил, как вечером буду обнимать ее тонкое крепкое тело. А то, что я буду обнимать ее, я уже не сомневался. Мы неспешно шли с ней по осеннему лесу, говаривали о поэзии, о ее стихах, я прочитал ей ту строфу, которую выучил, сидя в президиуме, поставил эти строки рядом с лучшими стихами Ахматовой. Она слушала молча, со своей обычной тихой улыбкой, но я был уверен, что это произвело на нее должное впечатление. На меня в тот вечер, помнится, вдохновение нашло. Я, как ты знаешь, за словом никогда в карман не лез, а рядом с ней меня распирало от восторга, от предвкушения чудесной ночи с прелестной девчонкой. Я заливался соловьем, говорил, говорил, читал стихи, сплетничал о жизни московских поэтов, к месту намекал, что она может легко влиться в поэтическую жизнь столицы, ведь в стихах ее прячутся алмазные россыпи, которые нужно только очистить от прилипшей к ним пустой породы, огранить, и они засверкают бриллиантами высокой пробы. Я видел, чувствовал, что слова мои приятны ей, ложатся на душу, и изредка с усмешкой, иронией думал о себе, мол, что только не наплетешь, чтоб затащить провинциальную девчонку в постель. Мы подошли к краю оврага. Заходящее солнце косо пронизывало лес золотым, чуть красноватым светом, который радугой переливался в сетях паука. Эта красота восхитила, поразила нас обоих. Мы остановились, я умолк, выдохнув: «Как здорово!» И как бы ненароком положил ей руку на плечо, приобнял. Она спокойно наклонилась к земле, подняла большой оранжевый кленовый лист, высвободилась таким образом из моих объятий и ответила ровно, сдержанно, просто, будто не обратила внимания, не заметила мою ласку: «Да. Дни сейчас стоят чудесные».
Мы повернули назад. Пока шли, смеркаться стало, холодать. И незаметно и плавно перетекли мы в мой номер, где продолжили разговор за бутылкой шампанского, которую я приготовил заранее, предчувствуя бессонную и приятную ночь. Таня почти не пила, чуть пригубляла вино и отставляла бокал. Я пытался шуткой заставить ее выпить, расслабиться, но она отвечала, что ей и так хорошо, свободно со мной. Я и сам видел, что она ничуть не зажата, держится по-прежнему просто, естественно, доверчиво, словно мы знакомы с ней давным-давно, но… но, это я почувствовал с невольным беспокойством, ведет она себя со мной, как со старшим братом, не видит во мне мужчину, любовника, верит, что я не опущусь до греховных притязаний. Глаз она не опускала, открыто и пленительно глядела на меня, смеялась шуткам, активно, заинтересованно принимала участие в разговоре, восхищенно восклицала или бросала краткие реплики, ведь весь вечер болтал, заливался я. Глядел я на нее влюбленно, откровенно, не скрывал своих чувств, желаний, но взаимного соития глазами, как говорил Пушкин, не было, ни разу я не почувствовал такого ответного взгляда, хотя смотрела она на меня, повторяю, с некоторым восхищением, с симпатией, но доверчиво и кротко. Я решил проверить, не заблуждаюсь ли я? Может, она так же кротко, просто и спокойно, как пришла в мой номер, ляжет в мою постель……