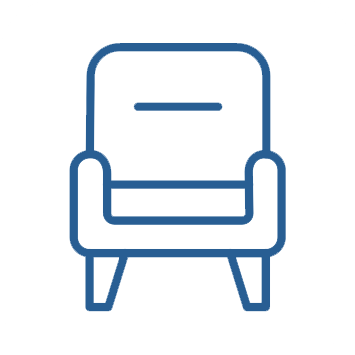- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
Восходящие вихри ложных версий
-

Сергей Семипядный Восходящие вихри ложных версий
Приобрести произведение напрямую у автора на Цифровой Витрине. Скачать бесплатно.
Оперуполномоченный уголовного розыска Гвидон Тугарин постоянно, независимо от «времени суток и влажности воздуха» ощущает себя вовлечённым в «движения криминальной атмосферы планеты». Обладая «развитой способностью к умственным упражнениям, пульсирующим сознанием и деятельной совестью», он с неизменной самоотверженностью следует по маршруту отработки избранной версии совершения преступления, имеющей полное право быть опровергнутой в результате изобличения истинного преступника. В «Восходящих вихрях ложных версий» повествуется о трёх детективных расследованиях, которые проводит Гвидон Тугарин под руководством своего непосредственного начальника Александра Петровича Хряпина. Действие происходит на Урале в первой половине 90-х годов прошлого века, когда криминальная обстановка в стране претерпевала существенные изменения.
Какие эмоции у вас вызвало это произведение?

0

0

0

0

0

0
Читать бесплатно «Восходящие вихри ложных версий» ознакомительный фрагмент книги
Восходящие вихри ложных версий
СБЛИЖЕННЫЕ КОНТРАСТЫ
ПОКОЙНИЦА ПОКИДАЕТ МОРГ. ВЕРСИИ ПОХИЩЕНИЯ ТРУПА
На площади малого числа страниц автор может не успеть рассмотреть своего героя. Тем более если герой существо не бесцветное, а напротив – фигура незамкнутая, с развитой способностью к умственным упражнениям, пульсирующим сознанием и деятельной совестью.
В замочную скважину небольшого рассказа автор рискует разглядеть, без необходимой, впрочем, внутренней в том уверенности, не реально существующую в его воображении данность, а замороженную в туманистом ореольчике представлений и проявлений некую человекоподобную персонификацию, недопустимо лишённую элементов органических, иррациональных, таинственных. Он рискует увидеть нечто вроде до безумия конкретно мыслящего киборга, электромоточеловека – в глухой, лишённой воздуха самоулучшаемости трубе материальной жизни людей.
Удивительно ли, что внимательный сочинитель склонен отдать предпочтение романной форме повествования? В этом случае незачем спешить, можно спокойно послушать звуки часов, звонко выщипывающих секунды времени из пространства спящего человека.
Старый будильник, ранее коротко и пренебрежительно позвякивавший по утрам, самопроизвольно поправился и теперь, покряхтывая, дозванивает до конца. Гвидон Тугарин ещё не проснулся, но сон уж непостижимым образом утрачивает реальность и обращается в собственно сон, неожиданно обрывающийся и распадающийся на нелепые, несопоставимые осколки.
- Ха-ха! – восклицает обрадованный Гвидон. – А я-то уж подумал, что это всерьёз и надолго, как у Ленина НЭП... Да-а, после таких встрясочных снов начинают, надо полагать, рассасываться рубцы и спайки.
Гвидону собеседник не нужен, он говорит сам с собою.
Однако телефонный звонок, словно наглая черта жирного фломастера, подчёркивает настоящее. Так уж повелось – патологические эффекты эпохи отбрасывают цветные тени телефонных звонков.
- Тугарин, срочно в отдел!
Голос Хряпина полон тревожной значительности.
- А что случилось-то, Александр Петрович? За окном воскресенье. Вся физиология моя сопротивляется…
Тугарин опустился в кресло и приступил к водружению голых ног на журнальный столик. Соединённый с фривольной позой разговор с начальством Гвидон относил к методам модного ныне выдавливания из себя раба, к которым, между тем, себя лично никогда не относил. И телефонный вариант самоутверждающего общения с начальственными особами он почитал вполне освоенным. Вот и сегодня центральное зеркало трельяжа с услужливой достоверностью подтвердило это обстоятельство.
- А плевать на твою физиологию! – неожиданно рявкнул Хряпин. – Тут, понимаешь, покойники из морга уходят! Физиология! Без всякой физиологии улетучиваются. Чтоб через пятнадцать минут был здесь, физик паршивый!
- Какие покойники? Куда улетучиваются? – Тугарин смущённо покосился на свои вдруг побледневшие ноги.
- Куда-а-а, каки-и-ие! Труп Скалыги – несчастный случай вчера в гаражах был – выкрали из морга. Сегодня ночью. Давай быстрей! Отгуляешь как-нибудь.
- Не может быть! Кому он нужен!
Гвидон попытался вскочить на ноги, но зацепился правой ступнёй за столик, утратил равновесие и, прижав телефонную трубку к животу, упал на пол.
- Алло! Алло! – растерявши все признаки доминантности, кричал, лёжа на паласе, Гвидон. – Кто выкрал труп?
Вид расколотого аппарата объяснил звукосмысл ответного молчания и бросил серую тень досады на тревожный фон только что полученного сообщения.
- Чепуха!.. Недоразумение!.. Дурацкая шутка!..
Этими словами Гвидон отбивался от безумного роя элементов бессознательного. Но они, эти элементы, продолжали стремиться актуализироваться в поднебесье господствующих вершин сознания.
И всё-таки в отдел Гвидон Тугарин явился вооружённым убойной версией. В кабинете Хряпина, кроме самого Александра Петровича, он застал Маврина, который в это воскресенье дежурил от уголовного розыска, и следователя прокуратуры Василия Фёдоровича Переплешина.
- Василий Фёдорыч, повтори, пожалуйста, вкратце для Гвидона Антоныча. Это его тебе сегодня в помощь даю. А может, и в дальнейшем оперативная часть следствия на нём будет.
- Вкратце? Хорошо. Главный бухгалтер малого предприятия «Металлоид» Екатерина Борисовна Скалыга вчера была убита электротоком. Несчастный случай. Пошла утром в гараж, а там у них часть электропроводки, в районе ввода в гараж, не была заизолирована. А позавчера, как вы, наверное, помните, ветер был ураганный. Так вот, шест деревянный с антенной повело, и он завалился в сторону и прижал оголённые провода к металлическому козырьку гаража. Скалыга взялась только за навесной замок – её и шибануло. Соседи по гаражу «скорую» на всякий случай вызвали, но она, конечно, уже и не нужна была. Ожоги, разумеется, страшенные, и колготки от ступней и чуть не до колен расплавились. Осмотрели, в общем, место происшествия – думали ж, что убийство, - а труп отправили в морг. А сегодня звонят – трупа в морге нет. Всё обшарили – нет и всё, что ты будешь делать.
- А всё равно думаю, - Александр Петрович скептически покачал головой, - что-то там напутали. Сделать полную инвентаризацию. В морозилке, может... Там у них трупы – штабелем. Точнее, не штабелем, а навалом.
- Среди распотрошённых её тело могло затесаться, - высказал предположение Маврин. – Ну, среди готовых к выдаче родственникам.
- Нет, утверждают, исключено. Ещё вчера вечером пропажу обнаружили. Всё обыскали – нет, и как не бывало. Мы тоже не верили. Дежурный же ваш выезжал ночью. Где он, кстати?
- Дежурство сдаёт. Скоро подойдёт, - ответил Хряпин и предложил: - Давайте прикинем, кому это было нужно. У следствия какая версия? Может, имеем и не несчастный случай всё-таки?
- Да я уже семнадцать лет работаю – сроду такого не бывало, чтобы убийцы труп из морга выкрали.
- То, что такого у нас, Василий Фёдорыч, ещё не было, отнюдь не значит, что этого вообще не могло быть, - возразил Хряпин. – Кто, сами посудите, мог так сильно не желать вскрытия? Мне думается, именно тот, на кого могло пасть подозрение, получи мы результаты исследования.
- Но тут же не отравление – электротравма, - пожал плечами Переплешин. – Вполне типичная. Чего-то эдакого, что наводило бы на какое-то подозрение, не обнаружено. Ничего. Совершенно.
- Пропустить напряжение можно и через труп, - упорствовал Хряпин, но, впрочем, без особого энтузиазма.
- Маловероятно. Скалыгу видели за пятнадцать минут до обнаружения трупа, когда она, ещё живая и невредимая, шла в сторону своего гаража. А вообще-то в гараж обычно её муж ходит. Но в этот день он ногу подвернул, точнее, накануне, - вот она и пошла за машиной.
Тугарин участия в разговоре не принимал. Он сидел, скрестив руки на груди и вскинув голову, ждал, как поле под парами, своего часа. На звуки голосов коллег, выпускавших из губ своих хилые предположения, согбенные от неуверенности их творцов, Гвидон лишь нехотя скашивал глаза и неслышно усмехался уголком рта.
Бездвижный внешне, он, словно уголёк в ладонях, перекатывал в сознании огненное зерно взращённой им версии. Разве мало в последнее время пишут о такого рода бизнесе, как поставка за рубеж органов человеческого тела? А изготовление учебных пособий, выварка скелетов, например, - чем не бизнес? Это и вообще в каких угодно условиях организовать можно, вплоть до самой отсталой провинции. Невостребованных покойников, вполне вероятно, может и не хватить для этих целей.
И ПОСЛЕ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА ОКРУЖАЮТ ЛЮДИ
Хряпин пообещал в ближайшие дни не давать Тугарину свежих материалов. У него даже была мысль пообещать Тугарину, что заберёт он, Хряпин, у подчинённого своего, если очень уж потребуется, один-два материальчика, чтобы тот больше времени смог уделить необычному хищению. Мысль была – обещания не последовало.
Половину воскресного дня Гвидон провёл в морге, затем мотался по городу, разыскивая и опрашивая всех лиц, имевших или могущих иметь хоть какое-либо отношение к случившемуся. Результат был нулевым – ни малейшей зацепки.
Не нашёл Тугарин санитара Волкова, домой с работы не явившегося, поэтому оставалась некоторая надежда на него, на санитара Волкова. Быть может, он что-то важное сообщит, когда явится к Тугарину по оставленным на его имя повесткам, в квартире его и на работе.
А вечером, почти ночью, было принято решение временно не предавать огласке факт исчезновения из морга трупа. По предложению Тугарина. Хряпин поначалу воспротивился, однако Гвидон заявил, что не стоит исключать возможности, что к похищению тела погибшей Екатерины Скалыги мог иметь отношение кто-то из её близких.
- И что это даст? – прищурился Хряпин и принялся теребить усы.
- Посмотрим.
- Они потребуют труп для захоронения.
- Надо чтобы в морге сказали, что необходимо дополнительное исследование органов.
- А реагенты ожидаются из Москвы? – усмехнулся Хряпин.
- Из Австралии. Необходимо время.
В понедельник у Тугарина был муж пострадавшей, Михаил Ильич Скалыга, а потом две подруги потерпевшей, Фоменко и Кошелева. Скалыга взволнованно спрашивал, как ему быть в этой ситуации. Ведь на двенадцать часов назначен вынос тела. Всё подготовлено к погребению. И ресторан заказан. Родственники съехались. Об обстоятельствах несчастного случая ничего дополнительно не сообщил. «Если бы я знал!.. Но там у всех такая проводка, снаружи – голый провод».
Когда шла беседа с Кошелевой, в кабинет вошёл Хряпин. Он вошёл лишь затем, чтобы передать Маврину документы по факту разбоя, совершённого прошедшей ночью, однако, обнаружив напротив Тугарина интересную женщину, извлечь себя с равнодушной своевременностью из кабинета подчинённых не сумел и потому соблаговолил задержаться и даже задать Кошелевой несколько вопросов, светски легковесных.
Подруги Скалыги оказались подругами хоть и недавнего, но всё-таки прошлого – с того времени, как супруги Скалыги серьёзно занялись бизнесом, виделись они с Екатериной Скалыгой всё реже и реже.
- Катю месяца два я не видела, - сообщила Кошелева, - а Михаила и вообще чуть ли не полгода. Вчера, правда, он прислал какую-то девушку за ключами от их квартиры. Катя в последний свой приход ко мне забыла их, да так и не забрала потом. Я, когда обнаружила ключи, а обнаружила я их не сразу – через какое-то время, то и не догадалась, что это её. И она не зашла почему-то.
- Может, думала сначала, в другом месте оставила или потеряла, - предположил Тугарин.
- Может быть. А потом, возможно, некогда было.
Гвидон задал ещё множество вопросов, но всё без толку.
- Подруги, пусть даже и бывшие, а всё одни какие-то общие фразы, - недовольно сказал Тугарин после ухода Кошелевой. – Вот, например, Кошелева. Александр Петрович, тебе не показалось, что эта подруга Скалыги что-то темнит, что-то не договаривает. Как минимум. А? Ты видел, как она на вопросы отвечала? Обратил внимание? Все слова свои взвешивала, обдумывала всё самым тщательнЕйшим, как сказал бы Руслан Имранович, образом. Ой неспроста-а...
- Ну поговори с ней ещё раз, - прикуривая (он решил покурить в кабинете подчинённых), ответил Хряпин. – Только что это даст, не знаю. Хотя, конечно, женщина она внешне приятная. Я бы, пожалуй, разорился на один вечерок. А если серьёзно – может, она просто человек такой. Есть люди, у которых только под пыткой сведения получить... И интереса-то у них никакого – нет же, кряхтят, но молчат, как партизаны.
- Под пыткой или... вызвав на скандал.
- Что? Какой скандал? – не понял Хряпин.
- Спровоцировать ситуацию... Как в том анекдоте, «а твоя-то, а твоя-то...» Помнишь? Анекдот этот.
- Анекдот – это одно... Проще надо.
- А что? Когда поразмышляешь, обмозгуешь всё... Так даже интересней.
- Всё-то ты не туда думаешь! – привычно сдержанным жестом Хряпин коснулся роскошных усов.
- Куда – не туда?
- Красивая баба! А ты сидишь чурбаном деревянным! – Хряпин поднялся на ноги. – Будь я хотя бы на один раз меньше женат и будь у меня хотя бы на два ребёнка меньше... А-а!
- Да ну, - отмахнулся Гвидон. – И вообще она мне дурой показалась.
- Ду-у-ра! – передразнивая, Александр Петрович резко повернулся в сторону Тугарина. – Сам ты... Можно подумать, рядом с рассадником умных женщин вырос!
- Да нет, я – пас. И душевный настой жидковат, консистенция не та. Я и вообще-то, когда по следу иду, все половые признаки утрачиваю. Женщина или баба – ничего не понимаю.
- Когда я начинал, - Александр Петрович снова присел на стул и ласково тронул усы, - вот тогда были опера! У-у! Всё успевали. И работать умели. И водку пили. Ты пойми, подход к каждому нужен. С каждым надо поговорить на его языке. Ты вот говоришь – дура, а сам, я предполагаю, с самого начала какую-нибудь заумную ахинею при ней нести начал. Потому, может, и слова она обдумывала. Дурой показаться не хотелось. Всего-то. Необходима атмосфера лёгкости. Нужно человека поместить в такие условия, чтобы он говорил, говорил, и выговориться не мог. Пусть уж лучше он в десять раз больше скажет, чем какой-нибудь пустячок упустит.
ДВА ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫХ И ИСПУГАННЫЙ ЛЖЕЦ В БЕЛОЙ КЛЕТКЕ БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЫ
Вернувшись с обеда, Тугарин раздвинул шторы, чтобы посидеть минут пять под световым колпаком весеннего солнца. Этого не получилось.
- Гвидон, зайди ко мне срочно!
Голос Хряпина, пропущенный сквозь селектор, выглядит плоским.
- Нашёлся твой Волков, - услышал Тугарин радостную весть, войдя к Хряпину, однако тотчас же и по голосу, и по виду Александра Петровича понял, что сказано ещё не всё.
- Ну-ну!
- Сейчас созвонись со Шмеховым из линейного. Вот его телефон, - Хряпин двинул в его сторону вырванный из настольного календаря листок. – Ну а там – по обстановке. Лежит в первой городской, травма головы у него. С его слов, выбросили из электрички.
- Так я и знал! – воскликнул Тугарин, словно катапультированный взвиваясь над стулом и роняя только что полученную бумажку с записями.
Прямоугольного вида листочек календаря, неоднозначно раскладывая движения, устремляется к полу. Гвидон с азартом кидается ловить его и опрокидывает стул.
- Что ты знал?! – раздражается Хряпин. – Что стулья мои переломаешь?
- Да нет. Зачем же! – Тугарин поднимает стул и начинает говорить более осторожно. – Хотел сказать, что это косвенным образом подтверждает мою версию. И Волков каким-то образом причастен к преступлению. Возможно, важный свидетель. И его хотели убрать. Очень и очень похоже на правду.
- Не это ли называется: гнать факты кнутом по одной дороге? – Хряпин скептически скривился. – Ты вот что, антимонии тут не разводи, а езжай-ка в больницу и вытащи из ушибленного всё, что можно. Благо, он не в реанимации. Вперёд!
- Может, зайти подальше? С домашних начать... Попробовать…
- Да он же до дома не доехал! – перебил Хряпин. – Что они могут знать? С него начни. Только смотри у меня! А то там сестрички – покойника взволновать могут.
Трамвайная монотонность удлиняет расстояния. Удалённые расстоянием и молчанием соединённые точки единой системы координат имеют различную эмоциональную окраску и смотрятся антиподами.
Впрочем, Тугарин и не собирался связывать себя обетом молчания, он всего лишь уговорил себя не кормить Шмехова незрелыми плодами собственной версии случившегося с Волковым. Гвидон прекрасно понимал, что в точке пересечения двух кривых истина выглядит куда как убедительнее. А о чём поговорить, всегда найдётся. Незнакомые прежде, Тугарин и Шмехов, как, пожалуй, два любых произвольно соединённых опера бывшего Советского Союза, проблем в учреждении доверительного и почти что дружеского общения не обнаружили.
Впервые со времени их личного (не телефонного) знакомства Волкова разговор коснулся, когда трамвай подкрадывался к остановке «Больничный комплекс».
- И как часто у вас такие случаи? Вышвыривают человечков из электричек иногда? – спросил Тугарин.
- Да, иногда. Не часто, конечно. Мне кажется, пока что самое распространённое – это когда по пьянке кухонным ножом и в условиях кухни. Где жрут, там и бьют.
- Ты прав. Типично нашенское злодейство. Но сейчас, я бы сказал, появляется и кое-что иное. По сравнению с благословенной памяти застойными временами, - вроде как согласился, но, одновременно, и возразил Тугарин.
- А случаи бывают, - проговорил Шмехов и вплотную приблизился к Гвидону. – Недавно одного нашего парня выбросили, сотрудника нашего, - сказал и направился к выходу.
- Да ну! – удивился и не поверил готовый поверить Тугарин, пробираясь следом за Шмеховым.
- Ну да. Ехал пьяный да и поскандалил с какими-то. Пистолет вытащил. Да! Его и вытолкали, а как иначе! Зашуршал по щебёнке. Хорошо – оружие не отобрали. Да и поезд только-только с остановки тронулся. Лобное покрытие обновил частично, только и всего... Но электрички сейчас, большинство, с автоматическими дверями.
- А эта, на которой Волков ехал?
- Проверил, у этой – не автоматически закрывающиеся.
- Ясно. Значит… - Гвидон принял медитативную позу: голову опустил, руки сцепил за спиною. – Значит, всё-таки сбросили его с поезда.
- Я бы не спешил такой вывод делать, - покачал головой Шмехов, более последовательный эмпирик, нежели Тугарин. – Частенько бывает, когда не хотят кого-нибудь сдавать, валят всё на пресловутые электрички и вокзалы. Уж сколько случаев у меня было! Друг ножом пырнул, жена сковородкой голову проломила…
- Или боятся сказать правду! – смысловую напряжённость сказанного Гвидон обозначил воздетым кверху указательным пальцем. – И такой вариант очень вероятен. Особенно в наше время.
Шмехов шевельнул бровями – всё, мол, возможно. Молчаливое движение бровей Шмехова, с равнодушной небрежностью уронившее очевидную тень сомнения на высказывание Тугарина, обрело признаки гнетущей силы. Гвидон молчал, однако эмоциональный ущерб был налицо, и мужественно сдавливаемые эмоции грозили выбросить упругий горб веера ненужных слов. Бессловесное и неуклонное напряжение воли нарушало энергетическую структуру Гвидона Тугарина.
- Данный случай… отягощён… специфическими обстоятельствами.
Гвидон произносил эти слова и морщился – он был недоволен собою.
- Ему кто-то угрожал? – равнодушно произнёс Шмехов.
- Он был одним из нескольких человек, находившихся в городском морге в тот именно момент, когда оттуда исчез труп покойницы! – Тугарин говорил с неумолимо возрастающим воодушевлением. – Представляешь? Труп неживого человека! Волков или опасный для кого-то свидетель, или... участник преступления. И это однозначно! И ничуть не удивлюсь, если сейчас не застанем Волкова в живых! – заключил Гвидон, непроизвольно ускоряя шаг.
Шмехов и бровью не повёл (Тугарин был весь внимание), только судорога недовольства, это когда Гвидон прибавил шагу, сбежала по его лицу. Тормозные механизмы бесповоротно отказали. Тугарин, схватив Шмехова за руку, оттащил его к пыльным кустам акации и, размахивая свободной рукой и придерживая, как придерживают гремучую якорную цепь, рвущийся ввысь голос и энтузиазмом нейтрализуя возможные противоречия, выбросил звенья причинной обусловленности волнующих событий.
Спустя минуту Шмехов выглядел убеждённым идейным сторонником предложенной ему Тугариным эффектной конструкции, однако скоропалительная чувствительность обрушенных на него аргументов воздвигла энергетическую стену некоего нечистого побуждения. Шмехов догадался, что при случае он не без некоторого удовольствия полюбовался бы на явление внезапного краха столь шумного построения. И опустил глаза. Если произвести мыльный пузырь даже и очень и очень большим – всё равно не всякий поверит, что им можно играть в мяч.
А Тугарин уже приступил к озвучиванию давно его сознанием оформленного плана опроса Волкова, несложного по схеме, однако со многими подробностями, по мнению Шмехова, незначительными и ненужными.
- Ну, договорились? – заключил Гвидон почти утвердительно, лишь слегка изогнув произнесённое вопросительной интонацией. – Так и будем действовать. В кратчайшие сроки на режиме зависания.
Волков, немолодой мужчина похмельного вида, лежал вдоль правой стены палаты, почти напротив входа. Сквозь голубые глаза с приспущенными веками экзистенциальная тоска зримо изливалась на потолок больничного цвета. Из глубины и мрака внутренней бесконечности. Он словно бы застыл на излёте сверхчувственного созерцания и видел, кажется, в эту минуту нечто надземное, таинственное и непостижимое.
Он – биологическая оболочка личности, для которой, как будто, бурные события века утратили актуальность. Лишь гаммы жизненных коллизий, разбуженные повеявшей прохладой вечного холода, терзают стены храма совести. Эпически спокойное отношение к смерти не особенно охотно нисходит даже и на работников морга.
Впрочем, по заверению лечащего врача, травма Волкова не относится к разряду смертельно опасных.
- Только вот, - добавил врач, этакий Жванецкий в белом халате, - мучит нашего пациента одна, но пламенная страсть, именуемая в народе пагубным пристрастием. Выпить, знаете ли, любит. И очень тяжело переносит вынужденную трезвость.
На вопрос Шмехова врач сообщил, что в момент получения травмы Волков находился в средней степени опьянения.
Узнав, что посетители пришли к нему и что они из милиции, Волков заметно взволновался и как бы чуть смутился. Пока Тугарин и Шмехов брали стулья и усаживались около его кровати, Волков искоса поглядывал на них, и взгляды его имели оценивающий оттенок.
Прежде чем сесть, Тугарин сделал максимально строгое лицо и спросил:
- Так значит, вы, гражданин Волков, государство обмануть хотите? Уверяю вас, обмануть государство очень сложно.
- Да нет... Почему... - смертоносная, прямо-таки, бледность волнения окатила лицо Волкова. – Я правду говорил. Меня, ещё в «скорой» когда везли, спрашивали… - Волков говорил неуверенно, следя за своими руками, без видимой нужды оправляющими одеяло.
- А я утверждаю, что хотите обмануть государство, - продолжал настаивать Тугарин. – Вы хотите и вредность заработать, и, одновременно, здоровье сохранить. Разве не так? Вы для этого пошли работать в морг?
Поняв, что это шутка, Волков улыбнулся, не вполне радостно, сквозь завесу тягостных переживаний, и неожиданно для самого себя сказал:
- Соточку бы щас.
- Увы, - ответил Тугарин. – Из зоны комфорта вы выпали в зону воздержания. Вопрос. Выпали по собственной воле, или вас выбросили? Назовите их имена, клички, приметы – всё, что о них известно. Темнить не советую. Мы знаем больше, чем вы предполагаете. Итак, кто и за что – это раз, второе – укажите, пожалуйста, их координаты.
Таким образом, Гвидон с самого начала нарушил им же самим разработанный план разговора с Волковым. Тугарин и Шмехов намеревались вначале терпеливо выслушать ответ Волкова на простенький вопросик о том, что случилось, а уж потом задавать вопросы с подтекстом специального назначения.
И теперь Шмехов был недоволен. Он, конечно, предпочёл бы послушать вольное изложение потерпевшим версии происшедшего, неторопливо укладывая на весы своего опыта предлагаемые посылки. Необходимо время на то, чтобы энергия мысли соединилась с интуицией, этим внутренним центром чувств. К тому же довольно длительное и непродуктивное молчание Волкова наводило на мысль, что в безбрежном море речевых коммуникаций Тугарин избрал неверный маршрут.
- Но я же их и не знаю совсем, - заговорил Волков, взглядом отыскивая собеседника (выбор был небольшим), который был бы в наибольшей степени готов поверить его словам. – А за что? – Волков пожал плечами. – «Дай закурить!» - «Нету» - «Ну, получи с улыбкой!» И – понеслась… А их трое...
- Приметы их опишите, - предложил Шмехов.
- Ну, приметы... Молодые, здоровые... Один высокий такой, а другой, как бы это сказать... А второй такой... Даже и слова не подберёшь...
- А вы попробуйте, - сурово произнёс Тугарин. – Джуме Джумаевичу Джумаеву было ещё труднее изъясняться на языке человеков.
- А кто это?
- Человек, стаей волков воспитанный. С младых ногтей.
Тугарин и Шмехов долго и неутомимо опрашивали-расспрашивали Волкова. В результате совместных усилий словесные портреты преступников были составлены. Был и побочный результат – сохранение ряда старых и возникновение новых вопросов. Как у Тугарина, так и у Шмехова.
И Шмехов стал выяснять, подробно записывая, кто где стоял, как выталкивали Волкова из поезда и какие при этом действия совершал каждый из троих напавших на него. За какие части тела и одежды хватали потерпевшего и за что цеплялся сам Волков, не желавший, по всей видимости, расставаться с зыбкой почвой стремительно летящего электропоезда.
Гвидону познавательная ценность этих всех вопросов представлялась невысокой. Он ёрзал на стуле, предполагая ближайшую паузу заполнить мощью своего решающего вопроса. И данное словесное обращение, требующее ответа, уже коснётся непосредственно событий, происшедших в морге. И как не известно было Волкову, что Тугарин не из линейной милиции, которую могут интересовать лишь взаимоотношения между Волковым и железной дорогой, тем значительней должен был оказаться эффект от смещения разговора в пограничную плоскость морга.
- А теперь я хотел бы услышать от вас, - заговорил Тугарин, когда настало его время, - что именно вы видели из ряда вон выходящее на своём вчера, простите, на своём позавчера рабочем месте, в морге?
И с громким щелчком выбросил указующий перст к носу Волкова.
Волков, казалось, отшатнулся назад, что, впрочем, едва ли было возможно вследствие непреодолимо горизонтального положения больничной кровати. Кончик его носа, усеянный крупными порами, и лоб покрыли приплюснутые капельки испарины.
- Говорите, Анатолий Никифорыч. И никого не бойтесь, - не отводя глаз, ободряюще кивнул Тугарин.
Волков молчал. Замешательство его было ещё более глубоким, чем это можно было предположить минуту тому назад.
- Расскажите нам всё, что видели! – не отступал Гвидон. – Не бойтесь.
- Что же вы молчите? Вас спрашивают, а вы молчите и молчите! – присоединился к Тугарину Шмехов.
Волков с пристальным вниманием испуга следил за пришельцами и ничего не отвечал.
ГВИДОН ТУГАРИН В РОЛИ НАЁМНОГО УБИЙЦЫ
Миновала неделя. Были встречи с множеством людей. Одно за другим следовали какие-то невнятные, неоднозначные показания, в свете которых способна потускнеть сколь угодно яркая версия. Приходилось немало заниматься и другими делами. С переменным успехом. И с переменным ощущением низменной обыденщины, угнетающей эвристические формы мышления.
Во вторник Тугарин позвонил в офис «Металлоида», чтобы договориться с генеральным директором «Металлоида» Срезневым о встрече. Они уже дважды условливались о встрече, но оба раза безуспешно – один раз Тугарина не оказалось на месте, потом Тугарин не застал Срезнева, отбывшего на незапланированные переговоры с иностранцами.
На звонок Тугарину ответили, что Срезнева сегодня не будет, что он отдыхает. Затем секретарь понизила голос и сообщила:
- В Глеба Василича стреляли. Не знаю, могу ли об этом вам говорить, - Глеб Василич велел, чтобы никому, - но вчера Глеба Василича чуть не убили! Выстрелили прямо в окно! Но не попали.
- В окно не попали?
- В Глеба Василича не попали.
Справившись в дежурной части и установив, что стрельба по окнам квартиры Срезнева не зарегистрирована, Гвидон решил сходить после обеда к Срезневу домой.
В бежевом плаще, светло-коричневой шляпе и затемнённых очках, складных, имеющих не два, а пять соединений и одну неприметную надпись белого цвета «Ferrari», Тугарин неторопливо, но и не останавливаясь прошёлся мимо дома Срезнева. Действительно, нижнее стекло правой створки имело пулевое отверстие.
Гвидон проследовал до конца дома, перешёл на другую сторону двора и, дойдя до подъезда, прямо противоположного квартире Срезнева, вошёл в этот подъезд.
Откуда был произведён выстрел? Обонятельная активность достигла, кажется, наивысшей точки, как будто это было возможно – уловить запах сгоревшего сутки назад пороха.
Тугарин преодолел ступени первого после площадки нижнего этажа пролёта и попробовал открыть окно. Это ему не удалось. Он ухватился за рукоятки фрамуги поудобней и глубоко вдохнул воздух, однако состояние краски, давным-давно заполнившей щель между фрамугой и рамой окна, с мгновенной очевидностью явило тот факт, что окном этим очень давно никто не пользовался.
Гвидон расслабился. На выдохе его осенила мысль, что сначала следовало бы обнаружить место в квартире, куда вошла пуля, а уж потом нюхать подъезды, коль обнаружится в том необходимость. Поёживаясь от смущения, навеянного собственной оплошностью, Тугарин вышел наружу и направился к Срезневу.
Когда он входил в подъезд, где находится квартира Срезнева, ему показалось, что дверь, ведущая в подвал, негромко скрипнула. Гвидон остановился в полумраке тамбура и прислушался. Дверь подвала была приоткрыта, звуков же больше никаких он не услышал. Кошка, наверное, решил Гвидон и, открыв следующую дверь, стал подниматься на площадку первого этажа. Прежде чем позвонить, Тугарин снял очки, вынул футляр в форме присплющенной с двух сторон чёрной капли и уложил в него очки.
Несколько разнородных звуков неопределённой высоты, тесно наложившихся на кусочек времени, заставили его обернуться. В подъезд входил молодой парень в чёрной футболке и брюках цвета морской волны, волны светлой до лазури. Тугарин почему-то не слышал грохота закрывающейся наружной двери, хотя грядущий звук свободно отпущенной парнем двери внутренней достиг сознания Гвидона предэхом убеждённости в том, что привычка прикрывать за собою дверь давно уже вытеснена из культурного обихода жующегося поколения.
И одет парень не по погоде – в футболку.
Напряжённое созвучие неконтролируемых ассоциаций тенью безмолвного подозрения сгустило фон окружающего, однако Тугарин отвернулся от вошедшего и, продолжая правой рукой устраивать футляр с очками во внутреннем кармане плаща, левую руку устремил к кнопке звонка. А бодрое расположение духа, полагал он, явится одновременно с рабочим ритмом предстоящей беседы. Тугарин был уже, безусловно, в зоне ближнего будущего.
И в это время...
А сказать точнее, просто произошла замена одной пространственно-временной структуры другою. Гвидон Тугарин вдруг обнаружил себя у стены, в углу, с болезненностью текущего времени переживающим сильнейший удар в правое плечо, страдальчески сморщившимся от прострела левой руки (она ударилась о стену) локтевой судорогой и пытающимся стремительно осмыслить происшедшее.
Бесшумный взмах сильной руки убил проклюнувшуюся паузу, и Гвидон сломился пополам, выдыхая мучительный стон. Теперь он падал на грязный бетон лестничной площадки кооперативного дома, где среди мутных, утративших блеск плевков, раскинув поля, уже сидела злосчастная шляпа. Его всегда элегантная шляпа и... биологические выделения жизнедеятельности недочеловеков и их друзей – живой натюрморт безумного художника.
Гвидон не успел догадаться, что и его ожидает печальная участь шляпы, как был пойман за ворот плаща и заброшен в квартиру Срезнева, дверь которой неожиданно отворилась. Дверь открылась, хотя ему так и не довелось прикоснуться к кнопке звонка.
Гвидон Тугарин упал на скрипнувший паркетный пол. И в этот же пренеприятнейший миг кто-то с бесчувственной грузностью уселся ему на спину, стиснул запястья разметавшихся по полу рук и двуединым движением вывернул их за спину. Гвидон вскрикнул от боли и разрастающегося бешенства.
И услышал семенящий говорок, не вполне внятный и даже не стремящийся перекрыть его вопль:
- Кто тебя послал, падла? Говори! И быстро, быстро! Я кому говорю! Руки выверну. Ну!
Он пришёл сюда по собственной инициативе, уведомив о том Хряпина. Что тут такого? Может ли это быть служебным секретом?
- Быстро, быстро! Говори, если жить хочешь!
И снова боль обожгла плечи. Размышлять, как будто бы, некогда.
А может, и не стоит размышлять? Подлая привязанность к жизни, нарушающая внутреннюю свободу! Молчать! Гвидон Тугарин зажмурился, и слепое и горячее отчаяние подтвердило: молчать, чего бы это ни стоило!
Около лица скрипнул паркет. Гвидон открыл глаза и увидел чёрные, лаково блестящие туфли с огромными серебристыми кокардами инкрустации. Таких туфель Тугарин ещё не видывал.
Обутый в эти самые туфли нагнулся, обшарил Тугарина и под отчаянный скрип стиснутых зубов его совершил акт вивисекции – вырвал из кобуры любовно почищенный и нежнейшим слоем смазки покрытый «ПМ». Гвидон вдохнул, сколько смог, воздуху и заморгал глазами – такое унижение он испытывал впервые.
- У него и кабура оперативная, ты смотри! – сказал разоруживший Тугарина, сделав ударение на заменившей «о» букве «а» в слове «кобура».
- Отве-е-етите... За это-то уж вы ответите! – выговорил Гвидон.
- На кого работаешь-то? Рассказывай! – вновь зачастил сидящий на его спине парень.
- А вот когда местами поменяемся, тогда и будем разговаривать! – ответил Тугарин с мрачным едвалинеравнодушием в голосе.
И услышал голос обладателя туфлей с кокардами:
- Отпусти его, Павлик!
Притупившаяся за секунду до того боль дала новый всплеск, а потом уступила место двум обжигающим шарам, обездвижившим плечевые суставы.
- Я-то служу отечеству, как сейчас говорят! – поднимаясь на ноги, произносил Гвидон Тугарин в такт движениям осторожно разминаемых рук. – А вот ты кому, собачёныш, служишь-прислуживаешь? Этому?
Он говорил, вроде бы, презрительно, но в голосе его всё-таки проблёскивал призвук обиды.
- Ну да что тебе! – продолжал Гвидон. – Платили бы... Ещё лет несколько попрогибаешься, Павлик, - такие же, глядишь, штиблеты с бляшками справишь.
Словно бы не заметив, что Павлик произвёл угрожающий полушаг в его сторону и вопросительно посмотрел на хозяина, Гвидон недвусмысленно искривил губы и сделал вид, что внимательно осматривает эти разряженные, подобно ярмарочным коням, туфли, поскрипывающие узорно выложенным, натёртым паркетом, вороные свободные брюки над ними, материи тонкой и со струнами складок исключительно ломкими, однако, похоже, неуничтожимыми, а также – неуместно цветастую рубаху.
И только после этого окончательно выпрямил шею и, строго глядя между выжидающе выгнутых бровей франта, движением правой руки отстранил Павлика, а левую вытянул перед собою ладонью кверху.
- Прошу вернуть оружие, господин Срезнев.
- И фамилию знает, ты смотри! – усмехнулся Срезнев. – Молодец. Что же, третья попытка, думаешь, будет более удачной?
В произносимой насмешке сквозила ниточка неуверенности, однако брови со всей определённостью шевельнулись вправо. Отпрыгнув в сторону, Тугарин легко избежал ожидаемого удара – и услужливый кулак перестоявшего в напряжённой позе Павлика тяжело полетел мимо Гвидона, непреоборимо извлекая громилу из точки уверенного равновесия.
Павлик вцепился руками в висящее на вешалке кожаное пальто, мощной диагональю перечеркнув коридор, однако в следующее мгновение один конец вешалки, сорвавшись с привычного места, энергично клюнул его в затылок эллипсом чугунного узора. И тотчас вся конструкция вешалки целиком устремилась вниз, хороня под ворохом одежды и виновника своего низвержения, и Тугарина, успевшего втянуть голову в плечи и закрыть её руками. Неисследимые изгибы двух жизней теснейшим образом совпали.
- Одно из двух! – закричал Гвидон. – Да, или вернёте оружие, или же вам придётся убить меня!
Его голос (из-под груды одежды) звучал в ритме митингового пафоса – суровое спокойствие вновь оставило Тугарина. А ещё в звуковой объём шума торопливо расшвыриваемой одежды не укладывались, возвышаясь над ним, хотя и мужественно негромкие, однако насыщенные сдержанным страданием стоны пострадавшего Павлика. Он первым поднялся на ноги и, расставив в стороны руки, направился к Тугарину.
- Ы-ы-ы... Щас я... ы-ы-ыво возь-му... Щас... - говорил он, и рыдательные нотки уже начали разрывать слова.
Отступающий в угол, к двери, Тугарин уже перенёс центр тяжести тела на переднюю, левую, ногу, а правая его рука готова была нанести удар в скулу противника, когда Гвидон вдруг увидел перед собою окрашенное кровью лицо. Он посмотрел в глаза замедленно приближающегося к нему раненого и всё понял. Выбор должного способа действий у Павлика определялся отнюдь не сознательным разумом. Вненаходимость его была очевидной. И уже горячая струйка бежала вдоль сонной артерии.
Пытаясь обеими руками остановить напирающее на него тело, Тугарин закричал:
- Телефон здесь есть?! Нужно… срочно… «скорую»!
Голос приседающего под навалившейся тяжестью Гвидона звучал с натугой. Однако он выбрался-таки из-под Павлика, упрямо перебирающего ногами, и, убедившись, что тот относительно устойчиво утвердился в углу, обернулся к Срезневу.
- Телефон, говорю, где?
- Да подожди ты! – скривился и даже кистью с растопыренными пальцами прикрыл лицо Срезнев, старший товарищ или, что выглядит убедительней, шеф пострадавшего.
Тугарин уже и самостоятельно сориентировался и, сопровождаемый сумрачным, но не особенно внимательным глазком пистолета, прошёл к телефонному аппарату.
- Алло! «Скорая»? Вас беспокоит оперуполномоченный уголовного розыска Тугарин. Черепно-мозговая травма. Запишите, пожалуйста, адрес... Да, именно черепно-мозговая, пострадавший в шоке.
НА СЛУЖБЕ У ХОЗЯИНА
Проводив бригаду «скорой помощи», Тугарин и Срезнев, молча глядя на бледное лицо Павлика, постояли возле дивана одну минуту, кляксой куцей шеренги отметив трагизм этой самой минуты, и дружненько убыли в соседнюю комнату.
Павлик был жив, и слёзы…
Да, когда ещё Тугарин и Срезнев, довольные, что рана оказалась не особенно опасной – ведь было даже признано возможным травмированного не госпитализировать, - стояли около него, злые эти слезы в любую секунду могли прорваться сквозь стиснутые веки Павлика.
Перспективы – принадлежность будущего. Утратив возможность материализации, мечтами они уже не становятся, они умирают. Надежды Павлика рухнули, с внезапным шумом и некрасиво до нелепости. Как обрушиваются со стен неприжившиеся вешалки. И если бы не ослабляющие эмоции, шумовой тугомотиной заполнившие упрятанную в марлевый кокон голову, Павлик уже сейчас, не возвышаясь до всечеловеческих масштабов мышления, поискал бы материальную основу будущего существования.
Виды бытия личности, пропущенные сквозь ушко отношений личной зависимости, далеко не всегда обретают цвета космической значительности, тёмной либо светлой. Будь даже отношения эти подлинно внутренними и до некоторой степени интимными. А если же в минуту решительную кто-то, имеющий на то основание, способен признать их не иными суть отношениями, как теми, которые с неприятной резкостью аттестуют в качестве денежно-торгашеских, то и говорить не о чём.
И можно с маниакальным тщанием хоронить глубинные структуры человека. Навал отказов может быть добросовестно внушительным. Всё равно ментальные силы, как правило, продолжают подспудно рефлектировать и изощряться в умствованиях, испуская едкий дымок привычных, направленных вовне мыслительных реакций. Текучий, но плотный их запах способен обрести – в беспощадных условиях ситуационного момента – вкус яда азиатского крайта.
Звонок в дверь выхватывает Павлика из забытья. Павлик, существо инстинкта (рефлекса ли), дёрнулся и едва не застонал от навалившейся на голову боли и бессердечно присоединившихся к ней недавних переживаний. Из пространства отрицательных и разрушительных мыслей голову уже не извлечь, однако если не двигаться, бдительность болезненных ощущений должна снизиться.
Надежда на спасительную неподвижность не оправдалась. Звонок прозвучал повторно, но звуков, которые спешили бы сопроводить устремлённые к двери шаги, не объявилось.
Павлик встал и побрёл открывать.
За дверью обнаружился мальчишка беспризорного вида.
- Чё не открываешь-то? Звоню, звоню... Делать мне больше нечего!
- Вот и я хотел спросить, чего ты, гадёныш, названиваешь! – зарычал Павлик, и новая волна злости взметнулась на уровень больной головы.
Павлик потянулся, чтобы ухватить «гадёныша» за куртку, готовый, кажется, скомкать его между ладонями своих ручищ да и зашвырнуть подальше от дверного звонка.
Но парнишка ловко отскочил в сторону и закричал:
- Грабли свои убери! Я по делу! Я послание принёс!
Непривычное слово «послание». Членораздельные элементы человеческой произносимой речи не спешат оформляться узнаваемыми понятиями.
- Какое ещё послание?
Мальчик потрясает свёрнутым вчетверо листком бумаги.
- Вот. Не видишь?
- Давай.
Павлик вытянул перед собою руку. Могло показаться, что он хочет принять «послание». В действительности же он намерен был схватить почтальона за шкирку, чтобы в его присутствии ознакомиться с содержанием записки. Однако движение руки Павлика было излишне плавным и не особенно точным – вспугнутый пацанёнок сумел сместиться в сторону на расстояние лёгкого отскока.
- Без паники! – кричит мальчишка. – Прошу оставаться на местах!
Он кладёт записку прямо на лестничную площадку и убегает.
- Стой! – вскрикивает Павлик.
- Ау-дую-дуй, нервная публика! – слышится уже из-за дверей подъездных.
Павлик схватил записку и пробежал её глазами со всей возможной быстротой. Буквенные изображения отыскали подвластные им звуки и сложились в слова. Слова мгновенно расположились на однозначном фоне общего смысла. Да, истерзанная его голова соображала вполне сносно – необходимо надлежало гонца изловить и вытряхнуть из него информацию о сопутствующих обстоятельствах. И понимая, что бег не то что противопоказан ему – это прямо-таки запретная форма активности, Павлик заспешил к выходу из подъезда. Погоня началась.
Павлик бежал, кривясь от боли и стремясь обеспечить всемерно плавное и сугубо параллельное земле перемещение головы. Тем не менее линия, вдоль которой перемещался его головной мозг, часто ломалась, постреливая зигзагами болевых ощущений.
Несмотря на бесшумность побежки обутого в хлопчатобумажные носки Павлика мальчик очень скоро обнаружил преследование и припустил вдоль дворовой диагонали. Чтобы сохранить надежду догнать его, Павлику пришлось увеличить скорость. Расстояние между ними постепенно сокращалось, и Павлику показалось даже, что мальчишка и не очень-то хочет убежать от него.
Когда звуки громкого дыхания преследователя уже не могли не касаться ушей преследуемого, мальчик остановился, повернулся и закричал, привлекая внимание прохожих:
- Чего ты пристал к человеку?! Чего тебе надо, бандюга?!
- Да ты не кричи, братан! Чего развопился-то? Ты мне скажи только, кто тебя послал. С запиской-то. Скажешь? По-хорошему.
- Да не велели мне говорить! – отмахнулся пацан. – Сказали – записку сунуть и бежать что есть мочи.
- Даю сотню. На три жвачки по тридцать рублей.
- Сам жри по тридцать. Я ещё такой блевотины не едал!
- Твои условия?
- Две сотни на жевачки по полтиннику. И на курево семьдесят семь рваных.
- А ты скажешь – большой дяденька в тёмных очках, и больше ничего не помню. Да?
Когда Павлик возвращался в квартиру Срезнева, ноги его вдруг воспламенились чрезмерной чувствительностью, и он, не скупясь, обкладывал матом каждый из камешков, обнаруженных на тротуаре беззащитными ступнями. А голова раскалывалась от испарений зловонных мыслей. Виной тому – материальная жизненная обстановка сегодняшнего времени, безжалостно смявшая остатки и без того уж давно поскромневших планов. Тень плоской рассудочности ложилась на всё новые и новые секунды размышлений, постулируя силуэт достаточно определённого решения.
Решение это Павлику не нравилось. Однако ему казалось, что энергии на поддержание некогда избранной программы поведения у него уже не осталось. Кроме того, деловитому и трезвому, экономически мыслящему и прозаически настроенному Павлику было не до сложных фокусов рефлексий – он хотел как можно скорее вырваться из неуюта пограничной ситуации. И он уже знал, что достаточно проклюнуться ошибке… И не обязательно даже ей расцветать букетом последствий. Ошибка холопа не подлежит забвению. Невинная халатность, извинительная неосторожность могут вольно произрастать лишь на пустырях госсектора, но не в оазисах коммерческих структур. А им – только всё самое лучшее. Дерьма-с не держат. И – по дешёвке. Платить не любят. Капитал же ведь должен работать!
Ну а шефа всё равно пришьют, раз уж решили убить его.
- Ты куда это слинял? – вопросом встретил Павлика Срезнев. – Дверь открытой оставил. Ну, ты даёшь!
Срезнев провожал собравшегося уходить Тугарина. Они стояли у входной двери. Павлик молча протянул записку. Срезнев очень долго читал её, неоднократно перечитывая некоторые слова и фразы.
- Откуда? – спросил Срезнев, думая о том, стоит ли показывать записку Тугарину.
- Пацан лет десяти позвонил. Я вышел, а он на площадку бросил её и бежать.
- Догнал?
- Нет, - ответил Павлик. Нейролингвистические воздействия последних времён не прошли бесследно. – Я выбегаю, а он уже ого-го где...
- Топчет кромку горизонта, - подсказал Тугарин.
- Да, топчет горизонт, - повторил за ним Павлик.
ПОРОЮ ТЯЖКИЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОЗАРЯЕТ ЛОЖНЫЙ СВЕТ ПРОЗРЕНИЯ
Тоскливо-грустное настроение влекло Гвидона Тугарина вдоль пыльных весенних улиц неопрятного города, встречное движение которого с идиотской назойливостью предъявляло одни лишь серые от усталости лица временно покинувших рабочие места.
Безнадёжный вид стоптанных сапог и туфель, пересекающих опущенный долу взор Гвидона, служебной необходимостью влачимого изуродованными тротуарами в родной отдел, изрядной долей уныния множил тяжесть атмосферного столба. А столб двуглавого фонаря на подогнувшейся (в результате, по-видимому, автомобильной аварии) единственной ножке тоскливо вытянутой по горизонтали тонкой шеей будил в воображении образ виселицы.
Гвидон тяжело переживал недавние неудачи. Он шёл и сокрушённо мотал головой, стремясь поскорее выветрить из сознания зрительные следы неприятных воспоминаний. Хотелось, чтобы как можно быстрее поток времени унёс неприглядную яркость его неудач в прошлое, за пределы длиннорукой памяти.
И постепенное истощение жизненности совершенно доконало бы сыщика, не предусмотри благотворная природа череду ежедневных превращений человека. Гвидона вдруг с неожиданной силой встряхнула исключительно свежая мысль. Он отчётливо увидел, что приметы Павлика с очевидной полнотой совпадают с приметами одного из негодяев, напавших в электропоезде на Волкова.
Ну конечно! Конечно же, именно Павлик и двое ему подобных пытались устранить Волкова, выполняя поручение того, кто очень уж не хотел допустить вскрытия трупа Скалыги! И этот «кто-то», без сомнения, - Срезнев, на которого Павлик наш ушибленный и работает. И в этом случае предельно просто объясняется наплыв иррациональных импульсов антипатии, испытанной Тугариным во время знакомства со Срезневым.
Сделанное открытие не снимает всех вопросов, однако главное – выбраться на верный путь реконструирования криминального прошлого этих весьма сомнительных субъектов. И далее – методом последовательных приближений.
Кто-то в это самое время громко чихнул.
- А вот и подтверждение! – останавливаясь, с улыбкой оборачивается на чих Тугарин.
И видит тёмношёрстную крупноголовую и коротконогую дворнягу с рыжими бровями, промышляющую возле пищевых контейнеров.
- Да-с! – вслух огорчается Гвидон и пятится от пригнувшей голову и предупредительно зарычавшей собаки. Он знает, что коротконогие собаки злы и коварны.
Гвидон идёт дальше, а его мысли незаметно возвращаются к материалу недавнего прошлого. И скоро взбодрённое успехом воображение, достаточно развитое и неплохо организованное, весь эпизод столкновения с Павликом и Срезневым уже представляет в новой редакции, исторически недостоверной.
Однако Гвидон с удовольствием просмотрел всю эту воображением созданную сценку, благо не истраченная в данном эпизоде – ввиду скоропостижности происшедшего и некоторых иных обстоятельств – энергия страстей сохранилась, обеспечив чувственную яркость всей картины. А уж заключительные кульбиты расшвыриваемых врагов... Да, это что-то!
Вспомнив же, что Павлик является участником бесчеловечного сбрасывания человека (Волкова) с поезда, Гвидон вернулся к моменту его укрощения и внёс в него решительные изменения. И вот он уже заламывает Павлику руку, перегибает противника через перила и судорогами ужаса искорёженное тело сбрасывает в бездонный ствол лестничного пролёта...
Впрочем, это едва ли могло осуществиться, ибо Срезнев проживает на первом этаже.
У Хряпина находился следователь милиции Дышлец, и Тугарин пережил несколько трудных минут, в бестолковом ожидании расхаживая по кабинету.
- Говори, что там у тебя, - сказал Хряпин, когда Дышлец направился к выходу. – А то уж вижу, как тебя лихорадит.
Тугарин положил перед ним объяснение Срезнева.
- Та-а-ак, ничего существенного. И по факту покушения – тоже ничего. Не видел ничего, ничего не знает, а в связи с тем, что никому он и никогда гадостей не подкладывал, то и подозревать никого возможности не имеет, - резюмировал Хряпин. – Что ещё? И где его заявление о покушении? Или твой рапорт.
- Рапорт напишу, - ответил Тугарин. – А вот заявление его об отсутствии у него врагов вызывает большущее сомнение.
И положил перед Хряпиным записку с мудрёным текстом, исполненным пастой синего цвета.
Записка гласила: «Сим повелевается тебе, раб Божий Глеб, оставив суетности мирские, а имущество своё, яко движимое так и недвижимое, отказав безо всякого ропота с твоей стороны во благо богоугодных дел, удалиться от соблазнов прельстительных во лоно церкви, дабы постом неустанным и молитвою усердною испросить прощение себе за грехи свои тяжкие, коим прощение даровано на путях иных быть не может. А отпущено тебе времени, чадо праха, одна седмица да ещё три дня. И будет ли ниспослано ещё одно знамение, грому подобное, наступит ли кара суровая безо всякого промедления – то нам не ведомо, ибо на всё воля Божия».
Подпись отсутствовала, дата звучала следующим образом: «13 дня апреля месяца 1993 года от Рождества Христова».
- И что всё это значит? Угроза, как я понимаю? – Хряпин поднял глаза на Тугарина, и брови его заняли верхнюю позицию. – Давай с самого начала. Подробно, но без эквилибристики.
Хряпин принял удобную позу и терпеливо прикрыл вниманием заряженные глаза.
- Если говорить предельно кратко, то следует сказать, что записка была принесена, когда я уже был на взлёте. Принёс парнишка десятилетний. И сразу убежал. Но я этого не видел. Я в это время осматривал пулевое отверстие в стене и беседовал со Срезневым.
- Я же сказал – подробно, но не в ущерб ясности. А ты – я взлетел, парнишка убежал. Вот и пойми тут.
- Дело было так. Я явился к Срезневу, - заговорил Тугарин, сопровождая произносимое рубящим движением ладони, должным отсекать всё к делу касательства не имеющее. – Сначала, правда, я потоптался по двору, чтобы прикинуть, что и как там всё это могло произойти. Ну, они видят, Срезнев, то есть, со своим охранником, - иду, такой мэн: шляпа, чёрные очки... Переполох там у них такой поднялся! За наёмного убийцу меня приняли с перепугу... - Гвидон замечает, что увлёкся, и решает немного себя придержать. – Но потом, короче говоря, всё стало на свои места.
Гвидон удачно опустил описание болезненного эпизода силовых соприкосновений, омрачивших знакомство со Срезневым, и вскоре его рассказ имел уже вид связный и жизнеутверждающий. А по своей воле опубликовать факт тяжело пережитого унижения, рискуя превратиться в объект насмешки, - это так же глупо и странно, как укус собственного пальца во время приёма пищи.
В заключение Гвидон, неприкрыто ликуя, сообщил о совпадении примет Павлика с приметами одного из напавших в поезде на Волкова.
- Это совпадение может оказаться простой случайностью, - высказал сомнение Хряпин. – Мало ли высоких и здоровых блондинов с короткой стрижкой. Вся молодёжь сейчас с чубчиками и голыми затылками. И все – культуристы, ходят вразвалку, локти в стороны растопырив.
- Случайность – это внезапно проявившаяся неизбежность, имеющая свои причины, ход развития и последствия.
- Не знаю. Тебе виднее, - произнёс Хряпин, с недоверчивой усмешкой покосившись на Тугарина. – Надо, пожалуй, на всякий случай установить весь круг общения Срезнева и Павлика и примерить к ним имеющиеся приметы. Сейчас приглашу всех, кого следует, и всё обдумаем. Квартиру Срезнева осмотрим с участием криминалиста, анонимку направим на почерковедческую... А с Волковым больше не встречался?
- Нет. Он где-то спирт раздобыл. Ну и... В общем, в реанимации сейчас.
- Плохо. Поддерживай постоянную связь с больницей. А сегодня надо искать свидетелей стрельбы по окнам. Пока звук выстрела из людской памяти не выветрился. Так что вечером придётся поработать. Вместе с Мавриным и Чалых идёте во двор дома, где проживает Срезнев, и – по всем квартирам близлежащих домов. Фиксировать каждую мелочь: что, кто, когда, где – всё может пригодиться. Данные красивых одиноких женщин заносить в особый список.
- А это зачем? – удивился Тугарин.
- Был факс из Интерпола.
ПЕНСИОНЕР С СОБАКОЙ И ЧЕЛОВЕК, ВООРУЖЁННЫЙ ПИСТОЛЕТОМ МАКАРОВА
На двадцать четвёртую квартиру указали в первый раз ещё в тридцать восьмой. Живёт, сказали, в двадцать четвёртой дядечка, пенсионер уж который год, с собакой каждый вечер гуляет, поздно и подолгу. Спускался Гвидон Тугарин ниже, расспрашивал всех, кого дома заставал, - и во второй, и в третий раз советовали ему в двадцать четвёртую заглянуть: пенсионер – собака – вечер-почти-ночь.
Некоторые слышали, как будто, выстрел, но кто значения не придал (автомобильный выхлоп, пуск из ракетницы), а кто и в постели уж был. Всего-то двое и выглянули в окно, да у одного (одной) очков под рукою не оказалось, а другой не заметил ничего подозрительного – старушка только какая-то, очень древняя, брела через двор.
Собаковод из двадцать четвёртой оказался поджарым бритым стариком с буйно взвихрёнными длинноволосыми бровями.
- Здравствуйте, милиция, уголовный розыск. Тугарин Гвидон Антонович, - представился Гвидон, произнеся все слова голосом жизнерадостным, имя и отчество – особенно отчётливо. – Удостоверение вот, извольте взглянуть.
- Ладно, верю так, - ответил старик, не торопясь, впрочем, разлучить взгляд свой с фотоизображением Тугарина. – Удостоверения сейчас, конечно, надо бы проверять, да без очков не шибко углядишь... А вроде и похож.
Очков нет, а винные пары в наличии, отметил Тугарин и задумался, взвешивая перспективы предстоящего разговора.
- Сейчас развелось всяких атрибутов, жуликов, воров... Не сосчиташ, сколь их развелось, - заговорил старик. Он будто ждал собеседника. – Не то что удостоверения – такие документы подделывают, что миллионы с миллиардами из банков ни за так вызволяют. В газетах же, по радиу пишут... Да ты сам знаш, раз из органов. Только надо же ведь…
Старик выбросил перед собою правую руку, с усилием соединил пальцы в кулак и потряс этим очень уж бледным сооружением словно бы и в кожу не завёрнутых костей.
- Что? – Тугарин подался чуть назад.
- Дак распустили... Рынок, говорят. Рынок? Ладно, согласен. А эти-то все атрибуты, жулики всякие – зачем? Надо – ух-х! А нет жестокости – нет истории. Нет на нет.
- Пена, накипь, - покивал головой Гвидон – надо же поддерживать разговор. – Затяжная и мутная волна псевдорыночного процесса.
- Я же говорю: нет жестокости – нет истории...
Старик мог, очевидно, часами водить хоровод вокруг чахлого деревца личных жизненных впечатлений да идеологических отражений костров эпохи. Часами и в любой компании. И отнюдь не в поисках уютных объяснений мира – скорее, наоборот.
- Соседи говорят – собака у вас шикарная. Так? – Тугарин предпринял попытку скорректировать разговор.
- Я – Оборкин! – воскликнул старик. – Меня все соседи знают и уважают. Никто плохого не скажет. И власть должна, чтоб её уважали... добиваться. Я кто? А меня уважают. Я же никто. Я – писсионер, никто!
- Звучит-то как миссионер.
- Нет, писсионер.
Последнюю стопку Оборкин намахнул, вероятно, перед самым его приходом, решил Тугарин, заметив, что язык собеседника стал несравненно чаще спотыкаться о корявые пни редкозубья.
- Что-то собаку вашу не вижу.
- Собака? Это сынов пёс. Джонни-иностранец. Щас мода на их. Я вечером его забираю и – до утра. Он мебеля, зараза, грызёт. Щас за ним собираюсь. А днём он у них барахло стережёт. У меня-то кого тащить? У старика. Старуху? Дак... Это по молодости, бывало, сам не свой... Поглядел кто – и-и-и-у-у-у!.. Строгий был. Всё одно ведь гуляла – потом уж узнал. Был там один...
- А вчера долго с собакой гуляли вечером?
- Вчера? – Оборкин замолчал, чтобы попробовать сориентироваться во времени. – Вчера что было? А! Вчера и не погуляли толком. Выскочил какой-то... Да, выскочил да и давай собаку бить. Я говорю: ты собаку не трожь – она денег стоит. Бо-о-ольших денег. Тыщи за неё были дадены.
- А выстрела не слышали?
- Нет, до стрельбы дело не дошло. Я ему говорю: ты пистолет свой убери, не испугаш. Я – Оборкин! А он – это газовый пистолет. Ка-ко-о-ой там газовый! Я в ВОХРе не работал, что ли? Макаровский-то пистолет я отличу уж как-нибудь, не слепой...
- В котором часу это было?
- Дак... Как обычно, полдвенадцатого стукнуло, я и стал собираться.
- Приметы его запомнили?
- Приметы? – Оборкин тяжело задумался. – Прямо скажу: такой убьёт – не моргнёт.
- Возраст, рост, телосложение?
- Темненько было.
- Пистолет же вы заметили.
ГВИДОН ТУГАРИН ПРИМЕНЯЕТ МЕТОДЫ ЛИЧНОГО СЫСКА
Тугарин вышел из подъезда и с удовольствием вдохнул нагретый продолжительным днём воздух. Звуки города, по-прежнему живые и беспокойные, жгуче-контрастно накладывались на грядущий покой ночи, который с непоколебимым и ненарушимым упорством снимал тревогу с неугомонных источников звукового давления.
Гвидон, утомлённый трудами целого дня, не имел ни сил, ни желания противиться пленящему состоянию туманной рассеянности. В ином мире времени нет, оно стоит на месте. И если бы все звуки куда-нибудь ушли, то и в этом мире, мире низкой энергии, плотной и жёсткой материи, время милостиво умерило бы свой бег.
Окружающие дома, дома старой постройки, с огромными коридорами, просторными комнатами и высокими потолками, за неимением мусоропроводов, всеминутно терпели пред окнами потрёпанный мусоросборник, тяготеющий к перевоплощению в помойку. Возле помойки топтались грязно-серые голуби, а чистобокая сорока, покачивая полусвёрнутым веером хвоста, сидела на ветке берёзы и брезгливо наблюдала за ними. Она не замечала или не желала видеть Гвидона (он был совсем близко от неё), умиротворённо осматривающего доступный ленивому взору кусочек синеющего вечера.
Без сомнения, образ сороки в представлениях людей глубоко неверен.
Взгляд Гвидона случайно обнаружил освещённое кухонное окно квартиры Срезнева. Между занавесками вычурно белели оленьи рога. Рога висят на стене того самого коридора, с пола которого так недавно, сегодня, он собирал пыль своим роскошным плащом. Гвидон словно бы со стороны увидел эту непредставимо далёкую от благолепия картину, и болезненным неуютом охватило его сердце. Каков был приём! А теперь он, благодарный, самоотверженно ищет несостоявшегося убийцу одного из своих обидчиков. Да пусть бы кто хочет колол их огненными жалами пуль, как осы пауков, в их собственных паутятниках!
И уже иным взглядом смотрел Гвидон на окна квартиры, которая всё так же равнодушно (занавеска едва приметно колыхалась) дышала приоткрытой форточкой кухонного окна.
Свет в окне погас, и Гвидон вздрогнул, словно потемневший его взгляд мог быть причастен к этому. Предвестием побуждения к движению дохнул простор в его голову и разметал тяжёлые мысли. Он стоял и смотрел на дверь подъезда, не имея никакой цели. База данных, на почве которых могло бы прорасти объяснение неожиданного интереса, была чиста и безжизненна.
И когда из подъезда вышел Павлик и, свернув влево, начал удаляться, Гвидон просто последовал за ним, не задавая себе предполагающих ответы вопросов. Вскоре он снял плащ, вывернул его на левую сторону и перебросил через руку. Подклад плаща цвета перезревшей ржавчины роднее созревающим сумеркам и не привлечёт света оживающих вечерних огней.
Павлик, между тем, не проявлял интереса к тому, что происходит или может произойти за его спиной. Он шёл своей быстрой походкой, столь же скорой, какова и речь его, умудряясь при этом существенно раскачиваться из стороны в сторону.
Напряжение слежки отсутствовало, и многократно обгонявшие Гвидона автомобили легко совлекали взгляд его со спины Павлика. Ничем не рискуя, Гвидон мог от начала и до конца проследить, как прошлогодние листья взвивались гневно вслед потревожившим их шинам колёс и, демонстрируя решимость догнать их, совершали, грубо толкая друг друга, несколько беспорядочных, неуклюжих скачков. Но через мгновение, пропитанные грязью осени и весны, они в отчаянье опускались на мостовую.
Павлик и Тугарин прошли более полукилометра, когда Павлик вдруг побежал. Гвидон автоматически перешёл на бег и уже в суматохе бега попытался найти объяснение неожиданному изменению ритма движения. Павлик не походил на убегающего, возможно, он куда-то опаздывал. Он бежал так, словно быстро и осторожно ощупывал ногами землю.
Преодолев две сотни метров, Павлик отказался от бега, прошёлся ещё немного и, осмотревшись, исчез в арке. Ниточка простейшей формы скрытого наблюдения оборвалась. По воле объекта наблюдения, в одностороннем порядке. Принцип зеркальности пространственных структур в очередной раз нарушен.
Гвидон сделал рывок, а затем на цыпочках поспешил к арке. Короткий тоннель арки был пуст, как и подсвеченная окнами домов видимая часть двора. Гвидон прислушался, но шагов не услышал. Он скользнул вдоль стены арки и высунул голову на территорию двора. Двор молчаливо жил таинственной полуночной жизнью. Влившийся в эту жизнь даже не на много времени раньше, чем его последователь, мог иметь всю сумму преимуществ на своей стороне.
Гвидон принялся внимательно осматривать двор. Параллельно этому осмотру зародился и мучительно пошёл процесс узнавания – Гвидон когда-то здесь уже был. И – недавно. В беседке, слева, зашевелилась и этим обнаружила своё присутствие тихая парочка.
В это время от куста акации у противоположного дома отделилась высокая фигура и направилась в подъезд. Это был Павлик.
Грохот подъездной двери уподобился выстрелу стартового пистолета – Гвидон сорвался с места и, скрываясь за кустами, по дуге, выгнутой вправо, побежал к впустившему Павлика подъезду. В конце дистанции Гвидон споткнулся и шумно упал к отворившейся в этот момент двери.
В падении он увидел и бетонный бордюрчик, о который зацепился, и затянутые в капрон и обутые в женские туфли две ноги. Именно в данный миг процесс узнавания двора готов был благополучно завершиться, если бы не был грубо прерван изящным вскриком испуганной женщины.
Гвидон поспешно вскочил и, скорченный смущением и болевыми отзвуками ушибов, стал извиняться:
- Я вас напугал, наверно. Простите... Так получилось...
Женщина торопливо приняла извинения – «Ничего, ничего. Я почти не испугалась» - и дробной рысью удалилась.
Гвидон не успел её рассмотреть, да и, ввиду его состояния, имей он даже втрое больше времени, практически это вряд ли было возможно. Он знал только, что она была мила, что знакомство с такою женщиной могло бы быть очень приятно и что чудо взаимного очарования не способно явиться в условиях, когда симпатичного, сильного и гордого мужчину нелепый случай подло швыряет на грязный асфальт, в зону насмешливого внимания чудесных глаз.
Тугарин вспомнил, когда он бывал в этом дворе. Действительно, совсем недавно. И тогда он тоже запнулся об этот же бордюр, в своей серости неприметный, с окружающей серостью солидарный. Он стоял у подъезда, в котором жили супруги Скалыги, точнее, Екатерина Скалыга – жила, Михаил Скалыга – живёт. И Павлик, конечно же, шёл к Михаилу Скалыге и, следовательно, поднялся в квартиру номер сорок один.
Поводок цели ослаб, однако инерция преследования, погони увлекла Гвидона в подъезд и втащила его на третий этаж. Словно сжившийся с бешеной скоростью длинный состав тяжелогружёного поезда.
На площадке третьего этажа наступило состояние мирной уравновешенности. Теперь необходимо было всего несколько миллиграммов силы воли, чтобы, подчинив разлаженный механизм усталого тела, развернуть биологический объект и направить его по лестнице, готовой облегчённой мелкоуступчивой поступью вынести во двор весеннего вечера.
Однако жизненный импульс вражьего обольщения – было бы соблазнительно получить звуковое подтверждение того, что Павлик вошёл именно в квартиру сорок один, - упреждающе переломил Гвидона в пояснице, совместив его ухо с дверным замком. Подслушивать, вроде как, и неприлично, но бесцеремонная мощь представлений о необходимости ломает, словно спички, нравственные стереотипы.
Соединение головы Гвидона и двери квартиры Скалыги оказалось излишне тесным – дверь (её почему-то не закрыли на замок) плавно отворилась. Гвидон выпрямился, почти готовый произнести необходимый набор слов в своё оправдание, но его чуть виноватому взору предстал пустой коридор. Гвидон, собравшись уже прикрыть дверь, подумал, что в любую минуту она может вновь отвориться, причём даже и без вмешательства человека. И тогда уже вмешательство злоумышленника способно легко изменить судьбу некоторых вещей Скалыги. Раскрытие же краж, совершённых свободным доступом, представляет собою немалую сложность.
Тонкими нюансами отягощённая ситуация прекратила своё существование – Гвидон ступил в коридор квартиры под защитой благой целью обеспеченного иммунитета. Необходимо снять замок – английский – со стопора и захлопнуть за собою дверь. Он готов уже был вознести свою руку к замку, когда неразборчивую скороговорку Павлика – он был, конечно, здесь – прервал ощутимо взволнованный голос Михаила Скалыги.
- Да ты что, Павлик?! – воскликнул Скалыга. – Кто тебе мог такое задвинуть?! Я ещё раз повторяю: я не стрелял в Срезнева! С чего бы вдруг?! Да брось ты, я тебе говорю!
Вновь заговорил Павлик. Призвуки нижних обертонов в его голосе преобладали, а уровень его убеждённости в истинности произносимого предупреждал возможные всплески эмоций. И как результат – лишь очень редкие слова его речи достигали слуха Гвидона в узнаваемом виде.
- Подожди! – слышатся волнением кристаллизованные звуки голоса Скалыги. – Срезнев тоже так думает? Или это личный сдвиг? Скажи честно, прошу тебя! Я, ты знаешь, всегда к тебе прекрасно относился. Разве не так?
Теперь Гвидон Тугарин не мог уйти и под угрозой смерти. Павлик обвиняет Скалыгу в покушении на убийство Срезнева!
Гвидон с огромной долей вероятности мог представить недоступные глазу мимику и жестикуляцию Скалыги, но бессилен был разобрать, что же конкретно говорит Павлик, каковы его аргументы. Разноимённая тональность их голосов сама по себе уже требовала объяснения. А ещё вдобавок и безусловность предзаданности неведомыми внешними условиями звучания голоса Павлика.
- Да какая записка?! О чём ты говоришь? Мы, ты же знаешь, каждый день с ним видимся! А телефон! Записка какая-то!
Это говорит Скалыга. Недоумение и возмущение неощупными струйками вливаются в поток его восклицаний. В ответ Павлик, похоже, разъясняет, что записка носит специфический характер и имеет определённую цель.
- Да я понимаю! – отвечает Скалыга. – Но с чего вдруг решил, что записку послал я? Подписи там, говоришь, нет... Что там на меня указывает-то? Анонимка она на то и анонимка, чтобы скрыть, кто её писал. Или подозрение на кого-то бросить!
Павлик долго что-то объясняет.
- Да, задачка… - произносит Скалыга, говорит ещё что-то неразборчивое, потом задаёт вопросы, в паузах выслушивая ответы. – И все эти приметы назвал?.. Он?.. А не сам ли ты это придумал? Ты-то прекрасно знаешь мою внешность. И шрам на лбу, и родинку на подбородке. А?.. А что я должен думать, если я тут ни при чём?.. Но я-то знаю, что я никого и ни с какой запиской не посылал!
В дверь позвонили. У Тугарина было исключительно мало времени. Увлечённый чужим разговором, он и не помышлял о такой возможности. Пригнув голову и прикрыв кистью руки значительную часть лица, он распахнул дверь, со словами «входите, пожалуйста» проскользнул мимо молодой женщины в светло-голубом плаще и, уже не очень торопясь, сбежал по лестнице.
Укрывшись среди кустов, он видел, как Скалыга выбежал на балкон и долго, вытягивая шею, осматривал двор. Гвидону вдруг стало весело, он даже хотел помахать Скалыге рукою, но удержался. Выбежал из подъезда Павлик, и Гвидон вынужден был присесть на корточки, чтобы не быть обнаруженным.
Случай предоставил ему время на размышление. Необходимо подвести итоги – вот только бестактные щупальца взбудораженного сознания всё ещё теребят остроугольный эпизод бегства из квартиры Скалыги.
Обнаруживаются, впрочем, и мягкие грани. Например, бальзаму ласки подобно могущество спокойствия, явленное в краткий миг экстремальной ситуации. Вполне возможно, будущее покажет, что он избрал не лучший из вариантов, но в результатах актов творчества главное – не что, а как.
Жаль, не удалось дослушать разговор до конца. Когда время уходит вперёд, действительность рушится, и лишь пылинки фрагментов реальности цепляются за микромеханизмы людской памяти. А если какое-либо явление (пример – беседа Павлика и Скалыги) воспринимается в половинном виде, да ещё и не во всей полноте ощущений – в этом случае момент обманчивости восприятия можно возвести в квадрат или элементарнейшим образом увеличить на порядок.
В покушении на Срезнева Павлик подозревает Скалыгу. Это однозначно. И почему-то Павлик полагает, что записку Срезневу направил Скалыга. Кстати, на этом факте Павлик и основывает своё подозрение. Какова степень истинности самого этого факта – вопрос. По крайней мере, Скалыга отрицает свою причастность к инкриминируемому деянию, и довольно-таки наступательно.
И ещё. Они что-то говорили… Стоп! Стоп! Стоп!.. Они говорили о приметах. И приметы-то Скалыги как раз и совпадают – это ещё когда можно было заметить! – с приметами того субчика, которого видели Оборкин и пёс Джонни. Вот только... Да, усов у Скалыги нет. Однако обзавестись усами на период совершения преступления – не велика проблема. Идя на дело, преступник изменяет внешность – это так естественно.
Если посылки истинны и логически верно соединены... Гвидон сделал глубокий вдох и торжествующе осмотрелся, словно вдруг очутился на собственном юбилее многолетней сверхпродуктивной деятельности.
СКАЛЫГА, НЕЧИСТАЯ СИЛА И БОГ
На деревянном плосковерхом столбике оградки сидит кот, чёрный, с белым широким галстуком, и с брезгливым равнодушием наблюдает воробьиную суету. Кот, будто бы, не видит взлохмаченную собачонку, не слышит её визгливого лая, влажного, вполне возможно, от паров слюны, закипающей на огоньке бессмысленной злобы. Чтобы быть услышанной, собака забегает вправо, пред очи кошачьи, но кот, прикрыв глаза, поворачивает голову в другую сторону и обращает взгляд на приближающегося Михаила Скалыгу. И собака бежит прочь, с чувством тяжёлым и неясным.
Скалыга оглядывается – бледная клякса солнца брызгами лучей слилась с небосклоном, следовательно, кот щурится не от солнца, а от презрения к нему, к Михаилу Скалыге.
Метеоритного дождя никто не боится. Очень вероятно, в силу персональной ничтожности. Когда же в нескольких десятках сантиметров падает подгоревший кирпич, колючие его осколки с поразительной быстротою поражают счастливчика бациллами мистического транса-ужаса. И воспринимается это проявление многокачественного мира как невербальный знак её величества Судьбы, но никак не в качестве информации внешнего порядка.
Скалыга коротко глянул вверх и тотчас же обернул взгляд куда-то внутрь себя, словно боялся, что конец живущей внутри него (и равнодушно пожирающей свободу желаний) спирали вакуума обнаружится отсутствующим.
Потом он отбежал метра на три назад, на мостовую, и, закинув голову, запрыгал взглядом по лестнице пёстрых балконов. На пятом этаже, слева, женщина развешивала бельё, а чуть ниже, на четвёртом, постукивал молотком пожилой мужчина. Звук упавшего кирпича понудил их отставить на время свои дела и многослойными животами налечь на перила балконов.
В межбалконном пространстве восьмого этажа, облокотившись на перила, стояла и смотрела во двор старуха. Падение кирпича ею, похоже, замечено не было.
Больше никого Скалыга не обнаружил. Не опуская головы, он попятился дальше вглубь двора и продолжил осмотр балконов.
Уже в подъезде Михаил Скалыга обнаружил боль напряжения в области шеи и сообразил, что его голова позорно и ненужно втянута в плечи. Открывая дверь собственной квартиры, он поймал себя на том, что прислушивается к звукам лифта, способного остановиться на третьем этаже и распахнуть свои двери за его спиною.
Зеркала трельяжа могли содержать лишь одно человеческое отражение – его собственное. Но Скалыга старательно избежал общения с миром Зазеркалья – зеркалом возвращённый взгляд мог позволить себе бестактность.
Он пересёк комнату и воздел руку к шпингалету балконной двери, когда только что боковым зрением увиденное несоответствие было признано таковым.
- Этого не может быть! – сказал Скалыга себе.
Он опустил руку и представил себя насмехающимся над самим собою, но вскоре догадался, что это всего лишь беспомощный повод подольше не оборачиваться. Скалыга обернулся. Свадебный портрет, который он своими руками снял со стены и убрал в сервант, висел на привычном месте. Два улыбающихся молодых лица. Не верится, что они по-прежнему улыбаются будущему, которое уже стало прошлым. Более чем наполовину, во всяком случае.
Скалыга повернул голову в сторону серванта. Не сформулировав определённой цели и без осознанного контроля своих действий. Сначала его поразило то, что он так безошибочно поймал взгляд фотопортрета жены, а потом – что портрет стоит там, где и всегда стоял раньше, хотя он собственноручно поставил его в левый угол, повернув к задней стенке серванта.
Образы нездешнего мира утрачивают условность.
Проявляется непроявленное.
Вещественное соответствие обретает то, чего не существует, что создать природа творящая не сумела или не удосужилась.
Несуразности способны захватить весь плацдарм ежедневности.
Мироразумение определяют наличные жизненные ситуации. Следовательно, положительный баланс жизни станет недостижимым.
Он просто сойдёт с ума. Это самый лёгкий способ доказать, что человек привыкает не ко всему, хотя, быть может, и ко многому.
Скалыга укоризненно посмотрел на некстати зазвонивший будильник.
Будильник продолжал звонить.
Всё громче и громче, испытывая жизненность и выносливость Скалыги, его силу и крепость.
Михаил Скалыга не сводил с будильника взгляда и, как мог, успокаивал себя.
Звон будильника разрастался.
Чтобы взорвать то, чему и названия нет, и чтобы жизнеубийственный фонтан возбуждений хлынул во внешний мир.
Наконец Скалыга утерял какую-либо способность к волевой регуляции. Он начал быстро ходить, почти бегать по квартире, переставляя стулья, перекладывая вещи с места на место и стараясь запомнить их новое местоположение. Запомнить – это очень важно!
А будильник – устранить! С чувством сладострастного злорадства он схватил будильник и побежал в ванную. Ванна была пуста. Над нею с готовностью изогнулся излив смесителя, но Скалыга уже заметил, что ванна имела дырку в порыжелом днище. Он бросился в туалет и сунул будильник в унитаз. И выпустил воду из смывного бачка. Уже почти равнодушно он опустил крышку унитаза и, усталый, едва волоча ноги, вышел из туалета.
Но в возможность тишины не верилось. Скалыга прислушался. Тишина терпеливо пыталась прикоснуться к больной душе краткими мигами, всякий раз хладнокровно обрываемыми звонкими сигналами телефонного аппарата. Он снял трубку и поднёс её к уху. Позвонивший молчал, ожидая, судя по всему, что Михаил Скалыга заговорит первым.
- Алло! – услышал Скалыга после неприлично продолжительной паузы. После «о» звука «вэ» не было, однако он подразумевался. Таким вот образом произносила это слово его жена. – Скажите, пожалуйста, это коммерческий магазин? Я правильно набрала номер?
Показалось, что голос похож на голос его покойной жены. Следовало ответить, что это не магазин, а квартира, и положить трубку, но Михаил Скалыга счёл необходимым схитрить.
- А в какой, простите, коммерческий магазин вы звоните? – спросил он. – Коммерческих магазинов, знаете ли, очень много.
- А я и не помню название. Мне дали телефон и сказали, что там кофты из ангорки имеются.
- Кофты из ангорки сейчас только в банях не продают, - заметил Михаил, обдумывая следующий ход. – А кто, простите, вам телефон дал?
- Разве это имеет какое-то значение? – неизвестная женщина по-прежнему говорила голосом жены и ни разу, кажется, не сфальшивила. – Вы ответьте-ка… Я туда попала, скажите?
- Нет, просто бывают очень похожие голоса.
- Что? Что? – спросила женщина, и Михаил Скалыга готов был усмотреть оттеночек насмешки.
- Вы ошиблись! – торопится Михаил. – Номера очень похожи... некоторые. Это квартира. Но если вам нужны пуловеры из ангорки...
Женщина что-то говорит, вроде как насмешливое, и кладёт трубку.
Скалыга, развернув кресло, сел в него и стал рассматривать узоры ковра. Строгие симметрии ковра надёжны и ненавязчивы. А жизненные несуразности следуют одна за другой. Их методичность и стадиальность вполне можно использовать при построении какой-нибудь формулы, в которой и совместить все утверждения наблюдения.
Но это – задача сложная. Это более опасно, чем бесконечно долго вглядываться в один из неудачно выбранных узоров ковра. И что касается пользы… Божья воля на пёстром фоне текущей действительности выглядит скромно и неприметно.
Всю тяжесть чувствований переместить на диван, а самому ускользнуть в состояние бесшумного сна! Почему он не сообразил этого раньше? Михаил Скалыга перебирается на диван и горящей щекой собирает прохладу подушки. Из радиоприёмника слышится мелодичная песня, но слов не разобрать. Не открывая глаз, он поднимает руку к приёмнику и прибавляет громкости. «Лишь только спящему ему бывает хорошо по-настоящему», - звучат слова песни.
- Что?! Что это? Что это такое?! – вскакивая на ноги, кричит Скалыга. – Когда это кончится?! – И вырывает из розетки провод радиоприёмника. А затем принимается бегать по квартире. – Или это не кончится никогда? Что же, так и будет всё это продолжаться? Муки ада – с доставкой на дом? Хорошо! Что следующее? Я ко всему готов. Сейчас я буду ко всему готов! – оборачиваясь назад, словно кто-то мог его услышать, выкрикивает уже ухватившийся за ручку холодильника Михаил Скалыга.
Когда в дверь позвонили, он уже пил водку и попутно беседовал с Богом.
- Ты ждёшь меня, злопамятный и вредный старик! – с издёвкой бросил Скалыга, небрежно скашивая нетвёрдый взгляд себе за спину. – Ждёшь, я знаю... А я живучий. Только нервный немного. Жизнь ухватила за грудки и трясёт... Но я вы-ы-ырвусь, вы-ы-ырвусь...
Михаил Скалыга не мог бы похвалиться даром веры – в эфирной среде винных паров разыгралось его воображение. Он скорее бы согласился считать себя автономной биоэнергетической единицей космоса, чем-либо вроде индивидуального энергоинформационного комплекса. Да и это потому лишь, что субстрат восприятия всего сущего имел безобразное лицо яростных до бешенства и мелочных до изящества грязных страстей.
К тому же в прекращение и собственной-то жизнёшки верить не хотелось – не то что во всеохватное ничто. Базовой программы выживания не быть не может – иерархическое строение мироздания не вызывает сомнений. А чтобы представить варево жизни в необитаемой и безответной безграничности, бескрайности, безмерности, надо иметь особые мозги.
В этот раз дверь оказалась закрытой, и Тугарин воспользовался звонком.
- Добрый вечер! Узнали? – сдержанно улыбаясь, поздоровался он. – У вас, я так понял, кто-то в гостях?
- Нет. Никого, - ответил Скалыга и, забыв поздороваться, пьяно уронил голову на грудь. – Хотя я и сам не знаю. Может, нечистая сила.
- Но вы с кем-то разговаривали. Я и подумал, что у вас кто-то есть. А вообще-то я поговорить зашёл.
- Ну так... - Скалыга вздёрнул плечи, разведя руки в стороны, и задумался, не будучи способным сообразить быстро и верно.
Ситуативный мотив (разговор с нетрезвым Скалыгой манил перспективами) подстегнул Тугарина, и он несколько торопливо обошёл истуканистого Скалыгу и сбросил туфли.
- Вы, я вижу, не совсем гомо эректус, - говорил Гвидон Тугарин, идя следом за Михаилом Скалыгой в гостиную.
- Что? Что?
- Я говорю – вы сегодня не совсем уж чтобы человек прямоходящий. Может, мне завтра зайти? – спрашивал Тугарин, а сам откровенно осматривал комнату в ожидании приглашения присесть (прогнать его сейчас было бы трудно). – Или вы бы… Я бы повестку оставил, чтобы не забыли.
- Не-не, я почти что в норме! – возразил Скалыга. – Вот сюда, пожалуйста. Я трошки расслабился. Мал-мало, совсем ничего. Крыша, правда, вроде как... В неизвестном направлении незаметно…
- Я понимаю. Иногда организм требует. Как в вашем случае. Вырваться, хоть ненадолго, из тяжёлых реалий, в психоделическое, что называется, путешествие закатиться. Жена же...
- Да-а-а... - тяжело усаживаясь, согласился Скалыга. – А вы не женаты?
- Нет пока.
- Оно и к лучшему, - одобрил Скалыга, но сам же и спросил: - А что так? Я вот второй раз был женат. Да.
- Как говорит мой шеф, в поле все цветы красивые, домой принесёшь – вянут.
Скалыга посмотрел на Тугарина пристально, без улыбки. Он, по всей видимости, шутки не понял.
Лицо Михаила Скалыги состояло из печальной верхней половины и тяжеловатой нижней, соединённых сравнительно небольшим носом. Гвидону всегда нравились такие лица у собак. Подобные лица очень неоднозначны, они поддаются перевоплощению под влиянием минимума косметических средств. И нередко от какого-нибудь пустяка, такого, например, как угол зрения, зависит формирование вывода о том, доброчестивую ли жизнь благородного героя ведёт владелец такого лица или, напротив, жизнь мерзкого злодея с бесследно изъятой душою.
Пить Тугарин отказался.
- Вы – как вам угодно, а я работаю сегодня. До двенадцати, - отговорился он, солгав легко, без какого-либо напряжения, ибо – во благо. – Заставляют нас. В связи с усложнением оперативной обстановки.
Тугарин решил не спешить, раскрепощённого алкоголем собеседника ещё более расслабить безобидным разговором на темы общежитейские. Однако скоро он уже с методически возрастающей тревогой наблюдал за сообщением двух сосудов: бутылки и рюмки – Скалыга пил понемногу, однако с патологически нетерпеливым прилежанием.
Гвидон пробовал даже приурочивать свои вопросы к моменту, когда рюмка отделялась от стола и готова была взмыть вверх, к заблаговременно отворённому рту. Но всякий раз безуспешно. Молчаливым жестом указательного пальца Скалыга просил паузы в разговоре и доводил начатое до конца. Только установив на журнальный столик опустошённую рюмку и закурив очередную сигарету, Скалыга, без энтузиазма, неохотно, через силу косясь на Тугарина, отвечал на заданный вопрос, произнесённый Гвидоном к этому моменту на всякий случай повторно. Почти неподвижные губы Скалыги освобождали речь его от звуковых образов, роняя неузнаваемо измятые слова. Иногда вместо ответа на вопрос Михаил Скалыга вслух отвечал на свои метафизически тяжёлые мысли.
Человек не способен увидеть себя моргающим, даже если он стоит у зеркала и смотрится в отражение собственных глаз. Тугарину же было неимоверно трудно. Направленной сосредоточенности его специфически познавательной деятельности непоследовательностью Скалыги причинялся ощутимый ущерб.
- Кстати, - Гвидон дотронулся до руки Скалыги, невольно обозначая важность подготовленного вопроса, - позавчера я вас в театре видел. Как вам спектакль?
- В театре? Позавчера? – переспросил Скалыга. – В театре сто лет не был. Честное пионерское, не пить мне до самой смерти.
И потянулся к бутылке.
- Не может быть! Да я уверен, что вас видел. Я ещё подойти хотел. В двенадцатом часу вы разве не в театре были?
- Не-не. Какой театр? Где я был позавчера?.. Дома сидел. Поужинал, телевизор… Спать потом завалился.
- В гостях у вас кто-то был? Друзья-то, говорю, не забывают?
- Не, никого не было. Какие друзья? Нужен – не нужен. И насколько нужен. Друзья там, в старой жизни. А сейчас... - Скалыга неохотно махнул кистью руки и скривился. – Если куда-то подставить, друг найдётся... Если жизнь отвергнет, за что зацепиться? Кирпич падает... Ему неоткуда упасть, а он всё равно… И – фотографии… Я же не сумасшедший, я-то знаю!
- Но Срезнев, думаю, вас не бросает в несчастье? Общее дело у вас, как-никак.
- Какое общее дело? – переспросил Скалыга, придерживая рюмку на уровне груди.
- Да фирма ваша, малое предприятие. Или вы уже товариществом с ограниченной ответственностью стали?
- Да, общее... - после паузы, вызванной технологическими причинами, ответил Скалыга. – Ответственность – ограниченная. Вброд… Где одному по... пуп, другой… И захлебнуться, знаете, можно. Я сам убрал фотографии, я же не псих. А радио? Я на диван, а оно – «лишь только спящему…» Что? Как? А? Ко мне Белькова, а дверь... неизвестно кто... И ещё – входите, говорит. А? Как? В чужую квартиру – пожалуйста, заявляет. Это как?
Скалыга повернулся к Тугарину и посмотрел на него протрезвевшими на миг глазами. Гвидон, не ведая, что метаморфоза с просветлением взгляда собеседника вызвана вспышкой отчаяния, поспешно увернулся, преувеличивая интерес к оседлавшим вершины коленей пылинкам.
Скалыга помолчал и шумно выдохнул:
- И ещё не всё... Но я знаю, откуда ветер… - добавил едва слышно.
- Откуда же?
- Я знаю! – мрачно изрёк Скалыга, и было ясно, что он упёрся в тупик отчуждения и одиночества – даже назад не сразу вытащишь.
- А со Срезневым у вас отношения, я так понял, натянутые? Проблемы какие-то есть? – выдержав паузу, заговорил Тугарин.
- Сколько угодно. По проблеме на каждую тыщу вложений… совместных. И ещё всякие...
- И какие же, если не секрет?
- Да. Вот именно – секрет. Сплошные тайны. Мрак. Я за чертой. И никого уже не позовёшь. И если не сам, то… никто... Деньжата, правда, есть... Но деньги, опять же, не у меня одного. Да и что деньги?
Михаил Скалыга махнул рукой, очень неосторожно, и только что опущенная на поверхность столика рюмка упала на ковёр. Он привстал, желая нагнуться за рюмкой, но утратил равновесие и завалился в сторону, уткнувшись головой в раскинувшуюся на треть столика чугунную пепельницу.
- Вопрос: мордой в пепельницу меня – кто? – спросил Скалыга, выскребая из волос окурки и пепел, и мрачно покивал головой. – Этого никто не знает... Я сам не знаю. – Скалыга впал в оцепенение, затем встряхнулся, встал, сказал: - Пардон!
И отправился в ванную комнату. Войдя спустя несколько минут в ванную, Тугарин обнаружил Скалыгу стоящим на коленях и неспешно посыпающим задумчиво склонённую голову светлым порошком. Гвидон подумал, что ему следует вмешаться в столь замысловатый очистительный процесс, и вынул из руки Скалыги коробку с порошком.
- Предназначается для чистки, дезинфекции, дезодорации и удаления устойчивых загрязнений: мочевого камня, отложений солей жёсткости, ржавчины... - вслух прочитал он, вздохнул и, сняв пиджак и засучив рукава сорочки, принялся за мытьё чужой головы.
- И кому, скажите, нужна... была нужна... эта голомо... гомоло... гламо-мойка? – Скалыга, очевидно, решил, что настала его очередь задавать вопросы.
Освежающего эффекта водные процедуры не дали – Михаила Скалыгу развезло ещё больше. Он что-то лопотал, его реплики, вопросительно интонационированные, неотчётливыми бумерангами чертили воздушное пространство квартиры и пропадали без следа. Всё более мутнея разумом, он скоро начал выкрикивать нечто, что никоим образом не могло удовлетворить уже ни синтаксическим, ни семантическим, ни прагматическим критериям осмысленности.
И Гвидон понял, что пришла пора откланяться и уйти, ибо время уже позднее, а завтра снова на работу.
ПОРТРЕТ АВТОРА ЗАПИСКИ
С утра Гвидон Тугарин решил заскочить к экспертам.
- Доброе утро, Аркадий Иваныч! Расселись и зеваете, словно этой ночью все экспертизы закончили, - входя в кабинет Томилова, заговорил Гвидон.
- Здорово! – прерывая зевок, выдавил из себя эксперт-криминалист и пожал протянутую руку. Затем, с трудом проталкивая слова сквозь незамедлительно явившийся следующий зевок, сказал: - Зачем пожаловал, рассказывай!
- Вы, Аркадий Иваныч, я смотрю, впали в спячку и душевный гомеостаз. Такое впечатление, что сегодня зарядочку не сделали, не пробежались с утречка и холодный душ не приняли.
- Какой там душ! – перекривился лицом и телом Томилов. – До двух часов в ящик пялился.
- Аркадий Иваныч, результаты почерковедческой позарез нужны. На какой стадии работа? – Тугарин присел на край стула и смотрел с надеждой.
- Занимался я, - Томилов нехотя потянулся через стол и безошибочно извлёк из вороха бумаг нужные листы, добросовестно скреплённые, - но ещё не оформлял. Сегодня сделаю, если ничего сверхсрочного не будет.
- И каково же заключение будет? – Гвидон вытянул шею и зашевелился на стуле.
- Ну что тут можно сказать? – Аркадий Иванович зашуршал листами бумаги, с отвращением на них поглядывая. – Налицо изменение стиля, если, конечно, оставаться на позициях атеизма. А мы ведь с тобой, дражайший Гвидонша, атеисты, не так ли? В этом случае получается, что лексика богатая, архаизмы, профессионализмы и тэпэ. Маскировка почерка, следует также отметить, под печатный шрифт имеется, точнее, близкий к печатному, некое подражание.
- Это всё понятно. Давайте дальше. Не священнослужитель писал? Как думаете?
- Вряд ли. Грамотный человек писал.
- Михаил Скалыга – грамотный, что и говорить. Верхнее образование.
- Идентификационных признаков, понятно, не очень-то много. Тех, по крайней мере, которые могли бы иметь большое значение для идентификации. Но человек грамотный писал...
- Ну-ну, ясно! – поторопил Аркадия Ивановича Тугарин, подстёгиваемый нетерпением.
- Выработанность почерка, говорю, высокая. Вот тут смотри. Видишь? Пишущий всё время придерживает себя, чтоб только по печатному получалось, но срывается иногда. И всё-таки можно предположить, что связность достаточно высокой должна быть. Поэтому вполне вероятно, что автор записки и исполнитель – одно и то же лицо. Хотя, конечно, это и не обязательно.
- Мог, уверен! – воскликнул Гвидон. – И сочинить, и написать. Он всё мог. Я его уже как брата родного изучил.
- Но с уверенностью могу сказать, что, скорее всего, текст был заранее написан, а уж потом переписывался на чистовик, который мы и имеем перед собой. Никаких помарок, исправлений – работа чистая. Видишь? И намерения у них – серьёзные.
- Почему так решили?
- Ну-у, общее впечатление... Даже подписи нет. Черновичок интереснее бы оказался, конечно.
- Но нет его – что о нём… Хотя, естественно, будем искать. У Скалыги обыск проведём, ещё кое-где пошарим.
- Что ещё можно сказать? Почерк по размеру средний, пожалуй. Или даже крупный. Почти вертикальный по наклону, округлая форма движений... Усложнённый, скорее всего. С полной уверенностью, сам понимаешь, не скажешь. Из-за маскировки под печатный.
- Всё ясно! – ожил Гвидон. – Всё это в полной мере соответствует почерку Скалыги. Разве не так? Перелистайте дальше. На образцы глянем.
- Ты прав, пожалуй, - Аркадий Иванович сделал паузу, - был бы... - добавил он и заметил, что Тугарин под грузом недоброго предчувствия слегка осел на стуле. – Был бы прав ты, Гвидонша, если бы эта записка не была написана женщиной. Вот так. Так что несите новые сравнительные образцы.
- Что же вы мозги-то мне пудрите столько времени? – с упрёком сказал Гвидон и не стал скрывать, что расстроился. – Такие приколы, Аркадий Иваныч, должен вам заявить, разъедают дружескую основу наших отношений. Сказали бы кого искать, а потом образцы требовали. А то придумали тоже – женщина!
- Женщина.
Теперь уже Гвидон просто возмущён.
- Да с чего вдруг женщина?!
- Частота встречаемости различных признаков – применительно к половой принадлежности обследованных. Статистика такая есть. Коэффициенты имеются, формула специальная.
- И это – железно?
- Да как тебе сказать? Теория вероятности...
- Ну вот – теория вероятности! Скажите тогда уж – блондинка или брюнетка по вашей теории получается?
- Женщина молодая, симпатичная, достаточно стройная, полагаю. И пользуется хорошими духами, если, конечно, не одеколоном вашего брата записка попахивала. Я не особенно в этом разбираюсь, Гвидонша.
ГВИДОН ТУГАРИН НАДЕВАЕТ МАСКУ ХУДОЖНИКА И ВОЛОКИТЫ
Пообедав в кафе «Сирень» и получив в гардеробе свою куртку, Гвидон Тугарин в одной из вышедших из малого зала молодых дам неожиданно быстро, с первого взгляда, в общем-то, узнал ту самую девушку, которая позавчера вечером приходила к Скалыге. Измени она причёску, надень другие очки – он, возможно, и сомневался бы. Но этого не случилось, и молодая женщина была стопроцентно позавчерашней.
Знакомство с нею могло бы пригодиться. Сделать это можно, не злоупотребляя служебным положением, организовав, скажем, случайное знакомство. А оказаться узнанным ему не грозит – лица его она не видела и одежда на нём сегодня иная.
«Это дело добровольное: родился – живи», - мысленно усмехнулся Тугарин. Штрихи самоусмешек среди ежедневности – своего рода психологическая коррекция, предварительная и предваряющая.
Он почти замер у зеркала, его организм – в ожидании сигнала к действию. Всё, что способно породить движение (энергия, материальное начало), сместилось в ближайший тыл глазам, вниманием напряжённым. Только руки продолжают машинально затягивать петлю галстука.
В тот момент, когда она отвернётся к зеркалу, чтобы с элегантной безупречностью уложить шарф вокруг шеи, он стремительно, но плавно (на цыпочках?) преодолеет разделяющее их расстояние. С таким расчётом, чтобы она заметила его лишь в самом конце манёвра. И, когда она обернётся с застрявшими около шеи кистями рук, он предстанет перед нею, держа в разведённых на ширину плеч руках её плащ. «Сударыня, вы позволите мне оказать вам (Вам) эту маленькую услугу?» - исключительно спокойно, голосом не ожидающего отказа человека произнесёт он.
И она, конечно же, охотно позволит. Ну а если возникнет непонимание, он явит величайшее смущение, в состоянии которого даже самой жестокосердной женщиной (а таковых крайне мало) мужчина оставлен быть не может.
Шее – очень некстати – стало тесно в объятиях галстука, и перемещение его, так хорошо задуманное, было оркестровано кашлем. Гвидон, тем не менее, вовремя схватил плащ и, мучительно удерживая кашель, отчего глаза его оказались чрезмерно вытаращенными, затряс этим плащом перед молодой женщиной. Она взглянула на Гвидона с недоумением и сделала попытку обойти его.
- Э-э, пожалуйста! – запротестовал Гвидон. – Кхе! Кхе!
- Нет-нет! – пятясь и пряча руки пониже груди, сказала женщина. – Я – в своём...
Гвидон пуще прежнего (хотя куда уж, казалось бы) округлил свои глаза, однако та, улыбаясь, проследовала мимо.
Прошло совсем мало времени, и Гвидон всё понял. Прошло не более двух секунд, в течение которых девушка успела лишь сделать пару шагов и, нагнувшись, устремить руку к лежащему на скамье плащу, а её спутница, сия всем своим существом, включая и беззастенчивые краски бурного макияжа, возникнуть перед Гвидоном. И Гвидон сейчас же понял: он ошибся, он перепутал плащи двух подруг. Плащи, исполненные в прозрачных голубых тонах, были так похожи.
- Вы очень галантны, молодой человек, - произнесла стоящая перед ним хозяйка плаща, и Гвидону показалось, что радуги светоэффектов насмешливо разгуливают по её лицу и всему телу. – Я вам очень-очень благодарна.
Она повернулась к нему спиной и пингвиньи крылышки рук выставила навстречу разинутым рукавам плаща. Гвидон – ему хотелось хотя бы частично нейтрализовать возникшую неловкость – поспешил поскорее облечь даму в её плащ. Но потерпел неудачу – руки не попали в рукава. Он разволновался от этого ещё больше и, неосторожно комкая в руках плащ, нагромоздил одну за другою ещё с десяток попыток, столь же неудачных. Требовалась пауза, чтобы отыскать отверстия рукавов, однако, очевидно, ветерок смущения рассеял лёгкое облачко ментальных энергий – Гвидон не мог принять верное решение.
На помощь ему пришла желающая поскорее одеться женщина.
- Вы, несомненно, джентльмен, это сразу видно, но дам, похоже, не часто одеваете, - сказала она, обернулась к незадачливому ухажёру и довольно быстро отыскала сначала один рукав, а затем и другой.
И оба облегчённо вздохнули.
Одетая с его участием «дама» поблагодарила Тугарина, смутив его окончательно, и присоединилась к своей спутнице. Гвидон взял куртку, ожидавшую его на прилавке гардероба, надел её и глянул в направлении двери, желая убедиться, что девушки вышли наружу.
Однако оказалось, что это не так. Они стояли возле двери и смотрели на него. Гвидон с тревожной растерянностью сосредоточил внимание на их лицах – углы губ и прищуренные глаза не могли утаить задор веселья. Гвидон, вместо того, чтобы улыбнуться – видно, все связи между нейронами его мозга пообрывались и поперепутались, - неизвестно зачем нахмурился, словно протестуя против чего-то и демонстрируя невзрослую неосновательность и глупость.
Одетая в измятый Тугариным плащ женщина приподняла руку и поманила его пальцем. Гвидон отправился на зов. В эту минуту ничто не обличало в нём поборника изысканной элегантности, светскости и рафинированной утончённости во взаимоотношениях с представительницами прекрасного пола. Мрачное наследие недавних неудач. И теперь подобный неуютному панцирю комплект рефлекторных спазмов и вялое, унижением неуспеха потушенное сознание определяли стилистические особенности мышления и действования Гвидона.
Он добрёл до ожидавших его молодых женщин и в принуждённой улыбке растянул губы.
- Молодой человек, вы нас не проводите? – услышал он. – А заодно и познакомились бы. Нам показалось, вы с кем-то из нас хотели познакомиться. Правда, не поняли, с кем.
Тугарин перевоплотился в более естественно улыбающегося человека. В ответ на предложение назвать своё имя он послушно это сделал, затем воспринял с вежливостью в лице благозвучие двух женских имён, которые, к огорчению своему, тотчас забыл, и, водительствуемый динамическим стереотипом, пожал ручки дам и отворил тяжёлую дверь.
А между тем, с ним произошло непредвиденное и, как правило, непредвидимое.
Человек может бежать по жизни легкомысленным молодым эрдельтерьером или многодумным ответственным мужем таранить жизненные обстоятельства – это мало зависит от способа освоения действительности. Достаточно того лишь, чтобы не был атрофирован эстетический вкус. И это так же естественно, как, например, естественны периоды космических возмущений окружающей среды или как, к примеру, закономерны эти редкие случаи высших духовных состояний, когда мир переворачивается – и мы видим перед собою звёздное небо.
Можно быть бесчувственным к разнице между нотами в пять тонов и, тем не менее, вычленить камерную музыку напряжённой гармонии, когда одноголосие ниточки контактной биосвязи захлёстывает сердце и увлекает в невесомость неведомости. И речь не идёт о влечениях, возникающих из устройства человеческого организма под действием всевременных соблазнов и обольщений. Речь об ином, а именно – о полном, безусловном и безоценочном принятии, что есть любовь.
Гвидон не мог бы похвалиться, что, знакомясь с заинтересовавшей его девушкой, достаточно отчётливо её увидел и подробно рассмотрел – велика была в ту минуту концентрация всех представлений на ещё живых травмирующих моментах. Он запомнил светло-синие глаза среди насыщенных оттенков голубой и розовой гаммы и в обрамлении тёмно-пепельного каре волос. Он почувствовал, что одежда неброских и ласковых цветов окружает её нежностью и прохладой одновременно. В форме предчувствия он с каким-то даже удовольствием пережил неопределённое и расплывчатое ощущение сладостной горечи.
«Надо же! – мысленно воскликнул Гвидон. – При исполнении служебных обязанностей... Надо взять себя в руки». Главное – не забыть, для чего он хотел познакомиться (и это уже осуществилось) со знакомой Михаила Скалыги. Он должен узнать, что её связывает с ним и не она ли была исполнителем записки. С наскока все вопросы не прояснишь – ему следует познакомиться с нею поближе.
Целостность логических связей уже восстановлена, но вот как выскочить из цепенящей эманации любовного очарования, преувеличивающей значение слов и движений? В разговоре же необходима улыбчивая лёгкость, придающая репликам впечатление непринуждённых шуток.
К радости Гвидона нашлась посредница, которая по собственной инициативе взяла на себя роль координатора в созидании словесного декорума, предоставив ему спасительную возможность отвечать на вопросы анкетного значения и потихоньку набираться жизненных сил.
- А это интересно – быть художником? – спрашивала она (Гвидон представился художником), и сияющий её взгляд недвусмысленно подсказывал Гвидону ожидаемый от него ответ. – Я обожаю людей творческих. Ты – ой, я уже на «ты» перешла! – ничего?.. («Пож-пож-жалуйста!» - взмахнул обеими руками Гвидон). Ты знаешь?.. Нет, ты же не знаешь, кем работает Полина! (Так он установил имя одной из двух новых знакомых). Она работает… Извини, Полинка, ты, конечно же, служишь, а не работаешь. Она служит в театре. Актриса!
Гвидон, поклонник местного драмтеатра, забежал чуть вперёд и повернулся к Полине.
- Вы – Полина Белькова! – воскликнул он. – Вы играете превосходно! Я вас запомнил ещё в спектакле...
И замолчал. Он изумился вдруг тому, как вспорхнули испуганно ресницы его собеседниц, а их лица стремительно, словно отбеливающая волна вмиг смыла с лиц всю косметику, побледнели. Мгновением позже за его спиной раздался скрип автомобильных тормозов, и Гвидон метнулся к девушкам, чтобы оттолкнуть их в сторону, однако, в прыжке обернув голову назад, он увидел знакомый автомобиль цвета грязной охры, с энергичным кивком замерший у самого бордюра.
Тугарин бросил все свои силы на борьбу с инерцией движения собственного тела, но сил этих не хватило, и он оказался в объятиях Полины, под флагом отчаяния к нему примкнувшей всем своим телом. На тротуар они упали вместе, молчаливой связкой. Позитивной стороной данного несчастья явилось то, что Гвидону удалось добиться, чтобы нежеланное соприкосновение с асфальтом осуществилось посредством его именно спины, более пригодной для неприятностей подобного рода.
В момент соединения с асфальтом он ещё успел заметить в приветственном жесте замершую руку с огромным камнем запонки цвета луговой зелени, но в следующий миг и автомашину, и бестактно растущую из неё руку закрыла копна рухнувших на его лицо ароматных волос.
Когда Тугарин и Полина поднялись на ноги, чтобы отряхнуться и привести себя в порядок, Хряпин, покинувший к этому времени место за рулём, уже вступил в разговор с подругой Полины.
- Видите, что вы наделали, хулиган бессовестный? – с капризным жеманством выговаривала ему молодая женщина и остреньким прогнувшимся пальчиком указывала в сторону потерпевших. – А теперь – «простите, пожалуйста»? Каков! Нет, вы только посмотрите!
- Я просто умоляю простить меня! – отвечал Хряпин. Коммуникационное наполнение – мимика, жестикуляция, интонации – было в наличии, но использовалось им с весёлой небрежностью. – Я готов бросить на асфальт собственный пиджак и встать на колени перед вашей подругой и вами лично.
- Пиджак? Зачем его бросать?
- Чтобы не испачкать брюк, когда паду ниц. Видите ли, если бы не крайняя степень необходимости, ваш покорный слуга промчался бы мимо. И в этом случае никогда, по-видимому, нам не представилась бы возможность познакомиться. Однако всё дело в том, что мой коллега входит в группу захвата. Я вынужден забрать его с собой. А без него, должен заметить, трудно будет провести операцию без людских потерь.
- Что-то я не понимаю… - спросила Полина. – Что вы собрались захватывать?
- Да ещё с людскими потерями! – добавила её подруга. – Вы же художники! А у художников, насколько я знаю, такие потери обычно происходят на почве пьянства.
Хряпин удивлённо взглянул на Тугарина и увидел, что тот из-за спин новых знакомых демонстрирует ему предназначаемую предупреждающую гримасу. И Хряпин мгновенно сориентировался.
- Значит, присутствующим, Гвидон, - сказал он голосом слегка разочарованного человека, - уже известно, что мы с тобой художники? Да, получилось не совсем удобно. И виновата в этом, как всегда, моя скромность.
- Ой-ой, вот уж действительно – скромность! – воскликнула подруга Полины.
- А я всегда думала, - поделилась своими мыслями Полина, - что скромность увлекает в заводскую, скажем, стихию или в поля урожайные. Что скромные работают на токарных всяких там станках, на слесарных... Только не художниками.
- И тем более – там, где людские потери бывают, - прибавила подруга Полины, чтобы не осталось сомнений, что шутка Хряпина понята и принята.
- Согласен. Меня разоблачили. Однако таких много, должен заметить. В шахту, например, лезут, я бы сказал, уже не совсем чтобы уж скромные. Кстати, Гвидон, - Хряпину необходимо было разобраться в ситуации, - ты почему никогда не знакомил меня со своими очаровательными знакомыми? Я, конечно, ничего не скажу, но я за-пом-ню.
- Да мы только что познакомились, - сказала подруга Полины.
Гвидон покивал, а затем объявил:
- Знакомьтесь, Шурик («Побудь-ка Шуриком!»). Мы с друзьями часто называем его Шуриком Балагановым («Это ещё лучше!»). – Гвидон повернулся к Полине и представил её: - Полина Белькова, актриса драмтеатра, и её подруга... - Гвидон сделал паузу, в его положении неизбежную. – Да-да, и Кристина, - воспользовался он подсказкой.
Хряпин терялся в догадках. Ему, вроде бы, ясно было, что Тугарин Полине и Кристине представился художником не в целях волокитства, однако то обстоятельство, что вид Гвидон имел не рабочий, его смущало. Впрочем, учитывая уровень привлекательности новых знакомых, вполне возможно было допустить, что по вине одной из девушек, скорее всего, Полины, знакомство специального назначения дало эффект сопутствующего характера.
Как бы то ни было, он, «Шурик», должен вести себя достаточно определённым образом, что вполне созвучно чувственной музыке его устремлений. И вскоре Хряпин вслух строил планы совместного времяпрепровождения, с непринуждённостью предлагая свои варианты.
- Лично я, - говорил он, - страшный гурман. Обожаю хорошую кухню. Как насчёт галантина заливного и судака, фаршированного крабами? Под водочку. Как на это смотрите? Кстати, в этом случае крабов и судака можно заменить селёдкой.
- Пить водку? А почему не шампанское?
- Шампанское?! Что вы! Только водку! Одна бутылка водки сближает больше, чем семь бутылок шампанского. Установлено одним моим товарищем. Экспериментальным путём, кстати.
- Ах вот оно что! Каков! – воскликнула Кристина, отнюдь не возмущённо. – Так значит, вы желаете близости! Ну, Шурик! А не хотите ли вы узнать, Шурик, что мы замужем?
- Процентов на пятьдесят, - уточнила Полина. – Но мы только что пообедали.
- Брак – святое дело, - вздохнув и напустив на себя серьёзности, заявил Хряпин. – Последний вопрос, Кристина. Неосторожно подвергшихся вашим чарам, а затем сражённых наповал последним сообщением интересует… Да, мне вот что интересно. Отвечает ваш муж предъявляемым требованиям?
- Что-что? Я что-то не понимаю.
- Хотел спросить, является ли ваш супруг мужем безмерно вас обожающим, заботливым? – Хряпин смотрел на Кристину соответствующим произносимым эпитетам взглядом и убирал незримые пылинки с её плаща. – Является ли он нежным и, в то же время, пылким до безрассудства? Или – так, компаньон брачного сожительства?
- Нет, он у меня, как вы и сказали, нежный и пылкий. И заботливый.
- В таком случае… вынужден вас поздравить.
МНОГОЗУБЫЙ СМЕХ ПАССАЖИРОВ ТРАМВАЯ
Маленькие люди редко совершают великие глупости.
Гвидон Тугарин допустил неразумно огромную оплошность. Без каких-либо оснований и в более чем неблагоприятных для того условиях. Он попал впросак при исключительных обстоятельствах.
Господь Бог дал ему всё: достаточно здоровое физическое тело, активную волю и познающий разум. Его автономная личность обладает всеми возможностями свободу своих побуждений облекать в наряды разумного содержания. Противостоит же всему этому лишь косная сила забот материальной жизни, которая, как выразились бы в старину, без всякой причины и вида справедливого основания гвоздит трудовые будни печатью идиотизма.
Вечером Тугарин и Полина собрались в театр. Гвидон надел свой лучший костюм, серую тройку в бурую полосочку, окропил себя одеколоном франко-советского производства, нацепил малинового цвета бабочку, малиновым же шёлком платочка вспенил нагрудный карман пиджака и насовал денежных купюр разного достоинства в карманчики жилета. А про то, что художникам не предоставлено право бесплатного проезда в общественном транспорте, он забыл. И вспомнив об этом в трамвайной толчее, значительно позднее, конечно же, того, как узнал о наличии проездного у Полины, он вынужден был, не прерывая непринуждённо пульсирующей беседы, расстёгивать плащ и пиджак, извлекать из карманчиков жилета скомканные листочки денег и в поисках купюры требуемого достоинства перебирать их притиснутыми к туловищу руками.
И вот именно в этот отрезок времени – ничтожной, в общем-то, продолжительности – трамвай с недопустимой резвостью отправился с очередной остановки. Тугарин, беспечно доверившийся профессионализму водителя трамвая, потерял равновесие и начал заваливаться назад. Мелькнула мысль, что теснотою сближенные тела окружающих пассажиров не позволят ему упасть, и Гвидон поддался легкомысленно оформившемуся убеждению.
Однако случилось непредставимо иное – он упал на пол трамвая. Ничто существенным образом не помешало его падению. И затем Гвидон – в совершенном от удивления бездействии – лежал на этом полу, как ему потом представлялось, безосновательно долго.
А всего несколько секунд тому назад Гвидон готов был вообразить: он – в эпицентре жизни. И не секунды, не минуты, а десятки и даже уже сотни минут предыдущей жизни для него равнозначны были тому, чем для дирижёра и оркестра является начало предпоследнего акта. Он жил, казалось, исключительно полной жизнью и совершенно не подозревал, что максимальное включение в реальность ещё предстоит.
Два веера лиц образовали круг, они блестят глазами и разноцветными зубами улыбок. Гвидон мгновенно выявил лицо Полины и вспомнил элегантную фразу: «Падам до нужек шановни пани». Эти слова он произнёс всего несколько часов тому назад, уговаривая Полину отправиться с ним в театр. Вспомнил и покраснел. И понял, ну, осознал в полной мере, что все смеются над ним и хохот и смешки разных оттенков разгуливают под сводами трамвая.
Восприятие человеческих эмоций может изменяться. Веселье же окружающих явило образное впечатление омерзительности. Иначе и быть не могло, ибо скромнейшее мимическое движение грозило Гвидону болезненными ощущениями. Эти же смеются громко и многозубо. Гвидон не мог быть вместе с ними. Он поспешно поднялся на ноги. Это был интегральный акт всего организма. Что следовало делать дальше, он не знал. Отряхивать плащ и заднюю поверхность брюк? Состояние одежды обеспечивало наличие мёртвой зоны за его спиной, однако с боков Гвидона сжали с прежней бесцеремонностью.
- Наша остановка, выходим, - шепнула Полина.
Тугарин с усилием повернул втянутую в плечи голову в сторону окон трамвая. Полина была неправа – впереди ещё два перегона. Однако спорить Гвидон не стал. Он опустил глаза вниз и приступил к ходьбе на месте, невольно обозначив таким образом и согласие своё, и даже некоторое нетерпение. Спустя несколько томительно медленно отживших секунд он уже пробирался к выходу, с виноватой нежностью взглядывая в затылок Полины.
Потом Гвидон смотрел спектакль, а Полина комментировала его, указывая театралу-любителю на ошибки коллег.
КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БУДУТ РОЗЫ...
Полина позвонила и попросила его прийти к Кристине. И по голосу Гвидон Тугарин понял: что-то её тревожило.
- Случилось что-нибудь? – спросил он.
- Какие-то типы увязались за мной, - сказала Полина. – Выходить боюсь. Что им надо, не знаю.
Тугарин записал адрес Кристины и поспешил на зов встревоженной девушки. Самоощущение его можно было бы определить как одну из разновидностей романтического подъёма, некоторое своеобразие которой придавала дюжина следующих слов: «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб». Эти слова оседлали одну из безропотных мелодий и крутятся по зримой орбите его сознания.
Возле дома Кристины чего-либо подозрительного Гвидон не обнаружил. Он вошёл в подъезд и под аккомпанемент к ступенькам приспособившейся мелодии взбежал по лестнице на уровень нужной квартиры. У самой двери что-то придержало его и заставило обернуться. Над изломом уходящих на пятый этаж перил Тугарин увидел наблюдающего за ним парня. Облака табачного дыма свидетельствовали о том, что он был там не один.
Этих ребят необходимо повнимательней рассмотреть, решил Гвидон. Он постоял пару секунд словно бы в задумчивости, потом повернулся и стал подниматься на пятый этаж. Он неспеша прошёл мимо двух здоровенных парней, от него отвернувшихся, затем неожиданно остановился и оборотился назад.
- Не скажете, ребята, - заговорил он, - я что-то забыл… Я забыл, в пятьдесят восьмой или в пятьдесят четвёртой живёт женщина по имени Кристина?
- В пятьдесят четвёртой. Если ты действительно забыл, - ответил парень в рыжей кожаной куртке и брюках болотного цвета. Теперь он смотрел прямо в глаза Гвидону, и – с вызовом.
- А вы что, ребята, живёте в этом подъезде?
- Не живём, но – знаем.
- Знакомы с ней, я так понял? – продолжал расспрашивать Гвидон, делая вид, что не замечает наполняющего атлетов раздражения.
- Вопросов, парень, задаёшь много. Ты сам-то чьих будешь?
- Вопрос не понял, - раздельно произнёс Гвидон. – Я художник, если вас интересует моя профессия.
- Ты под дурочку-то не коси. Скажи-ка, лучше, кто такую пешку, как Белькова, по доске двигает? Кто и чего хочет добиться россказнями о покойничках? – последовали вопросы.
- Вы, мальчики, изъясняетесь крайне загадочно. Почему? – Гвидон Тугарин обращался к обоим одновременно, хотя до сих пор разговаривал с ним только парень в рыжей куртке, второй, в чёрной куртке монгольского производства, не проронил ни слова. – Мною же руководит утилитарнейший интерес. К Кристине к тому же. А кто такая Белькова, я и понятия не имею.
- А вот это ты уже врёшь, дорогуша! – заявил рыже-болотный, заступая Гвидону дорогу. – Видели тебя с Бельковой, чтоб был в курсе.
- На понт берёте, мальчуганы, как я понимаю? – Гвидон и в самом деле сомневался, что его могли уже видеть с Полиной. – А зачем вам эта Белькова? Объяснили бы. А?
- Да ты ведь не хочешь понять... что мы не шутим. Пока, - оппонент поднял руку с растопыренными пальцами, а затем, соединив их в кулак, ткнул Гвидона кулаком в плечо, - рожу тебе не помнём, видно.
- Эти слова звучат как угроза! – Гвидона неотвратимо несло на стремнину обострения ситуации. – А если я сейчас на счёт: «кий – я», на выдохе?
Гвидон отбрасывает правую ногу в сторону, свободно роняет вдоль тела полусжатые кулаки и, вдыхая смрад прокуренного подъезда, разворачивает плечи и вскидывает голову.
- На вдохе и обратно получишь, - ухмыляется преградивший ему путь. – Если, конечно, выдохнуть успеешь.
- Я-то успею, будь в надёже! Шибко тоскливо будет.
- Неужели?
- Я уверяю, это так.
- Ага.
Хотя это «ага» и прозвучало не без издёвки, Гвидоном начало овладевать убеждение, что мордобой не является неизбежным. И он без прежнего металла в голосе сказал:
- Но я предпочёл бы перенести разрешение всех вопросов на свежий воздух. Здесь слишком велика концентрация оксида углерода. Как бы вы ни волновались, я всё-таки не рекомендовал бы, господа... Так много, господа... курить-то бы…
Последние слова Гвидон произносил в сложных условиях, ибо кулаки противника, вызывающе скомкав лацканы его плаща, дружно соединились около лица в жёсткую конструкцию. Процесс коммуникации оказался под угрозой краха.
- Слушай, ты! Что вы хотите?
- Странный вопрос... Милейшая женщина. Я увлёкся... И попросил бы оставить в покое мою одежду!
- Пожалуйста, - ответил парень, затем отпустил левый лацкан и, коротко взмахнув огромной кистью, ударил Тугарина в незащищённый лоб кулаком.
Удар был очень силён. Оставь его противник в покое и второй отворот плаща, Тугарин, без сомнения, упал бы навзничь. Однако этого не случилось, и Гвидон благополучно уселся на лестничной площадке.
- Всё ещё увлечён? – услышал он. – Красивая, говоришь? А может, другие интересы? Не пришло ли время сознаться?
- Я согласен с вашим определением, хам! – Гвидон откинул голову назад и попытался взглянуть на «хама» свысока, но лицо того оказалось где-то за пределами дуги, по которой независимым маятником раскачивался взгляд непослушных глаз. – Только я ваш… эпитет возвёл бы… в превосходную степень, - договорил-таки Гвидон.
- Но эта самая Кристина, - негодяй нагнулся к Гвидону, и лицо его уселось на дугу маятника, - замужем, как тебе должно быть известно. Говори, чего вы добиваетесь? Кто и чего хочет добиться?
Гвидон Тугарин с достаточным уважением относился к институту семьи и при других обстоятельствах не преминул бы недвусмысленно о том заявить. Однако ситуация предопределила иное заявление.
- Если женщина увлекается мною, отношусь к этому с пониманием, - сказал Гвидон. – Всегда и во всех случаях. Даже если замужняя.
Новый удар обрушился на его голову, удар настолько сильный, что Тугарин, кажется, готов был пожалеть, что столь легкомысленно одел свою безгрешную душу в рубище неправедного вожделения. Хотя и не мог не понимать, несмотря на все потрясения, что суть претензий к нему заключается в чём-то ином.
- Но это же нехорошо. И это, как ты уже мог заметить, сурово осуждается. Так же, впрочем, как и всякие мистификации.
- Обывательские мерки могут подойти политику или чиновнику, но… не свободному художнику! – выговорил Гвидон и погрузился в сумеречное состояние.
Золотая середина – и жить, и не умирать. На драгоценную нить её жизнь нанизывает человечков: кого-то – с основательностью предвечности, а кого-то и так, с расточительною небрежностью, за мякоть икры, за сегмент пятки, - вот и бьётся он головою о суровые опоры обстоятельств.
- Что с тобою, дружище, произошло? – в понедельник утром спросил Хряпин, увидев Гвидона Тугарина.
Нетрадиционность приветствия объяснялась наглядностью последствий импровизированной подъездной дискуссии.
- Не знаю, насколько я прав, - против воли своей Тугарин прошёл к зеркалу и принялся осматривать ссадину на лбу и гримом прикрытый синяк под глазом, - но, похоже, я напал на какой-то след, точнее, влез туда, где следы эти могут обнаружиться.
Тугарин поделился впечатлениями неудачного дня.
- Почему оружие не применил? – помрачнел Хряпин.
Он болезненно относился к избиениям его подчинённых, потому как не принадлежал к числу тех, кто не чувствует оскорбительности побоев. «Бьют слабых, а гордых и независимых убивают», - любил он повторять.
- Имидж сохранить хотел, - вздохнул Тугарин.
И во вздохе его Хряпин почувствовал обезоруживающую мощь трагизма. Да и знал он, что ни личная гордость, ни понятие сословной чести не были чужды Гвидону Тугарину.
- Следствия, истекающие из последних событий... - проговорил Хряпин и выжидающе замолк.
- Если абстрагироваться от личности Полины – она чудная девушка, поверь! – в этом случае я посмел бы предположить, что она и в самом деле связана преступным, увы, образом с Михаилом Скалыгой! – Гвидон сцепил пальцы рук и увяз печальным взглядом в заоконной непроглядной прозрачности небес.
- Ну!
- И ребята те, с которыми я столкнулся, - люди Срезнева, полагаю. И… Полине, как и Скалыге, угрожает опасность.
- В камере следственного изолятора Скалыга чувствовал бы себя в безопасности. Как, впрочем, и Белькова.
- Ещё бы денёк-два, и я бы разобрался... в некоторых привходящих обстоятельствах, - сказал Тугарин.
Хряпин посмотрел на него пристальным взглядом, намереваясь классифицировать степень убеждённости коллеги в ожидаемом успехе.
- Идеализируешь предмет своих воздыханий, Гвидон. И зря. Этим делу не поможешь. Надо предъявлять Скалыгу на опознание Оборкину, брать образцы почерка Бельковой, а заодно, может, и её подруги Кристины, и сразу же – обыски, допросы... Со следствием сегодня заранее все вопросы решим, подключим кого надо, чтобы все мероприятия всесторонне... – с всё возрастающим подъёмом говорил Хряпин. Он впадал в состояние вдохновения в двух случаях: при виде приятных женщин и при всеощущении перспективы быстрого и эффектного раскрытия преступления. – Время умственных актов установления истины прошло, пора действовать, брать быка за рога. Главное – все следственные действия сконцентрировать во времени. Действуем в жанре войсковой операции. А Павлика свозим в больницу и предъявим его Волкову. Согласен?
- Ну-у-у… - промычал Гвидон, потому что Хряпин излагал тот самый план мероприятий, который ранее ему же предлагался тем самым человеком, который план этот в данную минуту и выслушивал.
- Одним словом, - Хряпин поднялся и решительно прошёлся по кабинету, - ступай к себе и набросай последовательность всех действий. И помни: по времени всё должно быть просчитано педантичнейшим образом. И будем согласовывать со следствием. Подобрать статистов для обоих опознаний тоже тебе придётся. В понятых, я думаю, недостатка не будет. Обеспечение явки – на тебе. Проколов тут быть не должно. Короче, как ты сам же и говоришь, всё – в кратчайшие сроки на режиме зависания. Понятно? Транспорт беру на себя. Сегодня всех обзвонишь, а надо будет, на машине сгоняешь. Ты почему всё ещё здесь? Вперёд! – без всякого перехода закончил он разговор, однако, видя, что Тугарин по-прежнему ерошит волосы, поникнув над приставным столиком, успокоил: - А вопросы, Гвидон, всегда были, есть и будут. Наверняка и завтра ещё не раз коррективы вносить придётся. Кстати, пуля, извлечённая из стены в квартире Срезнева, является частью патрона винтовочного целевого под названием «Экстра».
- Не может быть! Получается, стреляли не из «макарова»?
- Получается. Из малокалиберной винтовки, самодельного пистолета, возможно, обреза. Пуля сильно деформирована – шибко не разберёшь... Думал, ты уже ознакомился с заключением экспертизы.
- Впервые слышу! – ответил Гвидон, и нехорошее предчувствие неприятно дохнуло на него.
Тугарин с трудом извлёк себя из начальственного кабинета и ушёл к себе. Здесь всё было привычно, но не доставало уюта. И не было самого необходимого – тишины: Маврин допрашивал работницу обворованного ночью «комка», громко переживавшую. Сколько планов было у них с Мавриным по благоустройству кабинета! Ярких и даже оригинальных. Где они теперь, нелепые, как мода старшего поколения?
Гвидон и сам не смог бы объяснить, почему образ хода расследования не дотягивает до стадии единства, упорно удерживаясь на предыдущей ступеньке – цветущей сложности. Горсточку бы времени, чтоб попытаться отжать эликсира мысли! Но оно, бегущее мимо время, предпочитает извлекать из людей автоматизированные движения. День короток – надо спешить. В атмосфере пасмурного раздрая обыденности, ориентируясь на тусклый огонёк версии, следует определить и ввести в единое русло дублирующие партии.
И вскоре внешнее течение времени отыскало путь к вместилищу душевного беспросветья и заглушило нерешительную возню мыслей, бесцеремонно прогнав их в область протоматериальную. Вдохновение ходит мелкими шажками. И это – в условиях всеобщего дефицита времени. А ждать некогда. Да и стоит ли? Ведь никто не знает, в которой голове оформится очередная космопланетарная концепция. Или хотя бы просто нужная мысль.
И Тугарин всё успел. До наступления ночи.
В ЖАНРЕ ВОЙСКОВОЙ ОПЕРАЦИИ
Будничная дата следующего дня вошла в историю жизни Гвидона Тугарина просторным лоскутом цвета маренго. Строящая, сплачивающая, движущая и соразмеряющая энергия расследования с самого утра проявила губительную склонность уменьшаться под воздействием неудач.
Тугарин спешил в кабинет Хряпина, когда с порога был возвращён к своему столу телефонным звонком Шмехова.
- Побеседовал я ещё раз с Волковым, - сообщил Шмехов ленивым голосом и замолчал, подленькой паузой вымогая встречные вопросы. Однако Тугарин, как он ни спешил, поджал губы и мужественно пережил паузу. – Но прежде чем повторно потрошить Волкова, осмотрел я то место, где он с землей соединился. Упал он в пяти метрах от стрелки... Врубаешься? В пяти метрах за стрелкой.
- Ну и что?
- Как что? Я и сразу-то ему не поверил. А тут смотрю – путейцы кувалдами машут. В чём дело, спрашиваю. Рельсы сверх норматива разошлись, отвечают. Врубаешься?
Несмотря на явную близость к прозрению Тугарин отделался мычанием неопределённого назначения:
- М-м-мым.
- Составил я протокольчик осмотра, справочку соответствующую в дистанции путей взял… И, как ты уже дагадался, - к Волкову. Ну и раскололся он, естественно. Оказывается, на ступеньках вагона стоял и малую нужду справлял. А на стрелке-то вагон и тряхануло. Ясна механика? Полетел он на соседние рельсы, махая ручонками, и про ширинку забыл.
- Что ж он тогда… Вот же мерзавец!
- А тут всё просто. Знакомый его в палате лежал, когда мы его с тобой потрошили. Неудобно, видишь ли, ему было...
- Одно опознание отпадает! – вбегая в кабинет Хряпина, сообщил Тугарин и рассказал о звонке Шмехова.
В поисках успокоения он несколько раз пробежался по кабинету и оказался у окна. Ворона, лапой прижав к мостовой огромную кость, склёвывала мясную тухлятину. Подъезжающая «Волга» цвета сафари обеспокоила её, и ворона косолапо побежала прочь от кости, тяжело поднялась на крыло. Но отлетела она недалеко и скоро осела на растопыренные пальцы ног, надеясь ещё вернуться.
- Что это?! Что я вижу! – закричал Тугарин.
Хряпин поспешно приблизился к нему и увидел, что из автомобиля выходят Скалыга и двое рослых парней.
- Чего разволновался, не понимаю? – недовольно выговорил Хряпин подчинённому.
- Это же те самые мордовороты, которые следили за Полиной и которые...
- И которым ты услужливо подставил свою физию... Да-а, получается, что работали они во времена вашего знакомства, вероятно, не на Срезнева. Так?
- Выходит, так. Хотя... – Тугарин неуверенно пожал плечами. – Срезнев и Скалыга, в общем-то, компаньоны.
- Ладно, разберёмся.
Опознание решено было проводить в кабинете Хряпина, просторном, на три окна аж, и с гигиеничными стульями в наряде розовой обшивки. И в девять сорок пять Тугарин ввёл Оборкина и проводил его к столу, за которым расположился Переплешин. После соблюдения необходимых формальностей Оборкину было предложено внимательно посмотреть на сидящих вдоль левой стены мужчин – Михаил Скалыга занял место посередине – и пояснить, знает ли он кого-либо из них, если да, то когда и при каких обстоятельствах произошла встреча.
- Дак темненько было. А все эти...
- Посмотрите внимательно, - повторил Переплешин.
Оборкин обернулся и начал рассматривать предъявляемых на опознание лиц, поочерёдно, справа налево. Скалыга первым, с брезгливой торопливостью, осмотрел Оборкина и освободил свой взгляд для ироничных прогулок по лицам работников правоохранительных органов. Сидевшие по обе руки от него мужчины волновались, кажется, больше, чем он. Скалыга же по уровню тревожности не превосходил с любопытством взирающих на процедуру опознания понятых.
Тугарин напряжённо наблюдал за Оборкиным. Если бы у опознающего череп был прозрачен, то, пожалуй, Гвидон с лёгкостью отслеживал бы импульсный ход зарождения и становления мыслей в голове Оборкина.
- Не, здеся нету его, - сказал Оборкин и решительно помотал головой. – Я б узнал, поди, чё уж! Совсем бессмысленный, что ли? Тот-от налетел... Рядом совсем был.
- Внимательнее будьте, - предложил Переплешин. – Может, на ноги надо поднять? Встаньте, опознаваемые!
- По росту-то, по фигуре подходят. Да. Обличье – другое. Не. Тот-от тоже тёмненький, конечно, но обличье другое. Уж за всяко-разно узнал бы я его. Узна-а-ал бы... Не, здеся нету.
Заключительные подписи поставлены. Скалыга поднимает глаза на Переплешина.
- Прощаться будем? Или ко мне ещё что-то есть?
Скалыга переводит взгляд на Хряпина, а затем на Тугарина. Смотреть на Гвидона особенно приятно – уж очень глубоко и наглядно переживает он крах прижившейся версии.
- Прошу вас, Михаил Иваныч, ещё немного задержаться, - сухо говорит Хряпин.
Он встаёт и с видимым раздражением ожидает, когда Переплешин уберётся из-за его стола. И спустя полминуты в кабинете, кроме него самого, остаются лишь Скалыга и Тугарин.
- Вы, возможно, уже знаете, что мы немного интересовались тем, как обстоят дела в вашей фирме, - начинает Хряпин с видом человека, обстоятельствами вынужденного вести диалог в суровых условиях бескомпромиссной открытости. – Нам известно, что у вас имеются проблемы, и немалые. Однако наш взгляд – это взгляд со стороны: что-то видно, быть может, лучше, а что-то, возможно, и вообще в тумане остаётся. Или в совсем ином свете представляется. Вот я и говорю: давайте попробуем объединиться. Возможно, совместно нам удалось бы больше, чем поодиночке. Может быть, вам стало известно что-нибудь новое по факту исчезновения... тела вашей умершей супруги? Кому это могло быть нужно? Мысли какие-то, догадки?.. К тому же вы и сами кое-какие меры принимаете.
- Я бы с удовольствием… Но… Увы, ничего определённого, - ответил Михаил Скалыга, как будто бы, с сожалением.
- Хотелось бы узнать о ваших взаимоотношениях со Срезневым. Насколько они безоблачны?
- Безоблачны? – Скалыга посмотрел за окно. – Погода и на дню-то, бывает, не раз сменится.
Откровенничать ему явно не хотелось.
- И всё же.
- Я, уверяю вас, к покушению на Срезнева никакого отношения не имею. Уж в этом-то я чист.
- Вы, я бы сказал, - вмешался в разговор Тугарин, - не просто чисты. Вы стерильны, как новорождённый до первого вдоха. Вы и ваши люди с их бандитскими методами работы!
- Помолчи, Гвидон Антоныч! – оборвал его Хряпин.
- Вы тоже виноваты. Вы могли бы представиться, и тогда... – попытался оправдаться Скалыга.
- Это мы решим, если будет необходимость. Позднее, - поставил точку Хряпин, со значением прихлопнув ладонью по столу. – Сейчас нас интересует, кому нужна была смерть Срезнева? Кто мог стрелять в него? Ваше мнение?
- Ничего не могу сказать, поверьте! – проговорил Скалыга. Казалось, он и в самом деле хотел в эту минуту выглядеть искренним. – Что касается меня, то это совершеннейшее заблуждение. Это какая-то ошибка или...
Он замолчал с видом невольно сказавшего нечто лишнее.
- Или? – напомнил Хряпин.
- Я не знаю. Я теряюсь в догадках.
- Ну так выложите эти догадки! – горячо предложил Хряпин. – Что вас удерживает? Вместе и пороемся среди ваших догадок.
- Да, собственно, и выкладывать нечего, - отстранился Скалыга.
- Как идёт процесс перерегистрации? – спросил Тугарин. – Насколько мне известно, ваше эмпэ скоро должно было стать товариществом с ограниченной ответственностью.
- Да так, потихоньку, - неохотно ответил Скалыга.
- А учредителями кто будут? – вновь задал вопрос Тугарин.
- Да не знаю я пока ещё ничего... Решаем, - с видимым усилием проговорил Скалыга.
Клетки локалок прозреваемы, и всё-таки непреодолимо автономны. Биоизоляция живых существ пользуется поддержкой социальных факторов.
- О ваших отношениях с Бельковой вы тоже говорить не хотите? – спросил Хряпин и установленной на стол рукой подпёр подбородок.
- Да какие там отношения?! – встрепенулся Скалыга. – Хотя… Вам же требовались загадки! Если хотите, я расскажу. Пожалуйста! Расскажу! А потом у неё можете спросить. Думаю, подтвердит.
ПОСЛАННИЦА УМЕРШЕЙ ЕКАТЕРИНЫ СКАЛЫГИ
Михаил Скалыга был поражён безмерно, когда, выйдя в коридор по зову дверного звонка, обнаружил незнакомую молодую женщину.
- Что такое? Как вы попали в квартиру? – вскричал он, не имея возможности не задать этих вопросов. – Я ещё раз спрашиваю: кто вы такая и как сюда попали?
- Вы хотите знать, - женщина имела вид смущённый, - зачем я к вам пришла? Или – кто открыл мне дверь? Что касается последнего, то, я полагаю, вам лучше знать. Я его видела впервые, так же, впрочем, как и вас.
- Кого вы видели впервые? Кого, не понимаю?!
- Мужчину, который открыл мне дверь.
Скалыга обернулся к вышедшему в коридор Павлику. Но ничего не сказал. Действительно, они начали разговор у открытых дверей, однако чтобы он, Скалыга, не закрыл дверь – такого ещё не бывало.
- Я пришёл один, - сказал Павлик. – А дверь, мне кажется, ты закрывал. Дверь-то – твоя.
И оба они сорвались с мест. Скалыга побежал на балкон, а Павлик выскочил в подъезд.
Пришедшая была вне сгущённого наступившей сумятицей времени.
- Дойдёт, наконец, очередь до меня, я хотела бы знать? – нетерпением напружиненным голосом спросила она, когда Скалыга возвратился и направился мимо неё на лестничную площадку.
- Что вы хотели? Кто вы?
- Я – Полина Белькова. И я вовсе не по своей воле пришла к вам, - долговременное ожидание отрицательно подействовало на Белькову, и поэтому, видимо, она говорила несколько раздражённым голосом. – То, что мне велели передать, я должна передать человеку, который живёт по этому адресу.
- Ну, передавайте. Я здесь живу.
- Уже поняла. Но скажите сначала, не умирала ли у вас жена? Недавно. Если нет, то тогда... я не знаю...
- Да, у меня умерла жена.
- Какой кошмар! – вскричала женщина. – Этого не может быть! А фамилия у вас... не на «эс»?
- Да, Скалыга.
- Михаил?
- Да, именно.
- Этого не может быть! – переживаемым ужасом удлинённое лицо Полина Белькова обернула к вернувшемуся Павлику. – Это просто кошмар! Но я, конечно, скажу. Мне приказано – я всё расскажу. А там ваше дело, меня это не касается. Только...
Белькова вновь обернулась в сторону Павлика.
- Ну! – поторопил Скалыга.
- Одним словом, насчёт посторонних мне ничего не говорили. Мне всё равно. А вам… Я не знаю. То, что я вам расскажу, это просто...
- Кошмар, - подсказал Скалыга.
- Да! – согласилась Белькова.
- Ладно, пойду. Увидимся, - нехотя произнёс Павлик.
- Иди, если кошмары тебя не интересуют, - попрощался Скалыга.
- Я вам расскажу, а там ваше дело, - повторила Белькова, входя в гостиную следом за Скалыгой.
Белькова села не в кресло, а на стул. От коньяка, как и от кофе, она отказалась.
- Сегодня ночью ко мне явилась ваша жена. Или дух ее, я не знаю. Она сказала, что ваша жена, - я так и говорю: жена. Она приказала… Она не просила, а приказывала… Приказала, чтобы сегодня вечером я пошла к вам и передала её просьбу… Просьба такая, знаете…
- Не знаю.
- Передала просьбу… Да, приказ… застрелиться или повеситься. Или любым другим способом покончить с собой. И дала срок… десять дней. Двадцать третьего – последний… Вы понимаете? Она просила вас покончить с собой! И я тут совершенно ни при чём!
- А кто же – при чём? – Скалыга откинулся на спинку кресла.
- Я же говорю, ваша жена! Или призрак её. Я откуда могу знать. В коридоре темно, а её всё равно видно. В костюме шерстяном, в зелёном, с широкими рукавами, а ног не видно. Как будто их и совсем нет. Юбка кончается, а ниже – темнота. Я чуть в обморок не упала, а тут – голос: «Записывай!» Я ног под собой не чую, а голос опять: «Записывай! Возьми бумагу и ручку!.. Записывай!.. Записывай!..» Я смотрю на неё – голос слышу, а губы, вроде как бы, и не двигаются. И глядела так строго... Бррр! Кошмар!
Белькова смотрит мимо Скалыги, на ковёр, и можно подумать, что она и сейчас видит то, о чём рассказывает. А Скалыга сверлит её взглядом, вбирая, кажется, каждое движение собеседницы, ко всему примеряя критерии истинности.
- Кошмар. Согласен.
- Ужас! Я и пошла за бумагой – что мне оставалось делать! До тумбочки телефонной добрела кое-как и слышу: «Садись и пиши!» И продиктовала адрес. Фамилию, имя тоже назвала. Потом сказала... Ну, вот то, что я вам уже передала. И замолчала. Я сижу и… И не знаю, что делать. Потом выглянула в коридор – никого. Пошла посмотрела – дверь закрыта. – Белькова замолчала, потом перевела взгляд на Скалыгу. – Вы мне не верите? – спросила после паузы. – Ну что ж, считайте меня сумасшедшей. Может, так оно и есть на самом деле. Но всё это у меня перед глазами до сих пор стоит. И голос – в ушах...
- Всё? – спросил Скалыга. – Сказка кончилась?
Совокупная масса элементов неправдоподобия красочным полотном лжи наложилась на всё услышанное. Уровень исполнения имел минимальное значение.
- Всё правильно, - печально сказала Белькова. – Чего-либо иного и ожидать было бы глупо.
- Кто вас послал ко мне? Кто вы такая?
- Кто послал, я уже говорила. И кто такая, тоже говорила. Полина Егоровна Белькова. Может, вам паспорт показать? Он как раз у меня с собой.
- Где вы работаете?
- В драмтеатре. Я – актриса.
- Вот оно что! Вот вы и разыграли тут сценку «Актриса и призрак». Наверно, лучшая ваша роль. Трудно было играть? А? Как? Роль трудная, но интересная. Ведь так обычно ваш брат отвечает на вопросы поклонников? Зачем вам это надо?
Белькова молчала. Глядела на него, как смотрит человек, которому нечего больше сказать, и молчала.
- Говорите! – почти прокричал Скалыга.
- Я, пожалуй, пойду, - спокойным голосом ответила Белькова. – Больше я и сама ничего сказать не могу. Я знаю только, что если и вправду... через десять дней вас не будет в живых… То это означает... Тогда я буду знать, что всё было в самом деле, что я в здравом уме. А она от вас не отстанет.
Скалыга подбежал к шкафу и распахнул дверцу.
- Может, призрак был в этом костюме? – издевательски спросил он, потрясая плечиками с шерстяным костюмом зелёного цвета.
- Да, - тихо ответила Белькова, - в этом. Или в таком же.
Скалыга со злорадством глянул на Белькову, рванул к себе свободный стул и вскочил на него. Из верхнего ящика серванта он выхватил огромный альбом в бархатной шкуре крокодилового цвета, полистал его и, отыскав необходимое, сунул раскрытый альбом к лицу женщины. Белькова отстранилась чуть назад, посмотрела на Скалыгу и боязливо опустила взгляд на групповую фотографию.
- Вот, - спустя секунду сказала она и сделала робкое движение указательным пальцем в сторону фотографии. – В верхнем ряду вторая слева, - добавила, фотографии так и не коснувшись.
И поспешно отвела взгляд в сторону.
Если бы среди знакомых жены были актрисы, он знал бы об этом. Нет, знакомых подобного рода у неё, кажется, не было.
- Вы хотите сказать, что раньше с моей женой никогда не встречались? Не так ли? – спросил Скалыга, по-прежнему не находя нужным оставить следственно-прокурорский речевой лейтмотив.
- Никогда! Если только в детском саду. Я ходила в «Снегурочку». Какая у неё была фамилия до замужества?
- Какая разница! – с насмешкой отрезал Скалыга. – Ответ ваш мне уже известен! – Некоторое время он помолчал. – А на магнитофон голос... призрака вы не записали, случайно? С таким приложеньицем ваша побасенка звучала бы более правдоподобно.
- Мне лично, заявляю вам, никакие записи магнитофонные не нужны! – сказала Белькова и, резко приподнявшись над стулом, полуотвернулась от Скалыги. Потом прямо взглянула на него и приглушённым голосом выкрикнула: - В ушах у меня этот голос стоит! До сих пор! И, видно, - на всю жизнь. Тем более что он такой запоминающийся! – Белькова замолчала, словно для того, чтобы ещё раз прослушать голос призрака. – Она «че» как-то звонко произносила, почти как «цэ». Но не «цэ», конечно. И «ще». «Цченок» - она как-то так говорила.
- Что?! – поражается Скалыга. – Она говорила это слово?
- Да. Она сказала: «Щенок, который стал зверем, должен умереть».
- Не может быть! – отшатнувшись, вскрикивает Скалыга.
Протестующе взглянувшей на него Бельковой кажется, что возражение адресовано не ей. Влияние растерянности равнозначно воздействию на бледное лицо равномерно серой двухдневной щетины.
- Это кошмар! Я не знаю, что вам посоветовать.
Белькова поднялась на ноги, постояла, словно в нерешительности, и направилась к выходу. Скалыга её не удерживал.
Выслушивая рассказ Михаила Скалыги, Тугарин стоял возле окна, чтобы увидеть Полину Белькову – почему-то это было ему необходимо, - которая с минуты на минуту должна была прийти к Переплешину. Переплешин должен допросить её, а также получить от неё как свободные, так и экспериментальные образцы письма для почерковедческой экспертизы.
Гвидон не понимал, как реагировать на текущую ситуацию.
Невозможное, необъяснимое, неосмысляемое бесцеремонно вторгается в обжитую сферу очевидности.
Непреложность того, что только система единосущих доказательств делает истину очевидной, игнорируется.
Вечнозрячий костёр обобщающего мышления потух. И напрасно родной язык подбрасывает, словно поленья, готовые блоки словесных конструкций.
Полина пришла в сопровождении старухи в цветастом платке с чёрными кистями. Они о чём-то поговорили с минуту, затем старуха направилась к скамейке, а Полина прошла к подъезду здания.
Тугарин вновь обращает внимание своё на разговор Хряпина и Скалыги. Последовательный материалист Хряпин, склонный, скорее, переоценивать, нежели недооценивать роль абсолютного момента в утверждениях действительности, задаёт Скалыге множество вопросов. Речь доходит и до других странностей последнего времени, о большей части которых Гвидон (он сам являлся непосредственным виновником одной из них) уже слышал.
После сообщения Скалыги о случайном звонке женщины, голос которой был похож на голос его покойной жены, Хряпин тайком направляет Тугарину многозначительный взгляд. Чтобы уйти от ответа на этот взгляд, Гвидон отворачивается к окну.
Гвидон отвернулся к окну в надежде часть энергетических напряжений оставить на неопрятных поверхностях индустриального пейзажа и увидел вышедшего из помещения Оборкина. Старик явно не спешит уйти домой и, закурив, подсаживается к старухе. Сегодня ему есть что рассказать. А вот что может сказать в своё оправдание Гвидон Тугарин, исполненный благих намерений неудачник? «Всё к лучшему в этом лучшем из миров», - может повторить он вслед за Вольтером.
ВЗАИМОКАСАНИЯ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
Возле входа в здание, где находятся прокуратура и милиция, сидели на скамейке и разговаривали старик и старуха. Старушка – она сидела лицом к проходившему мимо Срезневу – показалась ему знакомой. Спустя секунду, под звук лязгнувшей за спиною двери, он вспомнил её.
Срезнев видел старуху в тот вечер, когда за окном коротко грохнул выстрел, неслышно продырявилось стекло и неожиданно на голову и за ворот рубашки, робко прошелестев, - скромное эхо безумного выстрела, - осыпалась штукатурка. Срезнев глянул вверх и назад, однако заметить что-либо не сумел – запоздалое облачко известковой пыли коснулось влаги глазных яблок.
Срезнев не успел проморгаться, как отчётливая струна, метко проткнув дырявое стекло, горячо соединила только что осевшие звуки. Срезнев осознал, что взрыв выстрела окончательно отчеркнул от настоящего уныло-скучноватую и тягостно-хлопотливенькую многозаботливость прошлого. Модус настоящего времени, которому вдруг некуда стало спешить, предстал многоцветьем обнимающей обстановки.
Неподвижность противна самой природе времени – Срезнев вскочил, нырнул к столу, больно громыхнув коленями, и вырвал наружу средний ящик стола. Ящик завалился набок, вытряхнув на пол едва ли не половину содержимого: сломанный скоросшиватель, шкатулку каслинского литья, выметнувшую горку визитных карточек, тяжёлый свёрток в ткани наилегчайшего цвета.
Разворачивая-разрывая прохладную марлю, Срезнев, неотвратимо подхватываемый вихрем логики движений соревновательного человека, бросился к двери, выскочил на лестничную площадку, во двор...
Справа – удаляющаяся фигура сутулой, подсогнутой в пояснице старушки. И – никого. Слева – три подъезда. Срезнев добежал до угла дома, кровожадным взглядом исполосовал соседний двор и вернулся обратно.
Пистолет готов к стрельбе, и крючок спускового механизма, прогибаясь, стремится вовлечь указательный палец правой руки (и всю руку) в шумные объятия с орудием смерти. Непричастность дома напротив сомнительна. Десяток разноцветных прямоугольников, а кроме них – чёрные провалы умолкших окон квартир и осторожный полусумрак окон нежизнеспособных, как будто, подъездов. Единственная движущаяся мишень – старушка. Пойманная светлой лапой фонаря у соседнего дома, она неуклюже оглянулась. И Срезнев сразу же заметил, что его рука с пистолетом вытянута в направлении старухи. И завернул руку за спину.
Старушка могла видеть, кто стрелял в него через окно! Срезнев щёлкнул флажком предохранителя, сунул пистолет за пазуху и бросился догонять её. Догнать и вытряхнуть все сведения, какие возможно. Из небытия, куда, кажется, одной ногой уж она заступила, - на острие событий. Что видела, что слышала – всё пусть выкладывает одуванчик горних лугов!
Срезнев настиг старуху (она шла не оборачиваясь, но как-то вся, Срезневу показалось, как бы съёжилась, словно бы скукожилась при его приближении) и, щедро отмахнув петлю разворота, возник, запыхавшийся и возбуждённый, перед старой женщиной.
- Бабуля, вон там… - Срезнев махнул рукой (и старушка отшатнулась от него). – Ты около того дома… Там в окно... Кто стрелял, видела? Говори, видела, кто стрелял?.. Вы почему молчите, бабушка?
Старушка молчала, молодо подсобранные в бантик губы её не двигались.
- Кто стрелял, вы, бабушка, видели? Вы слышали выстрел?
Игнорируя звуковую речь, старушка согнутым пальцем в перчатку упрятанной руки дважды ткнула себя в правую часть головы: глухая, мол. Лишь рот приоткрыла и глаза сощурила.
- Видели, кто стрелял?! Вот сейчас, там! – заорал Срезнев, приходя в ярость от вида шерстяного платка старухи.
- Чевой-то ты непонятное говоришь, милый. Я домой иду. От трамвая, - последовал ответ.
Срезнев шумно вдохнул воздух, наполняясь сминающим все эмоции отчаянием, закатил к синему небу глаза и обречённо мотнул головой, выдыхая порцию гневной досады.
И тотчас же крутнулся на месте, встряхнутый свежим звуком дверью хлопнувшего подъезда. Кто-то вышел из того самого дома, который, пожалуй, всего скорее мог укрыть злоумышленника, перебеги лишь он пятачок двора и прикрой за собою дверь полутёмного подъезда. Ненадёжные отсветы вечерних огней сморгнули неотчётливой тенью, мгновенно умершей, лишь добавившей, кажется, чуть больше мрачности кустам боярышника.
Срезнев обежал старушку, встал на цыпочки, затем пригнулся и побежал дальше, с бесшумной осторожностью касаясь ногами асфальта, на ходу отыскивая в кустах силуэт только что отбросившей тень фигуры и – одновременно с этим – короткими взглядами простреливая прилегающие открытые пространства.
Неожиданно для него на тёмном квадратном фоне подъездного входа вспыхнула спичка. «Двое!» - ударила в грудь ошеломляющая догадка.
И тотчас же, не выдержав паузы, грянула новая неожиданность. Сногсшибательная. Срезнев успел обернуться, однако занесённую над асфальтом ногу в беге перемещаемого тела опустить привычным образом не сумел. С утонувшим во влажном рыке невнятным звуком узловатые лапы огромного пса тяжело ударили его в грудь и плечо, и равновесие, нарушенное таким образом, обернулось падением Срезнева. Падением неудачным. Левой лопаткой на бесхозный кирпичный обломок.
Срезнев застонал – собака, уловив угрозу в его голосе, зарычала в ответ, роняя на лицо его омерзительно тёплые капли слюны. Срезнев довольно удачно ударил собаку по морде, и рычание сменилось жалобным визгом. Срезнев вскочил на ноги, сунул руку за пазуху и мгновенно замёрз со спины – пистолета не было. Вцепившись взглядом в неловко бегущего к нему от подъезда человека, Срезнев пошарил и с другой, с правой, стороны домашнего пиджака-халата. Результат не изменился.
И в этот миг расслышал крики: «Фу! Фу, Джонни!» И осознал, что к нему бежит пожилой мужчина, старик уже, ветеран труда, наверное, какой-нибудь со стажем лет этак в пятьдесят, из которых вряд ли хоть день единый трудился он в чине наёмного убийцы.
- Куда?! Куда ты прёшь?! Куда ты прёшь с собакой со своей слюнявой?! – заорал Срезнев что-то несуразное. – Да чтоб вам, псарям самодельным, пусто было! Везде-то они со своими собаками лезут! Ух-х, будь ты помоложе!.. – замахнулся Срезнев, не обращая внимания на окрепший голос крупного дога. – Ух, вмазал бы...
- Да сроду такого не бывало, чтоб на людей... Фу, Джонни! Сроду не бывало. Фу! Он и не кусается вовсе! – мелко пятясь и поглядывая куда-то мимо Срезнева, вниз, оправдывался хозяин собаки.
Срезнев скользнул гневно пламенеющим взором по траектории стариковского взгляда и увидел свой пистолет. Схватил его и спрятал за пазуху.
- А если бы я сейчас взял бы… - Срезнев уже начал осознавать, что говорить следует обдуманно, не допуская лишнего. – А если бы я сейчас из газового пистолета… Это же у меня газовый пистолет. Из газового пистолета – заряд в ноздрю бы этому псу вонючему… А? Как? Нажал бы на крючок! Что тогда? Надолго, скажи, нюх эта псина потеряла бы?
Срезнев взглянул на лаем прерывающего иногда (всё реже и реже) поскуливание своё молодого дога, на разряженного, словно путана, пятнистого дога, и сплюнул. Словно бы от презрения.
Спускаясь с апокалипсических высот актуализировавшихся в памяти волнующих событий прошлого, Срезнев обнаружил себя бесцельно стоящим напротив планшета с указателем расположения кабинетов. Потерянно разгуливающие по телу автоколебания мышечных сокращений препятствовали свободному опаданию надёжных сцеплений живучих образов.
Он жил у порога непререкаемой вечности. Он всегда знал, что живёт только раз, всего один разочек. И почти всегда помнил об этом. Правда, в розовом возрасте, путаясь в оттенках красного и голубого цветов, он пробовал заниматься складыванием слов в кучки стихов. И теперь, когда он вспоминал об этом, едкий внутренний смех неприятно наполнял пищеварительные полости организма. Душещипательные стихи – душепищательный эффект. Пишите стихи громко и красиво! Тьфу!
- Что это вы здесь плюётесь, гражданин? – услышал он. К нему приближался плотного сложения низкорослый капитан милиции, в портупее и с повязкой дежурного. – Ваши документы! Зачем пожаловали? Уж не явка ли с повинной, уважаемый? А?
Задавая все эти вопросы, капитан жёсткими пальцами ощупал Срезнева. Учитывая характер прикосновений, можно было уверенно расценить действия капитана как личный обыск.
Высокие худые люди с опаской относятся к коротышкам. Когда они наберут вес, то меньше сутулятся и начинают с куда большим пренебрежением относиться к низкорослым. Стремясь не выронить из поля зрения капитана, Срезнев вскинул голову, чтобы, удерживаясь в легитимном русле, дать достойный отпор посягательствам на неприкосновенность его личности.
Однако в этот миг проблема поруганной чести удалилась на задний план.
- Соблаговолите-ка, сударь... - успел он произнести. И только.
- Пишите протокол – опознаю его! Я опознаю его! – на подъёме горделивого пафоса зазвучал старческий голос. – Пишите, товарищ капитан!
Срезнев повернул голову влево и увидел старика лет семидесяти. Того самого, что сидел только что на скамейке у входа. И где-то, определённо, он встречал старика ещё раньше.
НА СЧЁТ: ГОС – СПОДИ БЛАГОСЛОВИ
Тугарин не обнаружил Срезнева около запертой двери своего кабинета и направился вниз. Многоголосая, как всегда, дежурная часть языками криков достигала второго этажа. Внизу Тугарин увидел бегущего к выходу дежурного по отделу Опалкова.
- Оружие с собой? – Опалков тоже заметил Гвидона.
Тугарин утвердительно коснулся левой стороны груди и подался вперёд, застывая в позе готовности и ожидания. Опалков приглашающе мотнул головой, и энергия движения подхватила Гвидона.
- Задержали этого... Ну, который стрелял! – уже в «уазике», приникая к стёклам, насколько это возможно в болтающемся автомобиле, объяснял Опалков. – Ну, в бизнесмена этого... В Срезнева. Или как там его. Опять у тебя стекло лобовое грязное – ни черта не вижу! – Опалков локтем замахнулся на водителя.
- Да всё мне видно! – огрызнулся водитель, орудуя крюками рук так, будто намерен был оторвать баранку. – Вон она, девяносто девятая, уже на прямую вышла.
- Давай! Жми! Жми-жми! – Опалков метался перед Тугариным, снижая возможности обзора и, в то же время, стимулируя желание Гвидона самому видеть объект преследования. – Сирену врубай! Задержали, говорю, одного, а второй ушёл. С пистолетом, возможно. Видел, злодей, как я этого обшаривал. Дружка его. И ушёл. Направо, зараза, свернул – знает, что там светофоров нет.
Тугарин не верил, что погоня будет успешной. Однако водитель вдруг молча бросил «уазик» в сторону, ворвался в сквер и, скрипя резиной колёс, двумя неразлучными зигзагами перечеркнул его.
- А вдруг!.. – простонал Опалков и замолчал ввиду бесполезности обсуждения свершившегося.
Манёвр увенчался удачей – они оказались позади девяносто девятой модели на расстоянии контактной импульсной связи пистолетного выстрела. И Опалков, сжимая в руке микрофон, потребовал остановиться. Мыслящее и чувствующее существо, управляющее преследуемым автомобилем, словно в ответ на мегафонно заявленные требования, увеличило скорость.
Накал погони возрос. Умножалась опасность смещения её на загородные просторы высших скоростей, где милицейский «уазик», многосуточные годы отдавший службе, мог стать воплощением сиротской скромности.
Опалков и Тугарин с синхронным единодушием обнажили стволы. Высунув в окно голову и правую руку, Опалков произвёл предупредительный выстрел, а затем и два неточных выстрела в посеревшие шины колёс.
- А ну дай я попробую! – сказал Тугарин, открывая дверцу автомобиля. – На счёт: «Гос – споди благослови».
Он поднялся на ноги, подошвами кожаных ботинок итальянского производства уперевшись в придверную кромку пола автомобильного салона таким образом, что носки оказались в области упругого воздуха, и предплечьем левой руки налёг на трепетную дверцу. Вскинутую правую руку, угрожающе оружием удлинённую, он в прицельном жесте стал опускать книзу, выдыхая упорно рвущийся в лёгкие воздух. Как и было предусмотрено, окончание выдоха совпало с совмещением мишени и в прорези прицела затаившейся мушки. И промах, кажется, был исключён.
Однако крайне ответственный этот и предельно краткий миг неожиданно вместил в себя ещё одно событие – поломку верхнего крепления отягощённой дверцы автомашины. Не способный стремительно осмыслить происшедшее, Тугарин вылетел наружу и очень скоро упал на землю.
Ему повезло, что левая рука беспрепятственно соскользнула с дверцы, сделавшей столь резкое движение, что ничто не задержало его ноги и что, прежде чем совершить вынужденный кувырок вперёд, он дважды, поочерёдно, коснулся грунта левой и правою ногами. В заключение он в положении «сидя» съехал в сопутствующую дороге канаву, и водная стихия весеннего водостока с мгновенной готовностью объяла интимнейшие части его тела, легко преодолев как грубую джинсовку, так и нежнейшую ткань нижнего белья.
Под звуки собственного вскрика «о-ох!» Тугарин ещё вскинул испачканный в грязи пистолет, однако тотчас руку опустил, ибо возможен был лишь огонь по своим, что в планы его никак не входило.
Он услышал взвизг тормозов, увидел голову Опалкова с разинутым ртом (слов не разобрать) и с досадой махнул рукой – езжайте, мол. Потеряли скорость – попробуй теперь догони. Подумаешь – выпал человек! Ну так что с того? И несколько щекотливых терминов вырвались в безлюдное пространство.
А неласковая вода прибывала бы и в дальнейшем, концентрируя холод вокруг Гвидона, если бы эволюционно выгодный инстинкт не подбросил его, предопределив перемещение в стоячее положение и прекращение кратковременного существования искусственной водной преграды.
Тугарин осмотрел свою одежду, сохранившую следы всех соприкосновений с придорожным покровом, и укорил себя за жест собачьего азарта, которым он так легкомысленно разрешил товарищам его продолжать погоню. Затем он привёл себя в сугубо относительный порядок и печально задумался. Всё пошло прахом. Впрочем, нет. Ведь задержали, как сообщил Опалков, того типа, который стрелял в Срезнева. Интересно, как это удалось? И не узнал в суматохе погони. Стоит добрести до телефонной будки...
- Разрешите, я без очереди... - сказал Гвидон, обнаружив около телефонной будки средних лет женщину и воркующую парочку часов не наблюдающих. Он потупил свой взор, позволив им себя осмотреть и с молчаливым сочувствием посторониться.
- Куда запропастился? Тебя же Срезнев сидит здесь ожидает! – возмутился Хряпин.
- Говорят, там задержали стрелка, который в Срезнева стрелял. Это правда? Как его фамилия?
- Срезнев.
- Родственник, что ли?
- Глеб Васильевич Срезнев.
ПОЛИНА, ЛАФОНТЕН И...
В течение нескольких дней Гвидон Тугарин чувствовал себя побитым псом, выпоротым казаком и преждевременно ощипанным петухом одновременно.
Короче говоря, самоощущению процесса существования был нанесён – в части качества смысла его – значительный урон. Исследовательские рефлексы, обесцвеченные в результате почти полного отсутствия эмоциональных всплесков, приугасли, и Тугарин приобрёл скучный вид прагматика и плоскодума. Иногда, правда, ему удавалось взбодриться и на волне психокорригирующих воздействий мелких фактов жизни воспарить на уровень жизненно необходимого самоуважения. Но – ненадолго. Болевые сигналы удручающих воспоминаний пробивались и сквозь мельтешню текущих дел, хлопот и забот.
В пятницу, в конце рабочего дня, когда Тугарин равнодушно перебирал вываленные на стол в последнем порыве, к этому времени умершем, многочисленные бумаги, в гулкую пустоту просторного черепа, всколыхнув приуставшие чувствования разлаженного организма, поступило приглашение Хряпина зайти к нему в кабинет.
- Скажи мне, Гвидон Антоныч, - презентабельно сочным голосом начальника (да он, собственно, и был начальником) задал вопрос Хряпин, - кому было поручено забрать из экспертно-криминалистического отдела постановление о назначении экспертизы? По Бельковой.
- Мне.
- Так в чём дело? Ты же сам говорил, что теперь нет необходимости в этой экспертизе. Разве не так?
- Я забыл. Закрутился, понимаешь...
- А позвонить-то можно было, чтобы люди зря не возились?
Тугарин рассудил за благо ответить виноватым молчанием. Но, приподняв чувством вины угнетённый взгляд, увидел на лице Хряпина уголками губ придерживаемую улыбку.
- Ладно, не переживай. Правильно сделал, что не забрал материалы. Понял, да? – Хряпин отпустил улыбку, позволив ей раскинуться через всё лицо. – Похоже, записку действительно писала Белькова.
- Не может быть! – Гвидон сел на подвернувшийся стул. – И это... железно?
- Необходимо дополнительное исследование, - ответил Хряпин, выдохнув воздуха значительно больше, чем предварительно вдохнул. – Но я чую – она. Да и Томилов противоречий каких-либо не усмотрел. Что скажешь? Какие будут предложения?
- Предложения?
Хряпин понаблюдал за вознёй Тугарина на стуле, немедленных результатов, впрочем, не давшей, и спросил:
- Она знает, где в действительности работаешь?
- Пока нет.
- У тебя какие с ней отношения? Дома у неё, я хотел спросить, бываешь?
- Ни разу не был. Не довелось. У неё бабка гостит. А вообще-то она с матерью живёт. Но мать куда-то уехала в гости. У брата Полины она, вроде бы.
- Но ты мог бы, меня интересует, к ней заявиться? Сегодня, например. Адрес узнаем, но тебе она его сообщала?
- Дом и подъезд знаю. И окна показывала. Но нужен повод. Тем более что бабка у неё, она говорила, ворчливая. Да и в театре Полина вечером может быть.
- Повод придумаем, бабка перебьётся. Лишь бы дома была сегодня. Или, в крайнем случае, завтра, - изустная резолюция Хряпина легла жирно и весомо. – Телефон у неё имеется?.. Хорошо. Это упрощает дело. Явишься без предварительных договорённостей, а то мало ли что.
- Что ты придумал? – спросил Тугарин.
Он уже знал, что ему предстоит нечто неприятное. Предварительное прикосновение эманации будущих чувств красноречиво свидетельствовало именно об этом.
- Я объясню, - улыбнулся Хряпин и охотно распахнул глаза.
И мрачновато-весёлая торжественность, излившись из глаз, очевидным образом отразилась на всём его облике, включая осанку.
В этот вечер Полина была дома.
- Полинка, сегодня величайшее событие в моей жизни! – выглядывая из-за букета цветов, сообщил Гвидон Тугарин, едва Полина успела приоткрыть дверь, и поздоровался: - Здравствуй, Полинка! Ты разрешишь мне войти? Такой день! Такой день!
Взвесив на оптических весах элементы праздничного вида Гвидона, а также прозвучавшее приветствие фанфарного склада, Полина поверила в торжественность подхватывающего её времени, Полина разулыбалась ответно, Полина, приняв цветы в условиях театрального всплеска душевности, предложила Гвидону раздеваться и проходить на кухню.
Не отягощённое чрезмерностями рассудка препровождение времени имеет обаятельный вид. Прикасаясь, оно поднимает на высоту температуры курортного сезона. И Гвидон, протягивая Полине цветы, с удовольствием вдохнул теплоту и выразительность очаровательно вибрирующего женского голоса. Ему, прошедшему двухчасовой путь очищающих переживаний, теперь и самому хотелось расслабиться, доверясь тому, что сильнее его, над чем он не властен.
Спустя полчаса он должен будет позвонить по телефону. И он, конечно, сделает это. А потом, ещё через полчаса, последует ответный звонок, но – не ему, а Полине. Что произойдёт после этого, он сейчас не знает. Да и не желает знать. Возможно, интимный ландшафт их взаимоотношений, опровергая его целостность, неразымаемость его, перечеркнёт сквознячок, который, уплотнившись, превратится в стену, холодную, как айсберг.
А пока всё идёт как нельзя лучше. Они сидят на кухне и пьют коньяк. Бабушка Полины где-то в квартире, но её и не слышно.
- У тебя, Полинка, не кухня, а...
Гвидон разворачивается вместе с табуреткой и со всею возможной наглядностью наслаждается видом полочек, опутанных узорами макраме, глиняных кувшинов, ваз, расписных подносов и наборов баночек. И любуется натюрмортом с изображением на белой скатерти расколотого яйца и скосившегося на него многоглазого куска хлеба.
- Нравится?
- Твоей кухне необходимо присвоить статус музея. А собака! Собака – это что-то непредставимое! Как звать псину?
Гвидону хочется спрыгнуть на пол и обнять американского кокер-спаниеля, но морда спаниеля подобна лицу задумчивой, рассудительной и мудрой старушки. К тому же сам Гвидон является поклонником общения в стиле рококо, когда чувства выдерживаются в деликатно-нежных, учтиво-изысканных тонах. Особенно, с существами, способными и тяпнуть.
- Лафонтен, Лаф, Лафаня. Зови, как тебе больше нравится.
- Лафонтен! Лафаня!.. Не знаю...
- А ты скажешь, наконец, что мы отмечаем? Или нет? Может быть, я хочу тебе что-нибудь подарить, - в третий раз спрашивает Полина, демонстрируя широту модуляционных сдвигов щедрого голоса. – Если событие, нами отмечаемое, того заслуживает.
- Заслуживает. Сегодня ровно восемь дней со дня нашего знакомства.
- Ну вот. Чего-нибудь подобного я и ожидала, - удовлетворённая ответом Полина разочарованно качает головою.
Соединённость словесного маскарада и естественного фона незаорганизованного застолья безусловна. И время идёт быстрее, чем в непролазных условиях обыденности.
- А можно я позвоню? – Гвидон быстро поднялся на ноги, словно только что вспомнил о необходимости запланированного звонка.
Вскочила и собака, до того вполглаза наблюдавшая лишь за перемещениями еды над поверхностью стола.
- Я сейчас. Сиди! – Полина единым жестом усадила и Гвидона, и Лафонтена.
Полина принесла телефонный аппарат и подключила его к местной розетке.
- Алло! Это ты, Володя? Обещал тебе кассету занести, однако обстоятельства сложились так, что сегодня я этого сделать не смогу. Ничего, если я завтра это сделаю?
- Хорошо. Жду тебя завтра, - последовал ответ.
А пароль-то громоздкий, неуклюжий какой-то, ни грана изящества в нём, с неудовольствием отметил Гвидон про себя, а вслух помотал головой.
Пройдёт тридцать минут, и последует телефонный звонок.
Прошло тридцать минут, и зазвонил телефон.
- Полина! Тебя! – вскоре донёсся откуда-то запредельно подрагивающий голос.
Полина упорхнула, а Гвидон по-настоящему разволновался. В несколько стремительных касаний утомительные реакции настораживания вывинтили его из табуретки, и теперь он торчал вверх стройным шурупом, побелевшим от длительного воздействия древесной маски.
Абонент представился Полине дежурным по отделу милиции и сообщил, что следователем прокуратуры Переплешиным ему поручено передать ей телефонограмму. После этого он осуществил генеральную паузу и, прослаивая фразы равными интервалами, невидимыми и неосязаемыми, зачитал сухую телефонограмму, лексический балласт которой был максимально выхолощен холодком делового тона. В связи с необходимостью проведения дополнительной почерковедческой экспертизы Белькова приглашалась завтра в прокуратуру.
Трубка телефона стала неприятно влажной, и Полина переложила её в левую руку.
- А что случилось? – спросила она. – Ведь уже проводили эту экспертизу.
- Я же сообщил вам, что будет проведена дополнительная экспертиза.
- Для чего, объясните мне, пожалуйста?
- Это вы завтра у следователя спросите. Я не знаю. Почерк ваш, очевидно, очень похож на чей-то.
- А если я не смогу завтра прийти? И, кстати, прошу вас передать кому следует, что я не приду. Никак не смогу прийти. Так и передайте!
- Обождите минутку, - последовал ответ, - свяжусь с уголовным розыском. Они, кажется, в курсе этого дела.
Далее произошёл разговор дежурного с человеком по имени Александр Петрович, который вёлся посредством переговорного устройства – открытым текстом.
- Попробуй ей объяснить, что для неё же лучше будет, если она сама завтра придёт, - слышался голос Александра Петровича. – Сегодня уже собирались ехать арестовывать её.
- А что такое? – полюбопытствовал дежурный.
- В покушении на убийство она замешана. Пригрози ей приводом.
- Ладно, пока! – удалённо произнёс дежурный, после чего трубка приблизилась к его рту. – Гражданка Белькова, вам надлежит завтра явиться в обязательном порядке. При отсутствии уважительных причин неявки вы будете подвергнуты приводу.
- Как это?
- Милиционер возьмёт вас за ручку и приведёт к следователю.
- И какие это – уважительные причины?
- Тяжёлая болезнь, смерть и тому подобные неприятности.
Окончив телефонный разговор, Полина на секунду заглянула на кухню.
- Извини, бабушке плохо стало, - сказала она Гвидону. – Посиди, пожалуйста, пока один.
Гвидон увидел, что плохо ей, а не бабушке. Её улыбка была подобна замороженной улыбке новогодней маски, хотя и, не в пример последней, - трагически печальной и отнюдь не глупой.
- Я могу чем-нибудь помочь?
Гвидон с готовностью приподнялся с табуретки, но Полина, с прежней улыбкой на лице, однако явно непонимающим взглядом, коротко обернулась к нему и, ничего не ответив, прикрыла за собою дверь и быстро ушла.
В комнате, где находилась Полина и её бабушка, произошёл энергичный диалог. Тепло горячего обсуждения достигало кухни. Полина говорила более длинно, чем её бабушка, и голос её, искусственно удерживаемый, модулировал на грани среднего и верхнего регистров. Когда Полина говорила, с каждым вдохом подхватывая опускающуюся ритмическую волну, в звуках её речи Гвидоном ощущались волнение, отчаяние, упрёк, обида.
Звуковая нагрузка тяжким бременем легла на помещённого в сыщицкий фокус устремлений Гвидона и родила незаконное желание. Гвидон посмотрел на Лафонтена, который глубокомысленно возлежал на пообтрепавшемся куске ковра, и обратился к нему с вопросом:
- Что же делать будем, друг мой волосатый? Закон морального абсолюта в наших душах, коллега, никогда уж, видно, не приживётся. – Лафонтен, приподняв лежавшую на лапах голову, смотрел понимающе. – А если я сейчас приоткрою дверь да и подслушаю, о чём говорят твои хозяйки? Как на это смотришь, дружище? А в случае чего свалю на тебя, бессловесного.
Лафонтен, жмурясь, неспешно моргнул и опустил голову на лапы. Собака с человеческим лицом. Даже не верится, что она могла не понять, о чём только что говорилось вслух.
И Гвидон, как-то сразу и основательно забыв о собеседнике, поднялся и потянул дверь на себя.
- А ты давай доказывать: на машинке – это не то! – услышал он голос Полины и заметил, что интонацией передразнивания удлинённая фраза заняла больше пространства времени, чем следовало.
Но едва эти слова успели отзвучать в тесноте квартиры, как диалог Полины и её бабушки утратил для Гвидона необходимую степень актуальности. И виной тому – Лафонтен. Это человек одержим манией свои собственные ощущения, весь трепет человеческих отношений, все движения надмирной значимости расфасовывать по ячейкам слов. А собаке этого не надо. Всепроникающий чувственный разум распространил свою власть на все кусочки собачьей души. И пёс Полины (Лафонтен, Лаф, Лафаня), словно в подтверждение модного постулата о принципиальной незамкнутости всех систем тварного мира, разомкнул пасть, вскочил на свои четыре лапы и ухватил Тугарина за брюки. Гвидон рванулся в сторону и услышал продолжительный звук разрываемой ткани.
- Фу! – повелительно выкрикнул Гвидон и замер на пороге мрачного предчувствия.
Он опустил взгляд на рычащего пса, затем перевёл его на свою правую ногу. Утративший привычные связи огромный лоскут ткани ниспадал на колено, лишая цивилизованного прикрытия... мясистый покров бедренной кости.
И Гвидон вслух выразил досаду по поводу примитивности собачьей психоидеологии.
- Что же ты наделал, враг мой?! – сказал он, опечаленный осмыслением непоправимости с ним приключившегося. – Зачем? За что?
Лафонтен буркнул что-то и отвернулся. Возможно, он и сам теперь уже сомневался в правоте своих действий.
- Что здесь случилось, Лафонтен? – встревоженная Полина обращалась к своему псу, однако смотрела при этом почему-то на Гвидона.
Лафонтен молчал. Гвидону также отвечать не хотелось. Ни лгать, ни, тем более, говорить правду. Не лежала душа к речетворчеству. Он приподнял свисающий лоскут брюк и прикрыл оголённую часть ноги. Так и стоял, монументализируя печаль и обиду.
- Я дам тебе свои джинсы, Гвидон. Совсем не ожидала... Лафаня такой умный пёс. – Полина, виновато роняя через плечо растерянные взгляды, пошла с кухни. – А с брюками, может быть, можно... попытаться... Может, попробовать что-нибудь сделать?
Гвидон, с очевидной глубиной переживавший случившийся инцидент (ему и брюк было жаль, и перед Полиной неловко), побрёл за нею. Сделав три шага, он оглянулся – Лафонтен шёл за ним. Запоздало вскипевшая ярость рассутулила Гвидона. Он мог бы схватить собаку и... Но стихийному излиянию сильных чувств препятствовали преграды социокультурного характера. Гвидон обречённо расслабился.
Входя вслед за Полиной в комнату с цветным линолеумом на полу, Гвидон вспомнил о бабушке Полины. Он увидел бабушку Полины – в чёрных перчатках и цветастом платке – и вспомнил о её присутствии. И остановился на пороге, вновь подхватывая рукою безжизненный лоскут брючной ткани.
- Я с гораздо большим удовольствием, Полина, - сказал он, - с твоей бабушкой познакомился бы, а не с этим... Лафаней беспардонным.
Старушка – она сидела на дальнем конце дивана – повернула голову и посмотрела на Гвидона. И вскочила на ноги. По-молодому быстро, без какого-либо акцента стариковской закостенелости. Упругость движений причинила ущерб соотнесённости старушки с нетерпеливо ожидающей её вечностью. Тревожная взволнованность омолодила её.
Сквозь призму позднейших настроений, навеянных столкновением с Лафонтеном, тревожный свет пробился к рассудку Тугарина. Гвидон вспомнил фразу, услышанную им накануне беспамятства, вызванного неожиданным нападением собаки.
- Значит, вам всё известно? – произнесла в это время бабушка Полины, и лицо её остудило мрачное спокойствие человека, внезапно осознавшего в высшей степени горькую истину.
- Всё одному Богу известно, - осторожно ответил Гвидон. – И то в общих чертах, наверное.
Старая женщина неторопливо сняла перчатки и бросила их на диван. И сама устало опустилась рядом. Затем сняла платок и опустила седую голову навстречу с тягостной затруднённостью поднимаемой левой руке. А правая рука в это самое время была вознесена к затылку... Секунда или две были прожиты в неподвижности.
По истечении секунды или двух, прожитых в неподвижности, старуха решительно вскинула голову, и Гвидон остолбенело увидел, что в левой руке её остался седой парик, а на плечи и спину, рассыпаясь на множество струй, хлынула волна тёмно-коричневых волос с каштановым отливом. Молодые волосы и – Гвидон чуть подался вперёд, - да, стройные пальчики рук молодой женщины.
Гвидон энергично сморгнул раза два или три, однако от этого новое его мировидение не пострадало. Утверждают же, что окружающее сущее состоит из материи проявленных форм и непроявленных.
Так стоит ли поражаться тому, что линия мировых сил, непрерывными и неуловимыми извивами разгуливающая в пространстве (или в пространствах), порою вдруг – когда вихрь раскачивающего её времени присмиреет – проскальзывает под ноги реальной почвой, наполняя настоящее знакомым воздухом безыскусственной яви?
Так стоит ли удивляться тому, что интеллектуально-эмоциональные комплексы фантастически неустойчивого предстают иногда в доступных, осознанно-видимых формах?
По счастью, бывшая старушка не смотрела на Гвидона. Она закурила сигарету, расслабленно откинулась на спинку дивана и, топчась взглядом на небольшом участке противоположной стены, под самым потолком, заговорила:
- Я знала – что-то должно было произойти. Я чувствовала. Срезнев постоянно капал моему на мозги. Хотела сначала развестись с Мишкой, а потом уж провести перерегистрацию фирмы. После развода они оба, и Срезнев, и мой муженёк, превратились бы в жалких компаньонов. Хозяйкой фирмы была бы я, а не они. Я продала машину отцовскую, я продала всё своё золото, нутриевую шубу, посуду, всё продала... А Мишка и Срезнев вложили в дело жалкие гроши. Если всё честно сделать, им и десяти процентов на двоих за глаза бы…
Присев на краешек дивана, Гвидон смотрел на мягкий профиль женщины и слушал злую её речь. Полина, забыв об обещанных Тугарину джинсах, сидела напротив него, в кресле, и смотрела в пол.
- А круизы в деловых целях – им! Любят себя бизнесменами ощущать. Всё деньги им нужны были на представительские расходы! Особенно Срезневу. О-о, что ты! А пользы – кот наплакал. Обычно. Сволочи! Плебеи! Плебеи духа! Мне давно можно было догадаться, что они спят и видят, как бы от меня избавиться. Да я бы и не догадалась, дура простоволосая. А тут – надо же такому совпадению случиться! – иду (о, Господи!) из морга этого, к дому уже подхожу, метров сто осталось, а Мишка-то из машины выскакивает, резво так, да и домой бежит, о ноге больной не помня. Тут-то до меня и дошло... И другое кое-что припомнила... Как ночью проснулась, а его нет. Сказал утром – на площадку курить выходил. Как же! Всегда на кухне по вечерам курил, а тут – на площадку... А ночью-то курить он и вовсе не вставал никогда. В гараж он бегал, чтобы подстроить всё это... Догадался ведь как-то... Срезнев, может, подсказал.
- Накануне ветер сильный был, буря, - тихо вставил Гвидон. – Возможно, антенну ветром уронило.
- Если и ветром, - не глядя на него, ответила Екатерина Скалыга, - то – не до самого железа гаражного, скорее всего. Наклонило, наверное, только – они и додумались до такого. И уж во всяком случае – знал… Знал Мишка, что меня ожидает, когда на смерть утром отправлял. Вместо себя.
- И вы решили...
- Да, решила мстить. Но не убивать я их хотела. Нет. Они сами должны были уничтожить друг друга. А сейчас, когда вас увидела, поняла, что всё кончено. Видела, когда вы в машину садились, около милиции, чтобы Павлика догонять... А вообще, это уж точно, если бы Мишку и не убил Срезнев, то Мишка всё равно рано или поздно застрелился бы. Я бы всё сделала для этого. У меня...
- И вы привлекли Полину?
- Я бродила по городу, не зная, куда деваться, И встретила Полину. Мы с нею вместе занимались в драмкружке при Дворце пионеров... И я добилась бы своего. Тем более что были ключи от квартиры. В морге-то я уж совершенно голой очнулась. Без одежды и без косметички. О, Господи! Как вспомню... Открыла глаза – потолок грязно-белый такой. И – запах. И снова сознание потеряла. Слышала только, как вскрикнул кто-то, а потом – пьяный мужской голос: «Изыди! Изыди!» Потом снова пришла в себя. Вокруг голые тела: белые, бледно-зелёные, синие... Вдруг, думаю, сейчас встанет кто-нибудь! Ужас! Пошла к дверям между трупами. Смотрю – женщина молодая лежит. Совсем как живая. Даже как бы розовенькая. Я взяла и свою каталку в угол затолкнула, а каталку с этой женщиной на своё место поставила. Может, думаю, оно счастливое... Около дверей лежали одетые. Сняла с одного мужика куртку и надела её на голое тело. Она достаточно длинная, табаком воняла... К чему это я? Да, были ещё ключи у подруги одной – забыла я их в последний приход к ней. Сходила Полина за ними...
Скалыга закурила третью по счёту сигарету.
- Всё равно загнала бы его в угол. Я стала настоящей старухой. И я могла быть ею очень долго. Я уже почти привыкла к корсету – я сделала специальный корсет, в нём не разогнёшься. На улицу не выходила без корсета. И без пластинок пластиковых позади колен. Уж не говорю про платок, парик и перчатки. Слышите, какой у меня голос? Думаете, наверно, от курения? Вовсе нет. Полощу горло соляным раствором. А зубы мои видели? – она повернула голову к Тугарину и оскалилась. – Думаете, у меня всегда такие были? Специальная красящая паста. Я даже в уши вставляла восковые пробки. Но самое трудное – вот это. Видите? – Скалыга защипнула и с отвращением подёргала бледно-коричневую ткань чулок, укрывающих её ноги. – А Срезнев видел меня ещё ближе, чем вы сейчас. И не узнал. Хотя и разговаривал со мной.
- А если бы попали в него? – спросил Гвидон. – Ведь тогда он не смог бы убить… скажем, вашего мужа.
- Стреляла не в него, а в стену над головой. Когда работала на заводе, я занимала призовые места по стрельбе из мелкашки.
- Хотели, чтобы подозрение пало на мужа?
- Для этого я проинструктировала соответствующим образом мальчишку, который отнёс записку. И вознаградила его за услугу. И это удивительно, что до сих пор Мишка и Срезнев пребывают в состоянии чуть ли не дружбы.
Екатерина Скалыга дала мальчику тысячу рублей. Пацан был, что называется, из неблагополучной семьи. Таких сразу видно. Они не знают шарфов и перчаток, однако простудными заболеваниями страдают нечасто. Они лишь выбрасывают с первыми морозами зелёные флаги соплей, которые трепещут под их носами всю зиму, а под лучами апрельского солнышка сворачиваются в козлушки. Они не по-детски экономны в движениях, по-взрослому рассудительны и по-стариковски неряшливы. Их биологический возраст относителен источнику опасности. Авторитет, не способный опереться на силу, для них не существует.
Но иногда они бывают бесшабашными. А порой – очень чувствительны и сентиментальны. И этот парнишка, сказав «спасибо» за полученное от находившейся вместе со Скалыгой Полины яблоко, пришёл в крайнюю степень смущения. В смущении он уцепился зубами за яблоко и с опущенной головою отправился мотать круги вокруг крышки канализационного колодца. Полина показалась ему красивой. А мальчик уже знал, что красивая женщина и просто женщина – это не одно и то же.
Однако многого мальчишка ещё не знал.
А Екатерина Скалыга не знала, что Павлик скрыл от Срезнева результаты беседы с мальчиком, принёсшим записку и сообщившим приметы Михаила Скалыги. Сначала скрыл. А позднее, вечером того дня, когда Павлик счастливо ушёл от милицейской погони, он сказал Срезневу, что якобы случайно встретил того самого пацана и выпытал, кто поручил ему доставить анонимку адресату.
- Да, ради этого я взяла из нашей квартиры малокалиберную винтовку, - продолжала Екатерина Скалыга. – Когда бы Срезнев узнал, что стреляли в него из ТОЗ-12, то он, конечно, подумал бы на Мишку. Уж в этом-то я ничуть не сомневаюсь.
- Позвонить! – воскликнул Гвидон. – Мне надо позвонить.
- Мне-то что сейчас делать? – спросила Скалыга.
- Мы оформим явку с повинной, - ответил Гвидон, подходя к телефонному аппарату.
- А что же, ещё не поздно?
- Нет, не поздно, - набирая номер телефона Хряпина, сказал Гвидон. – Алло! Александр Петрович!.. Да, это я... Об этом потом, потом. Александр Петрович, ты говорил Срезневу, что в него стреляли из малокалиберной винтовки?.. Эх, зря! А не помнишь, когда Скалыга должен вернуться из командировки? Он же во вторник – помнишь? – в командировку... Сегодня? Уже половина десятого – значит, он, скорее всего, давно уже дома... Я потом всё объясню. Подскакивай, если сможешь, к дому Скалыги. Я сейчас туда, на такси...
- Что происходит? – спросила Екатерина Скалыга.
- Я позвоню вам, Екатерина Борисовна!
Гвидон поспешил к выходу из квартиры. Полина поднялась, намереваясь пойти проводить его, но передумала. Она села рядом с подругой и обняла её.
- А про меня и забыл. Штирлиц!
- Что же делать? – проговорила Екатерина Скалыга.
- Втёрся ко мне в доверие! А я уж думала…
Екатерина Скалыга сбросила с плеч своих руку Полины и вскочила на ноги.
- Явка с повинной! – возмущённо выкрикнула она. – Так что же это выходит?! Что я же ещё и виноватой стала? Ну уж нет! Я ещё не всё сказала. Ещё посмотрим, чья возьмёт!
Михаила Скалыги дома не оказалось. И вместе с подоспевшим Хряпиным Тугарин поехал к Срезневу. Выскакивая из автомобиля, Гвидон увидел знакомую фигуру женщины, входящей в подъезд Срезнева. Екатерина Скалыга была без седых волос и прочих атрибутов престарелой женщины. С помощью телефона убедившись в отсутствии дома Михаила Скалыги, она приехала к Срезневу.
- Вы куда?! – вбегая в подъезд, закричал Тугарин. – Подождите! Подождите! Их надо подготовить!
Но дверь уже отворялась. Открывший дверь Павлик – Гвидон успел заметить, что Павлик пьян, - в ужасе попятился в пасмурную глубь коридора. К восприятию движущегося воплощения облика блаженной и вечнодостойной памяти Екатерины Скалыги он не был готов. В это же время Екатерина Скалыга неожиданно сильно оттолкнула Тугарина, переступила порог квартиры Срезнева и захлопнула за собою дверь.
Срезнев и Скалыга уже в течение двух часов пили водку и выясняли отношения. Уже дважды они схватывались драться. Но затем всякий раз вновь приступали к совместному распитию спиртного и пламенем яростных слов полыхающему спору.
Когда следом за вбежавшим в комнату Павликом вошла Екатерина Скалыга, то Глеб Срезнев и Михаил Скалыга одновременно прервали потоки выкрикиваемых в лицо друг другу слов и вскочили со своих мест. Екатерина Скалыга приближалась медленно. Смотрела она на своего мужа, и Срезнев постарался незаметно присесть в кресло. А Михаил Скалыга отбежал в угол, к телевизору, и закричал:
- Не надо! Я сам! Я приду к тебе! Сам!
Он с надеждой глянул в сторону спасительного окна. И быстро принял решение. Правой ногой он вспрыгнул на стул и, лишь коснувшись левой ногою подоконника, вылетел, выбив оконную раму, наружу.
Павлик открыл стрельбу из пистолета.
- Дурак! – зарычал на него Срезнев. – Молитву творить надо, а не стрелять! – И, перепутав с молитвой одну из своих шуток, нередко им в весёлых застольях используемой, зашептал в молитвенном ритме: - Господи, буди милостив! Буде же кто злообычен в пьянстве, беспрерывно пьян или более времени в году пьян, нежели тверёз, того отдай на воздержание в смирительный дом, дондеже исправится.
Павлик выстрелил трижды. И все три пули прошли мимо. Лишь одна пуля вырвалась в коридор, пробила входную дверь и легко ранила Гвидона в ногу, в то самое место, которое сравнительно недавно было грубо оголено зубами Лафонтена.
И Михаилу Скалыге не повезло. Он не убился насмерть и травм, несовместимых с жизнью, не получил. Он только лишь сломал руку и довольно сильно порезался осколками стекол разбитого окна.