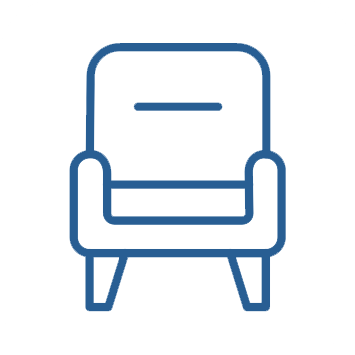- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
- Авто удобства
- Автозапчасти
- Автохимия
- Автоэлектроника и навигация
- Аксессуары для авто
- Внешний тюнинг
- Диагностика и ремонт
- Комплектующие для авто
- Масла и жидкости
- Мототовары
- Противоугонные системы
- Товары для костоправных работ
- Транспортные средства
- Фильтры
- Шины и диски
- Шумо и звуко изоляция
- Электрооборудование
- Электротранспорт
- Аудиотехника и наушники
- Бритвы и триммеры
- Бытовая техника
- Гаджеты
- Игры и развлечения
- Измерительные приборы
- Квадрокоптеры
- Настольные компьютеры
- Ноутбуки
- Оптические приборы
- Оргтехника и расходники
- Планшеты и электронные книги
- Смартфоны и телефоны
- Телевизоры и проекторы
- Товары для компьютера
- Фото и видеотехника
- Электроника для профессионалов
- Аксессуары для ванной
- Арома товары
- Бытовая химия
- Водонагреватели
- Грили, мангалы и барбекю
- Домашний текстиль
- Канцелярские товары
- Климатическое оборудование
- Мебель и интерьер
- Посуда и товары для кухни
- Продукты питания
- Растения
- Сад и огород
- Системы безопасности
- Хозтовары
- Хранение вещей
- Чай и Кофе
- Шторы и аксессуары
- Бетон, раствор, цемент, смеси
- Вентиляция
- Двери, окна и фурнитура
- Заборы и ворота
- Инструменты
- Крепеж и такелаж
- Кровельные материалы
- Лако-красочные материалы
- Металлические изделия и материалы
- Напольные покрытия
- Отделочные материалы
- Пиломатериалы
- Ремонт и строительство все
- Сантехника
- Стеновые материалы
- Стройматериалы
- Фасадные материалы
- Электрика и освещение
- Электроинструменты
- Автокресла
- Безопасность детей
- Детская гигиена, подгузники
- Детская мебель
- Детская одежда
- Детская электроника
- Детское питание
- Детское постельное белье
- Для новорожденных
- Игрушечный транспорт
- Игрушки антистресс
- Игрушки для малышей
- Игрушки для песочницы
- Каталки, качалки, прыгунки
- Коляски детские
- Конструкторы и мозаики
- Куклы и аксессуары
- Музыкальные игрушки
- Мягкие игрушки
- Настольные игры
- Одежда для малышей
- Принадлежности для малышей
- Развивающие игрушки
- Спортивные и подвижные игры
- Товары для детей и игрушки все
- Фигурки и роботы
- Электронные игрушки
- Белье
- Блузки и рубашки
- Брюки
- Верхняя одежда
- Джемперы, водолазки и кардиганы
- Джинсы
- Комбинезоны
- Костюмы
- Лонгсливы
- Майки
- Одежда и аксессуары
- Пиджаки, жилеты и жакеты
- Пижамы
- Платья и сарафаны
- Платья и сарафаны
- Подарки
- Рубашки
- Спецодежда
- Спортивная одежда
- Толстовки, свитшоты и худи
- Туники
- Футболки и поло
- Халаты
- Шорты
- Юбки
- Юбки
- IT, интернет, телеком
- Бытовые услуги
- Деловые услуги
- Искусство
- Красота, здоровье
- Курьерские поручения
- Мастер на час
- Няни, сиделки
- Оборудование, производство
- Обучение, курсы
- Охрана, безопасность
- Питание, кейтеринг
- Праздники, мероприятия
- Реклама, полиграфия
- Ремонт и обслуживание техники
- Ремонт, строительство
- Сад, благоустройство
- Транспорт, перевозки
- Уборка
- Установка техники
- Уход за животными
- Фото- и видеосъёмка
- Другое
Ведьма из Прокопьевска
Нинка Давлятшина
-

Михаил Анохин Ведьма из Прокопьевска
Приобрести произведение напрямую у автора на Цифровой Витрине. Скачать бесплатно.
Криминально-мистические похождения одной деревенской ведьмы в городе Прокопьевске и в Москве.
Какие эмоции у вас вызвало это произведение?

0

0

0

0

0

0
Читать бесплатно «Ведьма из Прокопьевска» ознакомительный фрагмент аудиокниги
Ведьма из Прокопьевска
Майор Ярыгин отложил в сторону рапорт
оперуполномоченного Алтухина, машинально размял «беломорину», но закуривать не
стал. Рабочий день только начинался, а
он решил «воспитывать себя» и до обеда, по крайней мере, не курить. Однако руки
сами собой нащупали в полуоткрытом ящике рабочего стола коробку спичек. Те же руки сами собой, без сознательного
вмешательства Ярыгина Петра Елисеевича,
начальника криминального отдела милиции города Прокопьевска, чиркнули о
коробку и подожгли размятую папироску.
Он осознал последствия бессознательных действий рук
только тогда, когда вместе
со струйкой табачного дыма в
легкие майора попал дым горящей бумаги.
– Черт! – в сердцах
произнес майор и отшвырнул папироску. – Стало быть, потеря нашлась, – пробурчал майор и направился к карте
города. На этот раз он все делал осознанно. Раздражало
его только одно обстоятельство:
сегодняшний день, как и вчерашний, и позавчерашний начался, как обычно, с просмотра рапортов и с папиросы.
– С рапортов – это ладно, –
проворчал майор, – а вот с папиросы... Сколько же можно?!
Выкуренная папироса определяла настроение Ярыгина, а причиной его обращения к карте города, как
мы уже сказали, был рапорт опера
Алтухина. Рапорт лежал на столе.
Стандартный листок из ученической тетрадки в клеточку, написанный таким же ученическим, еще не изломанным
писаниной почерком.
Майор, в отличие от многих своих коллег, был человеком начитанным, по крайней мере, в
пределах школьной программы по
литературе, и потому еще полгода
тому на карте обвел желтым
фломастером круг, сказав сам
себе: «Если звезды
загораются, значит, это кому-то нужно».
Звезды, то бишь люди,
действительно, если можно так выразиться, загорались. Точнее сказать,
сгорали, или терялись,
исчезали с завидным постоянством – как раз в этом районе города, который обвел полгода назад фломастером майор
Петр Елисеевич Ярыгин.
Во всех смыслах этот район не отличался от соседних и представлял
собою шахтовый поселок, каковых в городе ПРОКОПЬЕВСК насчитывалось более сорока.
Вместе они составляли город, но каждый из них жил отдельной жизнью и в
социальном срезе представлял собой замкнутое сообщество людей, из рода в род добывающих из подземных глубин уголь. Они не считали себя
горожанами и привычно говорили, усаживаясь в рейсовый автобус: «Я поехал (или я
поехала) в город». Так что пропадать
людям в районе поселка Низкий чаще, чем в других местах,
вроде бы причин не было. Но статистика – наука точная, и в этом районе
потерянных людей было в три раза больше,
чем во всех других местах города вместе взятых.
Ярыгин таких закономерностей не любил. Особенно он не любил, когда
причина ускользала из логических сетей анализа. Это вызывало в нем легкую
тревогу по поводу собственных
профессиональных способностей. А
этого майор и вовсе не терпел.
Опер Алтухин, написавший рапорт,
сидел в приемной и ждал вердикт начальства. В рапорте сообщалось, что мумифицированный труп исчезнувшего в прошлом году горнорабочего
очистного забоя шахты «Крутая» двадцатитрехлетнего Тютикова Степана
Валентиновича найден на
чердаке заброшенного дома без видимых
следов насильственной смерти.
Дело об исчезновении человека,
стало быть, надобно закрывать.
Исчезновение людей
опера Алтухина, в
отличие от майора Ярыгина, не
очень-то беспокоило, поскольку на его
участке хватало дел и без этого:
мордобой, кражи личного имущества и скота, участившиеся случаи продажи и
потребления наркотиков… Сидя в приемной, Алтухин нетерпеливо поглядывал то на
дверь своего начальника, то на часы. Он
спешил. Ему еще предстояло сегодня разобраться с очередным мордобоем, затем с
телесными повреждениями средней тяжести, и эти мероприятия желательно
было завершить до обеда, так как
после обеда нужно еще было встретиться с
гражданкой Бузыкиной, у которой вчера потерялась коза. А, кроме того, его
ждала еще целая куча бумажных дел.
Алтухину едва исполнилось тридцать лет, и его молодая жена не очень-то поощряла его вечерние вылазки
«по работе».
Вот о чем думал Анатолий
Алтухин, когда майор рассматривал
даже не карту города, которую он знал досконально, а собственный
желтый кружок на карте, как буддийский священник рассматривает
мандалу.
Негромкое «можно?» оторвало
его от созерцания и размышления, – это не выдержал долгого сидения опер Алтухин
и, приоткрыв дверь, побеспокоил начальство. Ярыгин сделал приглашающий жест.
– Входи, входи. Читал.
Нашлась, значит, пропажа?
– Да, Петр Елисеевич, нашлась. Повесился на
чердаке, а лето было в прошлом году, да
и нынче тоже, вон какое жаркое. Ну и подсушило труп, так что едва
опознали. Родственникам мы сообщили,
покойника вчера схоронили, так что дело можно отправлять в архив.
– В архив? – В руках
майора сами собой оказались спички, и он разглядывал их, не зная, зачем
вытащил из кармана. Руки автоматически
нащупывали в кармане пачку «Беломора», но она находилась в ящике стола, куда он
только что положил ее подальше от соблазна. Пауза затянулась. – Да, да, конечно, в архив. – Ярыгин прочнее уселся на стуле и, вскинув
на Алтухина свои карие глаза, спросил: – Сколько ему лет-то было?
– Кому?
– Ну, трупу, кому же еще,
этому, как его, Тютикову?
– Двадцать три. Год с
небольшим, как из армии пришел.
– Вот, – сказал Ярыгин и
в голосе его прозвучал упрек, адресованный неизвестно кому. Упрекать труп
Тютикова было бессмысленно, и потому Алтухину подумалось, что начальник
упрекает его самого.
– Не понял, Петр
Елисеевич.
– Я говорю, – с чего бы
это в таком возрасте, да в петлю?
– Ну, мало ли... – Алтухин немного замешкался, а
потом выпалил: – Например, из-за любви!
– Да? – черные
брови майора приподнялись от удивления. – Ты в этом уверен?
– Да я… – замялся
Алтухин.
– Ляпнул, да? –
Ярыгин автоматически открыл ящик стола и потянулся за папиросой, но
рука остановилась на полпути к пачке. Он крякнул в раздражении и сухо
сказал Алтухину: – А ты походи
вокруг покойника, поспрашивай,
может и правда – от любви? Кстати,
другие два «висяка» – мужчины не старше тебя, так что, может, также от
любви... Как ты думаешь?
– Петр Елисеевич! У меня дел и так выше крыши!
– Анатолий попытался отбрыкаться
от очередного ненавязчивого задания,
которое на самом деле являлось
приказом. Известно же, когда
начальство просит или советует, оно на
самом деле не просит и не советует, а приказывает. Но тут в голосе
непосредственного начальника было столько иронии, что опер засомневался: уж не
разыгрывают ли его? Но майор, похоже, не собирался шутить.
– Ты между делом так... осторожненько... не навязчиво, – гнул Ярыгин
своё. – Я же тебя сроками не
ограничиваю, может, все пустое, а,
может, и нет. – И для того чтобы
поставить окончательную точку, сказал: –
Есть же, в конце концов, уголовная статья – доведение до самоубийства.
Проклятый кружок на карте не давал ему
покоя. Майор не терпел загадок, тем более таких, когда теряются и беспричинно
вешаются люди. Он был твердо уверен, что причина или причины у всего есть, и
дело его ведомства эти причины найти. Найти и пресечь! Именно так, коротко,
ясно и жестко и выражался Ярыгин, когда собирал в этом кабинете своё воинство.
II
…Он встретил её в сумерках.
Она прошла рядом с ним, чуть
задела плечом и заглянула ему в
глаза. Она – это Нинка Давляшина, девица девятнадцати
годков. Степка Тютиков её
хорошо знал, впрочем, как и все парни в поселке Низкий. Нинка
Давляшина, секс-бомба местного масштаба,
та самая «киплинговская кошка», которая «ходит сама по себе».
В том, что Степан встретил Нинку в сумерках, не было ничего удивительного, поскольку Нинка днем отсыпалась, а
выходила, как она сама выражалась, «на охоту» по вечерам. Он и
раньше её встречал: то в местном
шахтовом клубе на танцульках, то в
компании с парнями, а то и в более интимной обстановке с малознакомыми парнями
за бутылкой портвейна или чего покрепче.
Нинка жила с матерью и
бабкой, и по поселку о матери, но
особенно о бабке, ходили самые разнообразные слухи, в которых отделить правду от вымысла было
невозможно. Дело в том, что никто не помнит, был ли какой-нибудь дедуля у бабки
и был ли у самой Нинки когда-нибудь отец. По
здравому и бесспорному размышлению
аборигенов поселка следовало, что дети без мужиков не рождаются
и что «шила в мешке не утаишь», но дальше этих сентенций
дело не шло. Никто не помнил никаких мужчин в
семействе Давляшиных. Это было
странное семейство, в котором рождались
одни девочки и не более чем в
единственном экземпляре.
Семейство Давляшиных жило в
собственном доме, который огородами
выходил к кладбищу.
Мать Нинки работала на шахте разнорабочей, то есть мыла полы в
бытовке и других местах обширного хозяйственного комплекса. Нинка не
работала нигде, да и не проявляла желания работать.
Следует сказать, что
описываемые события происходили в то далекое время, когда нигде не работать
считалось преступлением, поэтому Нинка была сущей головной болью для
соответствующих подразделений милиции, начиная
от участкового Гриненко, а теперь и опера Алтухина.
На все их увещевания
Нинка отвечала разнузданным
смехом и не менее разнузданной песенкой с рефреном: «Я у мамы за
избой, заработаю Прокопьевск..». Судя по
Нинкиным нарядам, немалое
количество шахтерских денежек перекочевало в её нежные и, наверное, умелые ручки.
В поведении Нинки была
одна особенность, резко отличающая ее от
прочих девиц этого сорта, – она сама выбирала,
как сама же и говорила, «перед
кем ноги раскидывать». Ни деньги, ни мольбы влюбленных не могли сломить её
волю. А в Нинку влюблялись многие…
Другую бы, но не Нинку,
давно бы отвалтузили, но Нинка была
девкой особенной: глянет – и самого
решительного парня, не робевшего
никогда в драках, вдруг озноб прошибает.
Вот такая она была –
эта девица из шахтового поселка. Однако сказать только это – значило сказать едва ли треть от того необходимого,
благодаря чему определялось отношение поселкового сообщества к семейству
Давляшиных.
Чем старше были люди летами, тем больше склонялись они к мнению,
что семейство Давляшиных – это семейство ведьм: и отсутствие в доме
мужчин, и отсутствие детей мужского пола в этом семействе, и странные,
слегка косящиеся глаза у всех трех Давляшиных, есть верная примета ведьм.
Была еще масса и других
важных мелочей, которые, по мнению несознательных граждан, являлись доказательством колдовской породы Давляшиных. Как всегда, представительниц женского
полу, усмотревших в Давляшиных
потомственных ведьм, было больше, чем
мужчин. Наверное, женщины были правы. Они
инстинктивно считали угрозой для
собственной семьи таких «кошечек», как
Давляшина. Люди вообще не любят, когда кто-то живет не как все, или имеет
суждение не такое, как у
всех. Давляшиных не любили. Не
любили и боялись. Ходили слухи, что они
наводят порчу не только на скотину, но и
на мужиков. Какая же
женщина останется равнодушной к тому, что её мужика «портят»?
Так вот, в августе 1987 года Степка Тютиков встретил Нинку недалеко от
промтоварного магазина, где заросли ивняка, подпитываемого сточными водами шахт, вплотную подходили к центральной поселковой
улице Советская. Нинка была одета
в ситцевое платье, а носить под платьем белье в летнюю жару и духоту считала
«западло».
Нинка – плотная,
крепко сбитая деваха, с длинными,
как у манекенщицы ногами, и те, кто когда-нибудь имели доступ к её телу,
знали, что груди Нинки не нуждались в
«подпруге» и были по-девичьи тверды, как два спелых яблока.
Местный поэт Колька Семечкин, безнадежно влюбленный в Нинку, сочинил песню, которую часто пел в
сопровождении гитары «на пятачке», напротив всё того же промтоварного магазина.
«Твои губы, как
ягоды, твои груди как яблоки...»,
– гундосил Николай, стараясь придать своему голосу как можно больше интимности
и страсти: – Увлеки меня, Ниночка, позови за собой...»
Но жестокосердная Ниночка не звала
девятнадцатилетнего Кольку Семечкина, а
только увлекала. Бросится, бывало,
хохоча парню на колени при всех, и никого не смущаясь, спросит:
«Хочешь меня, Коленька?» И так прижмется к нему своими грудями, что бедный Коленька едва не
терял сознание, чувствуя, как острый сосок Нинки
упирается ему в грудь.
Отхохочется бесстыжая девка, и
тут же уйдет с каким-нибудь тридцатилетним мужиком, разведенным или неженатым, а то и с женатым –
стройная, длинноногая с гордо поднятой головой, всем своим видом показывая: плевать, мол, я
хотела на вас с высоты террикона!»
А как Нинка умела любить!
Об этом рассказывали те, на
кого пал её выбор: Нинка рыдала, смеялась,
стонала и теряла от страсти сознание.
Удержать Нинкино тело, подчинить его своей воле было
невозможно даже самому крепкому мужику, который свободно усмирял дикий норов
бурового станка!
А как она целовала! Она
не целовала, а пила мужчину, как пьют доброе вино из узкого и высокого бокала –
долго-долго, безостановочно
смакуя каждый атом опьяняющего напитка.
И когда она вдоволь наслаждалась
мужчиной и выпивала из него
последнюю каплю, то со смехом отбрасывала его в сторону, как пустой сосуд.
Хмельная, шалая уходила прочь, как будто ничего и не было, как будто только что не шептала она ему на
ухо, не кричала ему самые что ни на есть потаенные и завлекательные слова,
которые говорят друг другу влюбленные.
Она вставала и недоуменно
смотрела на обессилевшего мужика как на нечто странное, ничтожное, как на какую-то половую
тряпку: ну было, мол, что-то там, на полу, вытерла, так в чем же
дело?
Другой, недогадливый, бывало, подойдет к Нинке и
станет ей напоминать о её словах,
которые она ему всю ночь нашептывала, начнет объясняться в любви, а она
смотрит на него, словно видит впервые, да как захохочет на всю улицу, словно тот рассказал ей анекдот какой-то
особенный…
Отхохочется, да и
скажет, как ножом отрежет: «А пошел ты
на хер! Тоже мне, любовник выискался! Много вас таких, на меня
охочих!»
И плевать ей,
где такое сказать и при ком.
Бывало, вылепит нечто подобное, а то и похлеще где-нибудь в людном месте, и хоть провались мужику,
а ей хоть бы хны, бровью не поведет,
даже тогда, когда кто-нибудь скажет: «Уймись, бесстыжая!»
Я опять о том же: встретил её Степка Тютиков в тот
августовский вечер, и
Нинка прошла мимо него, только взглядом обожгла. Особенным взглядом, потому что Нинка по-разному могла
смотреть: просто так, как обычно люди
смотрят, и обжигая. И пошел Степка за ней, как приблудная собака идет за тем,
кто даст ей краюху хлеба. Нинка знала, что он идет за ней, и не может не идти, потому что она на Степку Тютикова «глаз
положила». Этот секрет ей бабка
открыла, когда Нинке исполнилось
шестнадцать лет.
– Смотреть надо так, –
говорила бабка, – как будто приказываешь,
будто ударяешь взглядом по его лицу. Вот так. У тебя это должно
получиться. Вот так. Поняла? – Нинка
была понятливая, и за два вечера
бабкину науку усвоила.
«И нет такого человека,
который бы устоял перед твоим взглядом,
если всю силу в него вложишь, –
говорила бабка. – Все живое, душу имеющее,
эту силу чувствует и ей подчиняется».
Но не все сказала ей бабка в тот раз, главное оставила на потом. Тем более что Нинка не
очень-то и поверила всему тому, что услышала, полагая, что мать с
бабушкой исключительно по темноте своей используют такие дремучие
представления, как потусторонние силы, бесы,
демоны и так далее. К тому
времени Нинка прочитала кое-какие книжки и знала, что у некоторых людей есть способность к
гипнозу, и бабкину науку
восприняла как развитие в себе природных гипнотических способностей.
Однако через год-два
после первого разговора все та же бабка сказала ей: «Ты, девонька, я вижу, считаешь мои слова об
источнике твоей силы сказкой. Так
вот хочу тебе сказать, что в моих словах
нет ничего сказочного, и сегодня, покуда
ты еще девка, хочу тебе показать твоего хозяина и нашего владыку.